Религия древнего Рима [Жорж Э. Дюмезиль] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Georges Dumézil
LA RELIGION ROMAINE ARCHAÏQUE,
avec un appendice sur la religion des Étrusques
Жорж Дюмезиль
РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО РИМА
с приложением, посвященным религии этрусков
Латинская структура и ее индоевропейские константы (римская вечность в оптике Жоржа Дюмезиля)
Структурализм, непонятый
Работа Жоржа Дюмезиля (1898–1986) «Религия древнего Рима»[1] имеет огромное значение не только для религиоведения и антиковедения как такового, но шире — для социологии, антропологии и философии (особенно в контексте структурализма). Дюмезиль был одним из общепризнанных основоположников структурализма, продолжая линию Соссюра и русских лингвистов (Н. Трубецкого и Р. Якобсона) и оказав серьезное влияние на Мишеля Фуко. Сразу следует сказать несколько слов в отношении структурализма. Этим течением были увлечены многие мыслители в 60-е и 70-е годы ХХ в., но с середины 70-х повальная мода на структурализм почти мгновенно прошла, и все как нечто само собой разумеющееся приняли пост-структуралистскую установку Фуко, особенно Делеза, и постмодернистов в целом: «Мол, “структуры на улицы не выходят”». Эта остроумная шутка закрыла собой колоссально интересные направления в философии ХХ в., столь же важные, как психоанализ — феноменологию и Dasein-философию (фундаменталь-онтологию). То, что структура неизменна, и было главным открытием структуралистов. И вот на заборе в Париже появляется надпись «структуры на улицы не выходят», и это посчитали приговором. Зачем нам структура, если она неизменна? Нам нужна ризома. Может быть, это и так. Но та легкость, с которой интеллектуалы перешли от структур к пост-структурам, настораживает. Возникают вопросы: «Вы действительно все поняли из того, что хотели сказать структуралисты? Вы достаточно глубоко осмыслили метафизику структурализма, оценили масштаб ее влияния на язык, культуру, мышление, логику, историю и т. д.?» Я допускаю, что постмодернистский авангард постмодернизма — прежде всего, Делез, — ясно понимал все, что делал, «преодолевая структурализм». Но вот тысячи других, кто последовали за остроумным и действительно гениальным крысоловом от философии — они также осознавали, что делают? Одним словом, как вчера все были структуралистами, так назавтра у структуралистов не осталось защитников. «Коровы съели венок на голове Заратустры, пока он спал. Заратустра не ученый более». Но Жорж Дюмезиль никак не относился к легковесным, легко увлекаемым и совращаемым модой мыслителям одного дня. Он продолжал свои исследования методично и последовательно. Каждый новый том и каждая новая серия статей снова и снова показывала, истолковывала, проясняла, проблематизировала, подвергала критике и снова защищала структуру. Как Хайдеггер признавался, что был «озарен Dasein’ом», мысль о котором снизошла на него как философское Откровение, так Дюмезиль был «озарен структурой». И то, что он, в отличие от П. Рикёра, не любит давать определений структуры и строить на ее основании схем и моделей, не значит, что он не интересовался ее глубинной семантикой. Именно ею он и интересовался. Но только проникает он в структуру с огромной осторожностью, через тысячи иллюстраций, взятых из религии, мифологии, эпоса, этнологии, социологии, антропологии, а также истории, показывая сам главный объект своего внимания с предельной отчетливостью и наглядностью. Все, что Дюмезиль пишет, он пишет о сущности структуры. И каждый том его произведений, представляет собой часть грандиозной стереоскопической модели, проявляющей перед нами сущность, могущество и само бытие структуры. Любое интеллектуально вменяемое общество должно знать всего Дюмезиля. Он — писатель целого, и бесконечные мифологические детали, которые могут показаться излишними для изложения главной мысли, на самом деле суть строительный материал совершенно новой и оригинальной философии, без которого не будет самого величественного здания структурализма и принципиального для его архитектуры купола Дюмезиля.Структура и индоевропейцы
Для экономии изложения, но совершенно не отменяя необходимости прочесть всего Дюмезиля прежде, чем составлять какое бы то ни было апологическое или критическое суждение о структурализме, а также постструктурализме, можно задаться вопросом: что такое структура? Структура — это вечные и неизменные законы механики мышления. Все, что меняется, меняется на поверхности структур, а следовательно, изменение всегда происходит на фоне неизменности, что и определяет его семантику. Измерение обретает смысл лишь в сопоставлении с неизменным. Более того, если нет (в онтологическом смысле) неизменного, то нет и изменения. Это принцип онтологии вечности, примененный к языку, мышлению, психологии, обществу или эпистемологии (М. Фуко). Структура воплощает в себе истоки смыслов, которые играют на ее поверхности как тени или как пузыри воздуха, поднявшиеся из глубины и превратившиеся в пену. И если потоки, бури и водовороты увлекают за собой поверхностные слои моря, то у самого дна ничего не меняется. Но именно дно своей неподвижностью предопределяет движение. Движение все делает относительным, но эта относительность движения конституируется неизменностью. Именно это обнаружили структурные лингвисты: структура языка неизменна, а речь (как переменная) становится осмысленной лишь в соотношении с ней. Так, в начале оттеняется, а затем упраздняется, теряясь где-то в несущественном, денотат. А смысл рождается из соотношения речи, дискурса и языка. При этом внешнего — по отношению к языку — мира может вообще не быть, вернее, если он хочет быть, он должен войти в язык. Что-то подобное и в феноменологии. Есть интенциональный акт и его объект, интентум. Все остальное — за пределом интенциональности — опционально: всего равно никакого содержания оно не имеет. Это не значит, что его нет, просто это уже неважно. Больше не важно. Вот на этом Дюмезиль и основывает свою школу. Для работы со структурой и ее сущностью он заведомо выбирает ограниченную область. Его интересует, не все, что попало, но индоевропейцы. Тех, кого интересуют другие культуры, неиндоевропейцы, вольны искать структуры других народов[2]. Дюмезиля же волнует индоевропейская структура, т. е. семантическая вечность их сознания, то что делает их ими самими и на фоне чего развертываются захватывающие историалы и религии всех индоевропейских народов. Переменные составляющие всякий раз разные — от от эпохе к эпохе, и от народа к народу, но есть нечто, что неизменно для всех. Это и есть структура, и это ищет Дюмезиль. То, что в качестве одного из основных объектов рассмотрения он обращается к Риму, причем к «архаической религии римлян», это вполне предсказуемо, Рим положил основу европейской культуры, религии и политики последних двух тысячелетий. И тем более важно понять, что стоит у самых истоков Рима? Какова самая ранняя версия европейской структуры в ее римском выражении? Дюмезиль больше всего внимания уделяет Риму и Индии, западу и востоку индоевропейской ойкумены. И это сравнение, которое он постоянно держит в уме, многократно, через сотни итераций делает совершенно эксплицитной формулу индоевропейского начала — трехфункциональность.Трехфункциональность
Исследуя структуры мифологии и религиозные представления различных индоевропейских народов Жорж Дюмезиль разработал теорию трехфункциональной структуры общества. Трехфункциональность — это второе «озарение» Дюмезиля. Это и то, что лежит на поверхности, и то, что отражает скрытые глубины. Трехфункциональность — это код структуры в ее индоевропейском выражении. Трехфункциональность отчасти и есть сама эта структура. Смысл трехфункциональности можно свести к следующему: индоевропейское общество непрерывно и неизменно воспроизводит само себя через семантический (прежде всего), но также и политический, идеологический и онтологический акты распределения всего общества по трем основным функциям: • жрецы, брахманы, фламины, друиды, иереи, • воины, кшатрии, нобли, • производители, крестьяне, земледельцы, создатели телесных благ. В качестве примера философского выражения этой трехфункциональной системы можно взять модель «Государства» Платона. Три описанных там типа граждан строго соответствуют чистой индоевропейской модели: • стражники (философы) соответствуют первой функции, • помощники (воины) — второй, • ремесленники и крестьяне (демиурги) — третьей. Это распределение, с точки зрения Дюмезиля, является ключом к религии, философии, мифологии, а равно к историческим хроникам и конкретным социологическим моделям индоевропейских обществ на протяжении всей истории — с изначальных времен до настоящего времени. Это суть трехфункциональной индоевропейской идеологии[3]. При этом Дюмезиль настаивает на том, что трехфункциональная модель является особенностью только и исключительно индоевропейских народов, т. е. представляет собой алгоритм только одного культурного круга — индоевропейского. К индоевропейцам относятся римляне (которым посвящена данная работа), греки, германцы, кельты, славяне, хетты, скифы, иранцы, индусы и множество других народов, говорящих на языках индоевропейской группы, имеющих общую модель и общую систему. Самые чистые формы трехфункционального алгоритма Дюмезиль обнаружил в Нартском эпосе, сохранившемся у многих народов Северного Кавказа и прежде всего у современных осетин, прямых потомков скифов[4], которые, по его мнению, представляет собой точное воспроизводство социальной структуры кочевых народов Древней Евразии. В то же время кочевые индоевропейские империи продолжили еще более древние социальные традиции, общие вообще для всех индоевропейцев — от римлян, греков до хеттов, персов, индусов, кельтов, германцев, балтов и славян. Культурный круг индоевропейских обществ, по Дюмезилю, всегда отличался тем, что он неизменно воспроизводил одну и ту же тройную схему: жрецы — воины — производители (крестьяне), с помощью которой интерпретировали мифы, религии, общественные процессы, исторические события, культуру и искусство. Можно говорить об изначальной трехфункциональной философии, повторяющей в разных культурных обрамлениях один и тот же морфологический узор. Трехфункциональность применяется ко всему — к бытию, к космологии, к истории, к обществу, к политике, к религии, к гендеру, к хозяйственной деятельности и т. д. Трехфункциональная структура так же «тотальна», как «тотальные поставки», о которых говорил М. Мосс: она есть все, и все, что есть, есть через нее, через свое место в ней. Явления, которое не находило бы своего места в трехфункциональной структуре, для индоевропейца не существует, потому, что не имеет, ни имени, ни смысла, ни основания. Такое явление просто не замечается, не попадает в сферу онтического внимания. Дюмезиль развертывает трехфункциональную теорию, классифицируя по ее признакам огромные массивы мифологического и исторического материала — индуистской традиции[5](от Вед до Упанишад, Махабхараты и народных сказок), иранской традиции[6] (от Зенд-Авесты до Шахнаме и фольклора), скандинавской Эдды[7], римских исторических хроник[8] (воспроизводящих один и тот же мифологический трехфункциональный мотив), славянских и балтийских преданий и легенд, Нартского эпоса[9] и т. д. Повсюду он обнаруживает неизменную оппозицию: небесные светлые сущности (боги в мифах — жрецы в обществе), сопряженные с чистотой, справедливостью, властью, мудростью, с одной стороны, и темные хтонические сущности (демоны, хтонические божества в мифах — крестьяне и ремесленники в обществе), сопряженные с богатством, сокровищами, материальностью, телесностью, опьянением, страстью, эротизмом (женское начало), растительностью, магией, смертью — с другой. А между ними — примыкающий скорее к высшим сущностям промежуточный тип богов-помощников, духов, ангелов в мифах и воинов в обществе. Эта схема остается неизменной и воспроизводится в течение тысячелетий в обществах, созданных индоевропейцами от Западной Европы до Южной Азии (Индия) и тех неиндоевропейских культур, в которые из Индии распространялись индоевропейские традиции, и прежде всего буддизм (Китай, Тибет, Индокитай, Индонезия и т. д.).Антиэвгемеризм
Важнейшим открытием Дюмезиля стал принцип антиэвгемеризма как метод интерпретации исторических хроник. Греческий философ Эвгемер из Мессены, принадлежавший к школе киренаиков, предложил интерпретировать мифы и истории про богов и мифических существ как транспозицию реальных событий, действующими лицами которых выступали обычные люди, на уровень воображаемых ситуаций и выдуманных существ. Такая «гуманистическая» интерпретации мифа получала название «эвгемеризм». Дюмезиль в ходе своих исследований римских исторических хроник приходит к прямо противоположным выводам. Не миф строится как отражение реальной истории, но история, напротив, представляет собой не что иное, как стилизованный миф. Все описания основания Рима, детали приезда троянцев Энея и первых мифических царей (Ромула, Рема, Нумы и т. д.) и все сопровождающие события, по Дюмезилю, отражают пересказываемый на разные лады миф о трех функциях — обделенных богатствами и женщинами жрецах, сакральных царях (троянцы, в случае Энея; партеногенетические дети весталки Реи Сильвии, потомки Энея, Ромул и Рем, — в другом) — пришельцах, с одной стороны, и автохтонных аграрных хранителях богатств и женщин — с другой (царь Латин, в первом случае; сабиняне Тита Татия — во втором)[10]. Кроме того, носителями промежуточной функции с ярко выраженными воинскими чертами выступают этруски[11]. Таким образом, не история дает почву мифа, а миф вуалирует себя под видом истории. Показательно, утверждает Дюмезиль, что трехфункциональная модель интерпретации общества, мира, религии, бытия и т. д., сохраняет свое центральное место и решающее интерпретационное значение даже в тех случаях, когда в обществе по той или иной причине социальная модель отклоняется от строгой трехкастовой системы. В этом случае структурная интерпретация автономизируется от исторической реальности и рано или поздно подчиняет ее себе, снова воспроизводя свою схематическую модель[12].Этносоциология трехфункциональной модели
В многочисленных примерах трехфункциональной системы, собранных и систематизированных Дюмезилем, обращает на себя внимание следующая особенность, которая у самого Дюмезиля развитого объяснения не получила. В постоянно повторяющихся сюжетах о возникновении трехфункциональной модели почти всегда можно прочитать намек на то, что две высшие касты — жрецы и воины — являются пришельцами, а третья каста — крестьян, ремесленников, производителей, — автохтонами. И хотя все три функции в индоевропейских обществах образуют единое и неделимое целое, о чем и повествуют мифы, легенды, эпопеи и хроники, в основании всегда лежит момент встречи двух типов — высших каст с низшей. Далее уже повествуется о симбиозе. В этносоциологии[13] (в частности, Р. Турнвальд, В. Мюльман и т. д.) это объясняется аллогенной теорией государства (также Л. Гумплович[14]), согласно которой большинство государств создается через исторический факт завоевания агрессивными воинственными обществами скотоводов-кочевников мирных оседлых обществ землепашцев. В каждом государстве, таким образом, наличествует два этнических пласта: элита (жрецы и воины, потомки воинственных кочевников) и массы (местное крестьянское и ремесленническое большинство). Если добавить к трехфункциональной системе Дюмезиля эту поправку, то мы можем даже в рамках вполне однородного индоевропейского общества выделить завуалированной трехфункциональной системой изначальный этнодуализм иерархического типа: высшие касты являются носителями одной этнокультурной формы, низшие — другой. В таком случае, трехфункциональная модель делится на две половины: жрецы и воины составляют социологический синоним «богов», дэвов индуизма, асов древних германцев, а крестьяне и простолюдины — «демонов» и асуров в индуизме и ванов у древних германцев. И этот дуализм, развертываемый при необходимости в трехфункциональность, прозрачно соответствует, в таком случае, гендерному дуализму.Значение идей Дюмезиля
Дюмезиль детально описывает матрицу индоевропейских обществ, восстанавливая ее наиболее общую и чистую форму. Можно сказать, что он реконструирует структуру индоевропейского Логоса, выявляет индоевропейский культурный код[15]. Поскольку этот код преобладает в греческой, римской, иранской, индусской, туранской и христианской цивилизациях, он становится одним из главных предметов исследования плюральной антропологии. С одной стороны, Дюмезиль показывает тот общий знаменатель, которой можно выделить в множестве разнообразных индоевропейских культур. А с другой, позволяет найти критерий, на основании которого можно проводить сравнительный анализ индоевропейских обществ с неиндоевропейскими. Спор о том, применима ли трехфункциональная система к неиндоевропейским обществам ведется до сих пор с момента первых формулировок теории самим Дюмезилем, настаивающем на том, что трехфункциональность есть исключительный признак только индоевропейских народов. Индоевропейский тип общества имеет прямые соответствия с Тураном позднего Шпенглера[16] и с героическим типом цивилизации у Эволы[17]. Эти сопоставления также могли бы дать важные и значимые результаты. Огромным значением наделен также предложенный Дюмезилем структуралистский подход к социологии индоевропейских обществ, согласно которому в них сохраняется удивительная преемственность функций при всем историческом многообразии их религиозных и идеологических оформлений в разных и подчас прямо противоположных контекстах. Антиэвгемеризм Дюмезиля показывает относительность диахронического историцизма, который не только не объясняет мифы и религии отсылкой к событиям и историческим личностям, но убедительно доказывает, что события и личности становятся «историческими» только в том случае, если им находится соответствующая роль в ткани неизменного и устойчивого «вечного» мифа. История не сменяет собой миф, но сама является ни чем иным, как одной из форм мифического нарратива. История есть только и исключительно интерпретация, и если у события отсутствует место в матрице интерпретации, оно просто не фиксируется и не наделяется «историческим» бытием, которым может снабдить его только миф.Индоевропейские истоки архаического Рима
В книге «Религия древнего Рима» Дюмезиль дает исчерпывающее и подробное емкое описание римской структуры. Прежде всего он постулирует римскую трехфункциональность через триаду главных богов: • Юпитер • Марс • Квирин. Если центральность Юпитера и Марса не вызывают сомнений, то внимание, уделяемое Квирину, обычно находящемуся в тени более контрастных и знаменитых божеств, как раз и показывает стремление Дюмезиля к исследованию архаической составляющей римской религии, т. е. наиболее древнего и изначального ее пласта. Квирин — бог третьей функции, урожая, зерна, благополучия и свадеб. Это божество телесного мира, которое сопрягается со всем циклом хтонических обрядов, ритуалов и представлений. Как мы видели, в этносоциологической перспективе это значит также, что это наименее индоевропейское — по меньшей мере, наименее римское — божество, интегрированное в общую структуру в ходе построения в Лации и в Италии полноценной и развернутой трехфункциональности. Архетипы Юпитера, Марса и Квирина организуют вокруг себя (как вокруг семантических осей) коллегии жрецов, систему политического управления, брачные установления, систему ведения хозяйства. Дюмезиль замечает, что в архаической религии римлян нет мифов, которые пришли позднее вместе с эллинизмом из Греции и Восточного Средиземноморья. В архаической доэллинистической версии латинской религии все строится вокруг функций в чистом виде, и даже самые главные фигуры богов — такие, как Марс — представляются не в виде человекоподобного воина, а в виде копья (как у древних скифов). Так же отчетливо они представлены к коллегиях жрецов и годовых обрядах. Выявив римскую архаическую триаду Юпитер — Марс— Квирин, Дюмезиль с ее помощью как grille de lecture дешифрует и древнюю римскую теологию — ее триады и ее симметрии, вскрывая такую изначальную черту, как связь женских божеств с хтоническим уровнем и третьей функции. Сама римская Минерва, отождествленная с Афиной, мыслится здесь как Femina Fabrix, покровительница ремесел и ремесленников, т. е. homo faber. Это же касается и других богинь — все они на разные лады отражают горизонт третьей функции. Далее тот же самый принцип применяется к обрядовым практикам и типам жрецов, которых также можно распределить в соответствии с тремя функциями. В области этносоциологии третья функция представлена сабиями и прежде всего сабинянками, «богатым» царем Титом Татием. Этруски же, не являвшиеся индоевропейцами и принадлежащие, скорее всего, к «народам моря», среди которых преобладал матриархат, интегрируются в одних случаях в касту воинов, а в других — в особый класс хтонических жрецов, связанных с обрядами Земли, женщины и смерти, т. е. снова с третьей функцией. Обобщая все это, мы получаем уникальное «насыщенное описание» (К. Гирц) древнеримской культуры, сквозь любые элементы которой отныне проступает ее сущность, ставшая явной и ясной благодаря интеллектуальному подвигу Жоржа Дюмезиля. На мой взгляд, «La Religion romaine archaïque» — это лучшая книга среди множества других, написанная о римской традиции, потому, что после нее остается твердая уверенность, что мы что-то поняли в Древнем Риме, а значит, и в самих себе, поскольку влияние Древнего Рима на всех европейцев и индоевропейцев, а тем более на граждан Третьего Рима является всякий раз огромным, и во многих случаях решающим.А. Г. Дугин, Москва, 1 сентября 2017
ОТ ИЗДАТЕЛЯ
В мои планы изначально не входило комментировать сочинение Дюмезиля, однако некоторые положения статьи А. Г. Дугина почти что вынудили меня взяться за эту заметку, поскольку с таким пониманием французского текста я совершенно не согласен. Изложу свои соображения конспективно. 1) Представляется глубоко непонятным положение о том, что «Рим положил основу европейской культуры». Если само слово Европа — эллинское, если сознательное противопоставление европейцев азиатам происходит на Марафонском поле, а впервые приходит к слову у бившегося при Марафоне Эсхила, если наконец Исократ разрабатывает идеологию первого «крестового похода» европейцев против азиатов, — то причем тут Рим? Основу какой культуры он положил? 2) Учение Дюмезиля о трехфункциональном строении индоарийских обществ — это конструкт, восходящий не дальше Платона[18]. Собственно арийское учение о варнах, впервые встречающееся в Пуруша-сукте Ригведы (X, 90, 12) [19], делит общество на четыре страты, что бесконечно более реалистично. Ибо записывать крестьян и банкиров, художников и торговцев в одну страту, считать их явлением одной функции, да еще присовокупить к ним всех без разбора женщин — может, на мой взгляд, только человек, давно вживую не видевший человеческих лиц[20]. Ну и, разумеется, мы не должны забывать о неприкасаемых, которые не являются варной, но как страта — вряд ли моложе четырех богоизбранных варн: страта, без которой кастовое общество существовать никак не может (даже сейчас к этой группе — точнее, к тому, что от нее осталось, — принадлежит до 20 % индусов). В античном мире этими неприкасаемыми были рабы (если уж всерьез допустить возможность конвертации понятий). Итак, трехфункциональность представляется мне концептом и не слишком древним, и не слишком удачным (даже для описания такой немудреной религии, как римское язычество)[21]. 3) Удивительно как толкование эвгемеризма, так и антиэвгемеризма: «Не миф строится как отражение реальной истории, но история, напротив, представляет собой не что иное, как стилизованный миф». Но, во-первых, ни о мифе, ни об истории у реального Эвгемера речь не шла. Греческий «ученый» учил о том, что боги суть обожествленные люди — цари, например, (или блудницы, — с удовольствием добавляли в свое время христианские апологеты)[22]. И, во-вторых, когда Дюмезиль учит о богах как об именах и образах, называющих социальные функции, то это эвгемеризм в квадрате — социальный эвгемеризм, — но отнюдь не антиэвгемеризм. 4) Рассуждения о «пришельцах» (составивших высшие варны) и «автохтонах» (составивших низшую) — учитывая, что автохтонность, понимавшаяся также и как чистота крови, в греческой политической теории была всегда sine qua non политического доминирования (взять хотя бы блестящую речь Аспазии в платоновском Менексене, 236е—249с), — выглядят совершенно неубедительно. Платон, принадлежавший к высшей афинской аристократии, несомненно, считал себя чадом земли аттической, а отнюдь не пришельцем и не завоевателем. То, что так мыслили себя римские патриции, нуждавшиеся в троянских генеалогиях не меньше, чем московские цари в римских, — есть лучшее свидетельство того, что патрициями в свое время были названы те, кто помнил имя своего отца. И только. 5) И, наконец, совершенно не могу представить себе, чтобы после трудов блаж. Августина, видевшего римское язычество собственными глазами, сколько-то серьезный христианский мыслитель мог говорить об этой религии, не обсуждая вопрос демонолатрии — как самый ее принцип и последнее основание. То, что с этим справляется Дюмезиль, удивления у меня не вызывает, но позиция А. Г. Дугина мне совершенно не ясна. Такие я вижу здесь сложности.Т. Г. Сидаш
ОТ РЕДАКТОРА
Наше издание является русским переводом с французского оригинала 1974 г. Инициатором проекта выступил А. Г. Дугин. Для удобства читателя, дабы избежать излишней громоздкости текста, в русском издании снята часть примечаний библиографического характера. Пользуясь случаем, я благодарю Татьяну Исааковну Смолянскую, чей бескорыстный труд сделал издание возможным.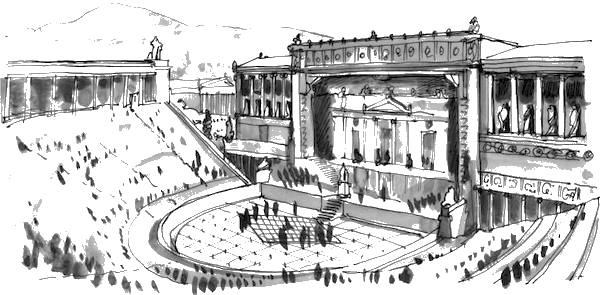
Предисловие
Коллегам и студентам, которые внимательно следят за моими исследованиями, я должен кратко объяснить, почему — будучи специалистом по мифологии и компаративистом — я беру на себя смелость (сознавая в полной мере, насколько рискованной является такая попытка) вторгнуться в сферу, принадлежащую по традиции латинистам или археологам. В тот момент, когда семь лет назад мне было сделано предложение принять участие в серии научных изданий, посвященных всем религиям человечества, и написать книгу по религии Рима, — оказалось, что это соответствует двум надобностям или даже почти необходимостям, связанным с моими собственными исследованиями. Уже два пятилетия прошли после написания моей небольшой книги «Индоевропейское наследие Рима». Это честолюбивое название, конечно, было преждевременным. В течение этих десяти лет я все время подвергал сомнению предложенные в ней результаты. Кроме того, я в разное время затрагивал множество новых проблем компаративистики. Итоги «наследия» оказались преобразованными. С одной стороны, они были в значительной мере расширены: четыре главы книги, написанной в 1949 г., вызвали у многих впечатление, что — кроме соединения имен Юпитера, Марса и Квирина — индоевропейское сравнение мало что дает для интерпретации религиозной деятельности в Риме. Я и сам так думал: в период между 1938 и 1949 гг., занимаясь самым неотложным, я сосредоточил исследование на этой ограниченной сфере. Однако в последующие годы рассмотрение различных обрядов, а также многих выдающихся деятелей (казалось бы, далеких от теологии) и важных религиозных понятий, не имеющих особого отношения к делению на три части, доказало, напротив, что объем материала, подлежащего сравнительному изучению, весьма обширен. С другой стороны, с этих новых позиций некоторые вопросы, которые прежде казались мне первостепенно важными в самой сфере трехчастности и которые я продолжал обсуждать, теперь утратили свое значение для меня. Например, проблема ценности (функциональной или нет) трех изначальных племен Рима. По мере продвижения моих научных исследований я обретал более четкое понимание как возможностей, так и ограниченности сравнительного метода. Это, в частности, касается предполагаемого золотого правила данного метода: он дает возможность распознавать и освещать структуру мышления, но неспособен реконструировать события, «воссоздать» не только историю, но и доисторический период. Этому искушению подвержены не только компаративисты, но столь же бесперспективно — и филологи, и археологи, и, конечно, историки. Сделанное мне предложение заставило меня систематически продолжать как научные исследования, так и пересмотр написанного ранее. В течение многих лет на семинарах в Высшей Школе (секция религиозных наук) и на лекциях в Коллеж де Франс я уделял этой тематике значительное внимание. Две серии докладов, сделанных перед моими молодыми собратьями с улицы Иет, а также обсуждения, проведенные многими из них, были мне чрезвычайно полезны. В отношении «Юпитер, Марс, Квирин», «Сельский Марс», «Фламин-Брахман», а также большого количества материалов, которыми я занимаюсь более тридцати лет, читатель найдет здесь вместо предыдущих набросков более четкую картину, более строгую, а иногда совершенно другую, чем ранее, полученную в результате этого рассмотрения. Со времени выхода моей книги «Индоевропейское наследие Рима», которая встретила отрицательное или сдержанное отношение у многих благорасположенных латинистов, я осознал необходимость другого подхода. Недостаточно извлечения из древнеримской религии того, что можно осветить с помощью религий других индоевропейских народов. Недостаточно распознавания и представления идеологической и теологической структуры, которая вырисовывается в свете связей с этими островками доисторических ритуалов и преданий. Необходимо вернуть их на их место, вернее, оставить их in situ в римской картине и проследить, как они вели себя в различные периоды римской религии — как они выживали или погибали, либо трансформировались. Иначе говоря, следует установить или восстановить преемственность между индоевропейским «наследием» и реальной римской действительностью. Я очень рано понял, что единственным способом осуществить это соединение — если оно вообще возможно — является смена угла зрения, т. е. надо связаться с теми людьми, которых необходимо убедить. Не отказываясь ни от достижений сравнительного метода, ни от результатов, достигнутых индоевропейскими научными исследованиями, следует присоединить к этому новому инструментарию — без каких-либо предпочтений — остальные традиционные методы исследования. Надо рассматривать Рим и его религию в самих себе, как таковые, ради них самих. Другими словами, после многих предпринятых ранее попыток, надо написать общую историю религии Римской республики с точки зрения самого Рима. Предложение издателя сделало такой проект реальным, однако меня пугал размах. В синтезе, представленном в этой книге, «индоевропейское наследие» — всего лишь один из элементов, наряду с остальными. Польза от такого сосуществования нового и древнего — не односторонняя: если оно сдерживает некоторые излишества первых сравнительных исследований, то само признание (в четко очерченных пределах) индоевропейского наследия в свою очередь ограничивает ту свободу, которую в течение полувека усвоила себе (как во Франции, так и за границей) «история» древнего Рима, и, в частности, история религии. В данной книге изложение носит четко консервативный характер, подтверждая множество данных из древних источников, на которые присвоили себе права неконтролируемая критика, а также домыслы некоторых школ и отдельных индивидов. В настоящее время мы присутствуем при таком утешительном эпизоде, какие нередко встречаются в развитии всех гуманитарных наук, когда новые точки зрения, новые способы наблюдения заново открывают очарование старых пейзажей, отказываясь от миражей, которыми их заменили. Если отбросить эти миражи, то исчезнет и часть трудностей, которые, казалось, отделяли «индоевропейский Рим» от Рима исторического. Все же остается одно обстоятельство, которое еще долго будет болезненно ощущаться. Соединение моей работы с «реальной действительностью» будет легче или труднее в зависимости от представления, которое можно будет себе составить — исходя из данных археологии — о протоисторическом и доисторическом периоде существования Рима. По правде говоря, ожесточенные споры, которые я вел по этим вопросам 20 или 30 лет назад, теперь мне уже не кажутся столь важными. В любом случае, какой бы ни была римская протоистория — даже при желании сохранить в ней сабинян — все равно события были поданы традиционной идеологией с искажениями фактов и домыслами, которые были внесены в летописи. Но, прежде всего, разногласия, которые разделяют теперь самых именитых представителей римской археологии в вопросе о возникновении Рима, достаточно убедительно доказывают, что домыслы, которые некоторые специалисты в этой области слишком смело называют «фактами», еще нуждаются в многочисленных доказательствах, чтобы быть удостоенными такой важной характеристики. Что касается меня, то я отдаю свое предпочтение строгой и точной методике, которую применяют М. А. von Gerkan и M. H. Müller-Karpe. Две небольшие книги этого последнего — «О возникновении Рима» (1959) и «К становлению Рима городом» (1962), вышедшие в 5-м и 8-м дополнительных номерах журнала Römische Mitteilungen — представляются мне вполне способными изгнать множество злых духов. Поскольку я говорил о тесном единстве, то мне кажется, что первая часть настоящей книги без труда могла бы быть присоединена в качестве пятой главы к его книге 1959 г., если бы только автор согласился с тем, что описанные в четвертой главе материальные следы — фигуры людей, сосуды, домашние урны — не дают нам не только всего целого, но даже основного количества сведений о древнейшей религии. В отношении вопроса о сабинянах — как первоначальной составляющей — и об изначальном населении Квиринала, в частности, я полностью согласен с тем, что сказано на страницах 38–39 (ср. с. 44–46 книги, вышедшей в 1962 г). Там говорится: «Старая концепция фон Дуна (von Dhun), согласно которой могилы, находящиеся на Квиринале и Эсквилине, являются прямым свидетельством о сабинянах, тогда как бóльшая часть могил на Форуме свидетельствует о латинянах, — в настоящее время стала несостоятельной. По всеобщему признанию, чрезвычайно трудно (и даже совершенно невозможно) установить эквивалентность между культурами, выявленными археологией, и группами языков или этническими общностями. Необходимо прежде всего отказаться от мысли, что похоронные обряды в начале железного века в Италии, и особенно в Риме, могут рассматриваться как этнические критерии. Различия форм и обычаев, существующие в Риме между тремя группами захоронений, следует интерпретировать в терминах хронологии, а не в терминах племенных различий». Будущее данных исследований было бы надежным, если бы специалисты в области различных наук, способствующих познанию древнего Рима, взяли на себя труд по уточнению, улучшению комплекса сведений, проблем и решений, которые предлагает компаративист. К сожалению, мы весьма далеки от подобного сотрудничества. Вызывает удивление, что, например, Курт Латте пишет учебник по римской религии, а Карл Кох составляет статью «Квирин» в Real-Encyclopädie, не удостоив вниманием факт существования умбрийской троицы Юпитер — Марс — Вофион, которая сама уже не позволяет объяснять римскую триаду Юпитер — Марс — Квирин только «римскими» причинами. Как бы то ни было, сборник моих статей, написанных ранее, но заново пересмотренных и отредактированных («Римские идеи»), и приложение дополнят эту книгу, так что все это в целом станет окончательным итогом моего исследования римской религии. Через 15–20 лет уже не я буду экспертом. Эту роль я охотно и с полным доверием предоставляю тем, кто моложе меня. Вот как я думаю управлять этим последним периодом моей жизни. Если труды господина Вернера Бетца (Werner Betz) избавляют меня от необходимости делать в отношении германского мира работу, аналогичную той, которую я проделал в этой книге, то для сферы ведического языка я хотел бы сам сообщить результаты своих компаративистских исследований, включив их в общую массу данных. Но, по-видимому, мне не хватит на это времени. Более срочным я считаю издание четырех книг, посвященных эпопее. Они выйдут под общим заглавием «Миф и Эпопея». Выход книги «Юпитер, Марс, Квирин» еще не определен точно, но она последует за предыдущими. Будет издана также книга о верховной власти, в которой будут опубликованы в переработанном виде мои старые очерки о Митре-Варуне, об Арьямане и о менее значительных властителях. Наконец, в духе свободы и справедливости, очерченных в конце «Предварительных Замечаний», я хочу представить молодежи исторический обзор моих исследований, которые двигались вперед не очень легко и просто. Я хочу также рассмотреть творчество моих основных противников, чтобы прояснить и частично обосновать их противостояние, поскольку свое несогласие они выражали иногда в необычной форме. И вообще я хочу высказать свое мнение об учителях моей юности и о том мире ученых, который я наблюдал или в котором сам участвовал. Первоначально данная книга задумывалась как часть серии книг на немецком языке, и рукопись, над которой я не переставал работать, была передана издателю в 1963 г. Так как сроки перевода очень затянулись, я восстановил свою свободу и благодарю господина Jean-Luc Pidoux-Payot за то, что он опубликовал мою книгу так скоро. Молодой японский ученый — господин Atsuhika Yoshida — любезно помог мне в подготовке указателей, причем дал мне в этой работе весьма ценные советы, которыми я смог воспользоваться.Жорж Дюмезиль
Сентябрь 1966 г.
В этом, втором, издании были исправлены некоторые ошибки и была упорядочена документация. Следует отметить также многочисленные дополнения к основному тексту, а также некоторые частные изменения, большая часть которых отражена в издании на английском языке (1970) и в итальянском переводе (в печати). Книги, о которых идет речь в конце Предисловия 1966 г., частично уже опубликованы: «Миф и Эпопея» I («Идеология трех функций в эпопеях индоевропейских народов»), 1968 г.; «Миф и Эпопея» II («Типы индоевропейского эпоса: герой, волшебник, царь»), 1973 г.; «Римские идеи», 1969 г.; «Миф и Эпопея» III («Римские истории»). Эта книга только что вышла. Готовится к печати еще том IV. К ним также прилагается переработанный вариант двух прежних книг: «Удача и неудача воина», где рассмотрены различные аспекты воинских функций у индоевропейских народов, 1969 г.; «От мифа к роману», «Сага о Хаддинге» и другие очерки, 1970.Ж. Д.
Апрель 1973.
Список сокращений
(Греческих и латинских авторов) Aelian. Anim. / V. H.: Клавдий Элиан, О природе животных / Пестрая история. App. B. C. / Pun.: Аппиан, Римская история, A-E / Пунические войны. Apul. Mag.: Апулей, Апология (О магии) Arn. Gent.: Арнобий, Против язычников. Aug. Ciu. D.: Аврелий Августин (Блаженный Августин), О граде Божием. Aur. Vict. Or.: Секст Виктор Аврелий, О происхождении римского народа. Caes. B. G.: Гай Юлий Цезарь, О галльской войне. Cass. Dio: Дион Кассий, Римская история. Cat.: Гай Валерий Катулл, Стихотворения. Cato Agr.: Марк Порций Катон, О земледелии. Cels.: Авл Корнелий Цельс, О медицине. Censor.: Цензорин, О дне рождения. Cic. Amic. / Arch. / Cael. / Diu. / Ep. ad Brut. / Font. / Har. Resp. / Leg. Agr. / Mil. / Mur. / Nat. d. / Philip. / Scaur. / Sen. / Sest. / Vat.: Марк Туллий Цицерон, О дружбе / В защиту поэта Архия / В защиту Марка Целия / О дивинации / Письма к Бруту / О земельном законе / В защиту Тита Анния Милона / В защиту Мурены / О при — роде богов / Филиппики / В защиту Эмилия Скавра / О старости / В защиту Публия Сестия / Против Публия Ватиния. Claud. B., Get.: Клавдий Клавдиан, Поллентская, или Гет-ская, война. Conon Narr.: Конон, Повествования. Diod. Sic.: Диодор Сицилийский, Историческая библиотека. Dion.: Дионисий Галикарнасский, Римские древности. Fest. L2 (Paul L2): Секст Помпей Фест, О значении слов (эпи-тома Павла Диакона). Flor.: Луций Анней Флор, Эпитомы римской истории. Gell.: Авл Геллий, Аттические ночи. Gloss. (Lat.): Glossaria (Latina), iussu Academiae Britannicae edita. Herod.: Геродот, История. Herodian.: Геродиан, История от Марка Аврелия. Hier. Epist.: Евсевий Иероним (Святой Иероним, Иероним Стридонский), Письма. Hor. ad Pis. / Carm. / Ep. / Epod. / Serm. // ps.-Acro in Hor., Porphyr. in Hor.: Квинт Гораций Флакк, Послание Пизонам / Оды / Послания / Эподы / Сатиры // Псевдо-Акрон, Порфирий, Схолии к Горацию. Hyg.: Гай Юлий Гигин, Фабулы (Мифы). Isid. Etym.: Исидор Севильский, Этимологии (или Начала). Jul. Obs.: Юлий Обсеквент, О чудесных явлениях. Justin.: Марк Юниан Юстин, Эпитомы сочинения Помпея Трога «ИсторияФилиппа». Juv.: Децим Юний Ювенал, Сатиры. Liv. / Liv. per.: Тит Ливий, История от основания города / Периохи всех книг. Luc. Phars.: Марк Анней Лукан, О гражданской войне (Фарсалия). Lucr.: Тит Лукреций Кар, О природе вещей. Lyd. Mens. / Ost.: Иоанн Лаврентий Лид, О месяцах / О происхождении и развитии искусства гадания. Macr.: Макробий, Сатурналии. Man. Astron.: Марк Манилий, Астрономика. Mart. Cap.: Марциан Капелла, О браке Филологии и Меркурия. Non. L.: Ноний Марцелл, Сжатая наука. Ov. Am. / F. / Met. / Pont, / Tr.: Публий Овидий Назон, Любовные элегии / Фасты / Метаморфозы / Письма с Понта / Скорби. Paul. L2: v. Фест L2. Paus.: Павсаний, Описание Эллады. Pers.: Авл Персий Флакк, Сатиры. Petr.: Петроний Арбитр, Сатирикон. Plaut. Amph. / Asin. / Aul. / Capt. / Gas. / Cure. / Men. / Mere. / Mil. / Pers. / Pseud. / Rud. / Stich. / Trin. / True.: Тит Макций Плавт, Амфитрион / Ослы / Пленники / Касина / Куркулион / Два Менехма / Купец / Хвастливый воин / Персы / Псевдол / Канат / Стих / Три монеты / Грубиян. Plin. N. H.: Гай Плиний Секунд (Плиний Старший), Естественная история. Plut. Aem. Paul. / Cass. / Cam. / Coy. / Crass. / C. Gr. / Mar. / Mare. / N (um). / Public. / R(om). / Syll. Mor. // Q. R. / De fral. am.: Плутарх, (Сравнительные жизнеописания) Эмилий Павел / Цезарь / Камилл / Кориолан / Красс / Гай Гракх / Марий / Марцелл / Нума / Публикола / Ромул / Сулла // Моралии: Римские вопросы, О братской любви. Pol.: Полибий, История. Procop. B. Got.: Прокопий Кесарийский, История Войн E-H. Sen. N. Q.: Луций Анней Сенека, Исследования о природе. Serv. (Serv. II): Мавр Сервий Гонорат, Комментарии к «Энеиде» Вергилия. Sil. It.: Силий Италик, Пуника. Solin.: Гай Юлий Солин, Собрание достопамятных сведений. Stat. S.: Публий Папиний Стаций, Сильвы. Strab.: Страбон, География Suet. Caes. / Vesp. // Gramm.: Гай Светоний Транквилл, Жизнь цезаря Веспасиана // О грамматиках. Tac. Ann. / G. / Hist.: Публий Корнелий Тацит, Анналы / Германия / История. Ter. Andr.: Публий Теренций Афр, Девушка с Андроса. Tert. An. / Idol. / Monog. / Nat. / Spect.: Квинт Септимий Тертуллиан, О душе / Об идолопоклонстве / О моногамии / К язычникам / О зрелищах. Tib.: Альбий Тибулл, Элегии. Val. Max.: Валерий Максим, Достопамятные деяния и изречения. Var. L. L. / R. R.: Марк Теренций Варрон, О латинском языке / О сельском хозяйстве. Verg. Aen. / Eel. / Georg. / Schol, Bern., Schol. Veron. in Verg.: Публий Вергилий Марон, Энеида / Эклоги / Георгики / Бернские, веронские схолии к Вергилию. Vitr.: Марк Витрувий Поллион, Об архитектуре.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
I. НЕДОСТАТОЧНАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ВЕКОВ
История религии Римской республики долго пользовалась доверием, которое в научном мире питали к относительной надежности всей письменной традиции этого народа, известного своим стремлением к тщательности. Конечно, умные люди в эпоху античности, а также (полагаясь на них) многие эрудиты эпохи Возрождения уже высказывали сомнения, замечали противоречия, подчеркивали в некоторых случаях и неправдоподобность. Но это не затрагивало главного, основы. Так, например, Цицерон во второй книге своего произведения О государстве не подвергал сомнению подлинность личности каждого царя Рима, начиная с Ромула и Нумы, ограничиваясь лишь тем, что не принимал во внимание выдумки, которые встречались в описаниях царствований. В дальнейшем европейских ученых, скорее, успокаивали сомнения или откровенные скептические заявления, которых не стеснялись Тит Ливий, Дионисий Галикарнасский, и даже Плутарх, в своем описании истории первых веков. Было ли полезно и мудро превосходить в критике людей, которые имели в своем распоряжении документы, оценили их вполне здраво и, в конце концов, решили использовать их, честно отмечая предел их достоверности? Француз-гугенот Луи Бофор, воспитатель принца Гессен-Гомбургского и член Лондонского Королевского Общества, в своей книге, опубликованной в 1738 г., не только упорядочил и расширил основания для сомнений высказанных Титом Ливием и Дионисием Галикарнасским, но и превзошел их в скепсисе[23]. Он тщательно изучил источники, на которые они ссылаются, и отверг либо как несуществующие, либо как фальсифицированные такие источники, как Великие анналы понтификов, Полотняные книги, Скрижали Цензоров[24]. Он признал только Семейные мемуары, но и их сразу же отверг как выражение наглой лжи. Он особенно высоко оценил действительно достойный внимания текст, которым Тит Ливий начал свою шестую книгу: «В пяти предшествующих книгах я рассказал обо всем, что произошло со времени основания Рима до его захвата галлами. Эти события трудноразличимы не только из-за их древности, из-за которой они ускользают от нас вследствие огромного отдаления, но также потому, что мало что записывалось, а ведь запись — это единственный способ спасти события от забвения. Кроме того, очень многое из того, что хранилось в книгах понтификов в государственных архивах или в мемуарах частных лиц, погибло во время пожара, разрушившего город». В том, что было, по словам Тита Ливия, восстановлено после катастрофы, Бофор подозревает подлог: «Магистраты приказали, чтобы для всего разыскивались договоры о мире и законы. Это были законы, которые содержались в XII таблицах, а также несколько законов, изданных царями. Часть из них довели до сведения народа. Но понтифики постарались утаить ту часть законов, которая касалась религии, для того чтобы всегда держать в зависимости от себя суеверные умы, существовавшие среди народа». Договоры о мире? В отношении тех договоров, которые существовали в первые времена Республики, Бофор с легкостью противопоставил Полибия Титу Ливию и опроверг их все один за другим. Что касается Законов и Книг понтификов, то он говорит следующее: «По правде говоря, они служили ознакомлению с тем, как была устроена древняя система управления, и выявлению происхождения некоторых обычаев или религиозных церемоний; впрочем, они не могли помочь установлению фактов, прояснению сути событий и определению времени, когда те происходили. А ведь именно это составляет основную задачу истории». Следует отметить, что Бофор полностью не воспользоваться достигнутыми им преимуществами: во второй части своей книги, где доказывается «недостаточная достоверность основных событий римской истории», вплоть до казни Регула[25], он ограничивается утверждением, что «невозможно сказать ничего достоверного об основателе Рима» и о времени его основания. Однако он, как и Цицерон, не оспаривает подлинности личности Ромула. По поводу похищения сабинянок, которое кажется ему маловероятным, он пишет: «Можно ли поверить тому, что красивый и обладающий столь многими достоинствами юный правитель, каким историки описывают нам Ромула, был бы вынужден оставаться холостяком, если бы не применил насилие, дабы получить жену? Это один из эпизодов, которыми первые историки сочли уместным украсить историю Рима. А после того, как этот эпизод занял свое место в истории, стали опасаться, что она утратит что-то ценное, если его изъять. И это — несмотря на всю маловероятность такого эпизода». Точно так же и в отношении других царей имеются «трудности» в установлении числа племен, возраста Тарквиниев, обстоятельств войны Порсенны, и т. д. На долю немецкой критики XIX в. выпало преодолеть принятый в приличном обществе добродушный скептицизм, который стеснялся и самого себя, и силы того оружия, которое ему досталось. После Бертольда Георга Нибура, Теодор Моммзен не ограничился тем, что приписал первым историкам Рима стремление «украсить» его историю. Он стал проверять и оценивать материал этих украшательств. В великолепных очерках он показал, что многие «выдумки» о начальной истории Рима, причем самые существенные, объясняются романтической проекцией в прошлое событий, произошедших несколькими веками позже. Поскольку выше уже говорилось о поверхностном мнении Бофора о первой войне Рима, о похищении сабинянок и о том, что за этим последовало, я теперь напомню одно из этих положений. «Легенда Татия» (Tatiuslegende) Моммзена была опубликована в 1886 г… Приведу ее краткое изложение вместе с моим обсуждением ее в 1944 г. «Главной причиной утверждения о “сабинянской составляющей” в происхождении Рима является то, что существовала легенда о похищении сабинянских женщин и о войне между Ромулом и Титом Татием (Titus Tatius). Говорят, что нет дыма без огня: как ни была искажена в деталях эта легенда, все же она свидетельствует о том, что существовал в древности хотя бы какой-то контакт между этими народами. В этом следует разобраться. Слишком быстро отбрасывают некоторые замечания Моммзена, которые, в гораздо большей степени, чем положения, сформулированные позднее Этторе Пайсом (Ettore Pais), продолжают угрожать тезису о “сабинянской составляющей” в возникновении Рима, подрывая его основы. Моммзен показал, что — в данном частном случае — весьма возможно, что дым появился без огня. Что следует понимать под “сабинянами”, о которых говорит легенда? Почти все версии сходятся в том, что этому слову надо придавать самое широкое значение. Здесь сабиняне не являются жителями только города Куры (Cures). Если в этих версиях Куры выделяется как родина Тита Татия и как центр коалиции, организующейся против Рима, и если широко встречающаяся ошибочная этимология связывает «Квиритов» с Курами, то “сабиняне” в не меньшей степени представляют собой федеративное объединение сабинской нации (Plut. Rom., 16, 3 и 17, 1; Dion. 2, 36, 3–4; cf.: Liv. 1. 9, 9; 10, 2; 30, 6). Короче говоря, сабиняне — это то, что позднее будут называть nomen sabinum. Однако такое понимание сабинян вовлекает легенду в серьезные противоречия. Если при этом от них отделываются, то такое возможно лишь (как это часто бывает) если не обращать на них внимания. Но критика не может быть столь сговорчивой. Завершивший войну синойкизм[26], объединение двух национальных клеток с их институционными хромосомами — религиозными и др. — возможен лишь при том условии, что Рим Ромула получил бы в качестве партнера общество, сравнимое по величине с ним самим, а не целую федеративную нацию, которая завладела бы им полностью. Впрочем, само наименование rex Sabinorum, данное Татию (Liv. 1, 10, 1 etc.), не имеет смысла, если предполагать, что сабиняне являются именно nomen sabinum: то, что имеет reges, в ранний период Италии — это отдельные города (urbes), а люди, возглавляющие федерации, никогда не носят титул reges. Кроме того, сам город Куры, — который легенда в его бóльшей части или полностью помещает в Рим, — имел своего царя, свой народ, свои богатства и свое название (Квириты), и он выжил и сыграл свою роль в дальнейшей истории. Так в чем же дело? И что тогда? А тогда Моммзен предложил весьма привлекательное решение. По-видимому, как это часто бывает, Рим поместил в свою изначальную историю прообраз важного эпизода истории республики. В начале III в., который действительно заложил основы его величия, Рим, с уже романизованными латинянами, действительно — после жестокой войны — вошел в союз с самнитами (921 г.), а затем, после военной “прогулки”, заключил союз с совокупностью сабинских племен. В 290 г. до н. э. Рим дал им гражданские права sine suffragio[27], а в 268 г. дал им полное равенство и несколько позже включил их в племя Квирина, недавно учрежденное. Не этот ли союз нового для тех времен типа, имевший важные последствия, анахронически дал форму легенде о Татии, в которой римляне, несмотря на имевшиеся противоречия, видели союз двух “национальностей”? Конечно, когда Моммзен использует этот отрывок, в котором Сервий (Aen. 7, 709) отмечает, что, будучи включены в Рим, сабиняне стали гражданами без политических прав — ciues excepta suffragii latione, — он слишком далеко заходит в проведении аналогии, поскольку все другие авторы — от Энния и Варрона до Плутарха и Аппия — представляют соединения народов Ромула и Татия как равноправный союз (ср. справедливую критику Этторе Пайса в его “Storia critica di Roma”, 1, 2, 1913, с. 423). По крайней мере, Сервий (или, вернее, неизвестный источник) доказал, что в классическую эпоху римляне чувствовали связь между легендой о возникновении Рима и дипломатическим событием III в. Ведь что же он делает, как не точно воспроизводит соглашение 290 г. — первый этап союза? Но не следует предполагать такую точность в аналогии: “мифы”, которые заранее оправдывают события, отнюдь не передают их с точностью в подробностях. То, что летописцы хотели здесь подчеркнуть и предвосхитить, — это полное примирение и слияние двух народов, традиционно враждебных друг другу: латинян и сабинян. Этапы данного процесса не имели большого значения. Повествование об этом поражает своей краткостью. Но именно на это указывают историки III в. Они показывают, что “Рим” — всего лишь краткое именование латинской нации, а “сабиняне” — федеративный союз сабинских племен, в том числе куров. И в своих договорах эти два партнера осуществили именно то, что Тит Ливий говорил о соглашении между Ромулом и Татием (1, 13, 4): “не просто примирились, но из двух государств составили одно; царствовать решили сообща, средоточьем всей власти сделали Рим”[28]. При этом следует учесть, что в легенде точно переводится выражение “recipere in ciuitatem”[29], которое для описания событий III в. было абсолютно абстрактным, и оно не подразумевало иммиграции. Можно легко удостовериться в том, что эта перспектива снимает все противоречия, которые ранее были отмечены в легенде. К этим фактам Моммзен добавил и другие утверждения, которые не представляют значительного интереса, так как в них в большей мере проявляется субъективность. Кроме того, он без достаточных оснований считает второстепенными связи — весьма четко подтвержденные всеми летописями — между войной с сабинянами и учреждением племен. Моммзен доводит до крайности “политико-этиологический” характер, приписываемый им всей “квазиистории” раннего Рима. Он, по-видимому, действительно, считает, что не только повествование и само название племени сабинян (датированные III в.), но вообще вся эта история — лишь возникшая в более поздние времена небылица, и что летописцы не использовали никакой древней письменной традиции, в которой бы говорилось бы или не говорилось бы о сабинянах. Такие крайности в выводах все же не должны вызывать пренебрежения к тому важному и серьезному, что содержится в работах Моммзена». К рассмотрению этой легенды мы вернемся далее — подхватив анализ там, где остановился Моммзен, — и используем при этом другие средства. Впрочем, сегодня я склонен в большей степени, чем ранее, противостоять своему расположению к мнению Моммзена, которое с недавних пор господин Жак Пусе (Jacques Poucet) критикует в своих блестящих исследованиях[30]. Он считает, что в действительности событие 290 г. не имело того масштаба, какой ему приписывается в этом построении. Аргументы Пусе не представляются мне решающими, и я сомневаюсь, что он имеет основания, в свою очередь, объяснять легенду происхождения сабинян копированием «событий» V в., которые сами не вызывают доверия и, во всяком случае, имели совершенно другой смысл (переселение к римлянам Клаузиуса и его клиентов накануне войны; захват Капитолия демагогом Гердонием, и отвоевание его Мамилием и Тускулом). Но сам факт, что этот спор имел место, побуждает к тому, чтобы оставить вопрос открытым, хотя необходимо подчеркнуть, что использование этих событий V в. в создании истории Рима первых времен — если признавать эти собятия реальными — редкое явление, тогда как возможное «состаривание» событий, которое было выявлено учеными, относится во всех случаях к периоду между второй четвертью IV в. и концом войн с самнитами, в основном имевшими место между 380 и 270 гг. Царствование Анка Марция и, прежде всего, его имя, очевидно, многим обязаны восхождению роду Марциев в середине IV в., а также событиям того времени: утверждают, что Анк основал Остию и создал соленые болота вокруг нее (Liv. 1, 33, 9). Так ли это? Колония Остия действительно была создана приблизительно в 335 г. (Каркопино), и именно около солончаков Остии Марций Рутил — первый плебей, ставший диктатором и цензором, — победил этрусков в 356 г. Говорят, что Анк поместил побежденных при Политории на холме Авентин (ibid., 2). Так ли это? Дело в том, что Авентин действительно был заселен в 340 г. Некоторые черты «политики» Сервия Туллия (который пользуется поддержкой знатнейших сенаторов и покровительствует плебсу (Liv. 1, 41, 6 и 49, 2; 46, 1)), противоположной политике Тарквиния Старшего (который опирается на сенаторов менее знатных народов и на всадников (ibid., 35, 6 и 35, 2 и 7)), по-видимому, определялись обстоятельствами знаменитой службы в качестве цензора Аппия Клавдия (312–308). Организация Сервия, которую Тит Ливий описывает в 1, 43, существовала не раньше IV в., а некоторые авторы считали, что учет денежных сумм во время оценки имущества этого царя производился в ценах конца IV в. и начала III в. Что касается легенды о самом Ромуле, то достоверно известно, что храм Юпитера Статора был заложен в 294 г. А первое упоминание о Ромуле и его близнеце в традиционном ранге Квирина засвидетельствовано в теологической системе, развившейся до битвы при Сен-тине (295 г.). Квирин получает храм в 293 г. на холме Квиринал. Этот храм заложили на том месте, где находилось старое святилище, которым Квирин довольствовался до этого времени. Изобретательность такого ученого, как Этторе Пайс, и нескольких других — слишком далеко зашла в поисках анахронизмов, но сосредоточение большинства наиболее вероятных из них в периоде между 380 и 270 гг. позволяет отнести к этому времени окончательную разработку истории царей. Эту историю знал Энний, и ее же читаем и мы. Недостаточность достоверности велика в отношении первых веков существования Республики, и она усугубляется искажениями в описании истории великих семейств. К тому же война с Вейями[31] и галльская трагедия 380 г., а также все деяния Фурия Камилла дошли до нас лишь в реконструкциях. Даже события IV в. вызывают сомнения во многих случаях, и только во второй половине этого века «история» Рима начинает обретать — в основном — тот минимум тщательности, которого требует это великое понятие. Наконец, существует еще одна форма невольного анахронизма, затрудняющая исследование не столько событий, сколько нравов, обычаев, цивилизации. Дело в том, что летописцы и их наследники — историки, — несмотря на присутствие иногда некоторых черт архаичности, как правило, не дают себе труда представить древних римлян, о которых они говорят, такими, какими те были, а представляют их в современном облике. И хотя — предвосхищая великих поэтов эпохи Августа — они, в общем, подчеркивают скромное происхождение, все равно их Нума, их Анк, их Сервий и Публикола живут, считают, рассчитывают так, как это будут делать в Риме эпохи Сципионов и Катонов. Даже говоря о численности людей, армий, участвующих в первых боях, — в нарушение всякого правдоподобия — уже ведут речь о легионах. В разгар схватки на Форуме Ромул посвящает Юпитеру храм; и с самого начала Сенат и толпа противостоят друг другу и хитрят так, как они будут это делать до самой Империи. Те, кого называют первыми римлянами, — древние римляне, знаменитые солдаты-пахари — в лучшем случае оказываются Катонами, состаренными на четыре века: подобно картинам из крестьянской жизни Далекарлии[32], где сцены из Евангелия изображаются в одежде, какую до сих пор надевают, идя в церковь, и в декорациях Скансена[33]. Таковы тексты. Современные историки, доверяя им в большей или меньшей степени, уменьшают или увеличивают степень сомнительности — в зависимости от личных склонностей, либо под влиянием предрассудков, базирующихся на соображениях, причины которых отнюдь не связаны с самим материалом. Компенсируют ли другие источники недостатки летописной традиции? Иноземных свидетельств почти нет. Греки стали говорить о Риме лишь весьма поздно, а первые из них, которые рассказывали сколько-нибудь пространно, демонстрировали скорее воображение, чем знакомство с источниками; у них было не больше склонности к критическому подходу, чем у самих римлян. Начало Ромула Плутарха в достаточной мере показывает, что представляла собой работа историков, и демонстрирует обилие небылиц, из которых национальные летописи делали скромные выборки. Что касается эпохи этрусков, то существует единственный, но первостепенно важный документ — фрески на «могиле Франсуа» в Вульчи. Они дают неопровержимое подтверждение того, что существовал и возглавлял Рим некий авантюрист по имени Мастарна, т. е. Сервий Туллий, а также то, что были братья Вибенна. Фрески доказывают также, что римляне совершенно иначе представляли приход к власти и царствование этого самого Мастарны, чем это делали этруски. Представление этрусков (менее заинтересованное и не сформировавшееся у народа, который в те времена был более просвещенным) по-видимому, ближе к реальной действительности. Эпиграфика сведений не дает: за редкими исключениями (из которых одно имеет очень большое значение, так как касается непосредственно религии) не сохранилось никаких надписей ни на камне, ни на туфе, которые относились бы к первым четырем векам существования Рима. Лишь во II в. до н. э. собрания дают полезные сведения о цивилизации и об истории Рима. Остается археология, результаты систематических исследований местности, на которой располагался Рим. Эти исследования проводятся уже больше века, а в последние тридцать лет приняли особенно многообещающий размах. Для истории результаты исследования особенно значительны. Они позволяют восстановить, хотя и не в деталях, общую картину. Эти результаты особенно ценны для хронологии, для установления основных дат, а также для определения общих разделов летописной традиции, поскольку достигается такая степень достоверности, которая была недоступна при рассмотрении одних лишь текстов. Приведу краткое обозрение полученной картины[34]. Хотя существуют следы человеческого присутствия, относящиеся к значительно более древним временам (II тысячелетие), все же именно в середине VIII в. несколько возвышенностей Палатина (Germal, Palatium) были долго заняты деревнями, от которых остался непосредственный след, тогда как существование несколько более поздних поселений на холмах Эсквилин и Квиринал пока еще под вопросом: гипотеза о них является логическим выводом из существования довольно обширного некрополя на первом и пяти изолированных могил на втором. Лишь в VII в., начиная с 670 г., и с перерывом, связанным с наводнениями, население стало распространяться на долину Форума, которая до того времени использовалась для захоронений. Начиная с 650 г., Квиринал, Виминал и Капитолий обнаруживают богатые возложения по обету, — fauissae[35], — свидетельствующие о существовании мест культового поклонения, которые использовались в течение длительного времени. Главная fauissa Квиринала, например, содержит керамику, относящуюся приблизительно к 580 г. С середины VI в. до начала V в. выявляется ясно заметное изменение археологического материала, бесспорно указывающее на Этрурию и свидетельствующее о том, что Рим пережил период господства этрусков и богатства, описанный в летописях. Цоколь храма на Капитолии имеет три целлы. Храм приписывается Тарквиниям, и он оставил следы, относящиеся к концу VI в., а также фрагменты сточного желоба, возможно ограды, относящиеся к тому же времени. Даже если даты, на которые указывают или которые подсказывают эти находки, не совпадают с пределами, которые летописи дают царству этрусков, тем не менее, главное здесь подтверждается. Исчезновение приблизительно около 480 г. роскошной керамики, ввезенной из Греции, также является подтверждением того, что в первой четверти V в. Рим возвращается в исключительно латинский мир. Все это весьма ценно и очерчивает историю, которая выявляет и объясняет некоторые факты культуры, не отраженные в летописях. Например, ежегодный праздник Семихолмия[36], который отмечался каждое 11 декабря и во время которого совершались жертвоприношения, осуществляемые жителями трех вершин Палатина, жителями трех вершин Эсквилина, а также жителями Субуры, за исключением людей с Квиринала, Виминала, Капитолия, Авентина, Форума. Во всяком случае, определенное таким образом целое согласуется с состоянием населения (следы этого можно видеть прямо на земле), жившего там в начале VII в., если, как это вполне вероятно, Эсквилин был заселен вскоре после Палатина. Если археология подтверждает, таким образом, рамки истории царей, то при этом она косвенно подрывает справедливость некоторых утверждений: все согласны с тем, что до 575 г. — несмотря на торговлю с Фалериями, с Цере, о чем свидетельствует керамика, — Рим, гораздо менее процветающий, чем соседние этрусские города, был неспособен к завоеваниям и экспансии, которые летописи льстиво приписывают царям Туллию и Анку, не говоря уже о Ромуле. Разрушение Альбы первым — это фикция, точно так же как и открытие порта Остии вторым — это анахронизм. Такое отрицательное утверждение можно только приветствовать. Но сведения археологии имеют естественные границы. Раскопки не только не позволяют проследить за ходом событий, обнаруживая лишь их последствия, но они не дают никакой информации (что бы там ни говорили) о том, что было бы самым важным для исследования цивилизации и религии — о происхождении и национальности людей, живших на вершинах и холмах. Они ничего не говорят и об однородности или двойственности самого древнего населения. Мы должны будем вернуться к рассмотрению этого вопроса, к изучению того выбора, который определяет интерпретацию происхождения религии — к чему мы должны теперь перейти.II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ИСТОРИЯ
Благоприятным шансом для изучения религии было то, что тот, кто дал наиболее удачный критический анализ легенд первых веков существования Рима, — Моммзен, — а вслед за ним и другой великий человек — его ученик Георг Виссова — поняли, что недостаточная достоверность политической и военной истории не ведет автоматически к недостаточной достоверности истории религии. Несколько соображений, диктуемых здравым смыслом, очень быстро помогают понять эту относительную независимость. В то время как политическое и военное прошлое — за исключением того, что в результате сохранилось в законах и договорах — это просто записанное или сфабрикованное прошлое, непригодное для практического использования, религия всегда и везде актуальна и активна. Ее ритуалы проводятся ежедневно или ежегодно, ее понятия и ее боги участвуют в обычной жизни в спокойные времена так же, как и в критические моменты, в бурное время. Более того, в Риме с давних пор, если не всегда, религия использовала многочисленный персонал — группы специалистов, которые из поколения в поколение передавали друг другу правила культа. Этих людей контролировал понтифик (pontifex). Когда стали возводить храмы, то даты их освящения и обстоятельства обета уже не могли быть забыты. Даже такой ужасный удар, как галльская катастрофа, не привел к сколько-нибудь заметным нарушениям этих правил, одновременно и простых, и сохранявших живыми обряды благодаря практике их проведения. Наконец, до тех пор, пока священный сан не стал превращаться в средство борьбы между классами или мятежными группировками, религиозная наука — при всей своей важности и актуальности — оставалась автономной и подчинялась только своим собственным правилам и своей внутренней логике. Вследствие этого она меньше, чем повествование о светских событиях, подвергалась риску попыток фальсификации из чувства гордости или честолюбия. Короче говоря, если ограничиться немногими яркими примерами, то можно сказать, что история Тарквиниев, возможно, и является скоплением выдумок, но вполне достоверно, что на Капитолии проводились богослужения и неизменно совершался культ, который был передан в наследство Республике. Разумеется, не Нума создал церемонии богослужения, проводимые тремя великими жрецами-фламинами, в особенности первым фламином — жрецом Юпитера. Тем не менее, мотив, о котором говорят летописцы, — стремление снять с царя бóльшую часть богослужений, несовместимых со свободой действий, необходимой царю, отражает близость между царем и фламином Юпитера (flamen Dialis) и, — минуя священнослужителя, — между царем и Юпитером. Эта близость вполне соответствует тому, что демонстрирует с другой стороны реальный статус этого важного лица. Однако, за пределами теории, Моммзен и Виссова понимали, что религия, по своей сути, не может никогда быть анархическим скоплением понятий и предписаний, возникших случайно. Конечно, на протяжении своей истории Рим проявлял поразительную способность поглощать все, что обстоятельства и соседи предлагали ему мощного в религиозном отношении, — празднества и богов. Но то, что Рим таким образом брал, он осторожно присоединял к уже имевшемуся ранее национальному капиталу, который и так уже был богат и в котором сразу были заметны естественные подразделения, частичные структуры, если не единый план. «Учебнику»[37] Виссовы ставили в упрек систематичность компоновки. Однако такой подход вытекает из природы самого материала. Не слишком важно, что этот автор обозначил свой основной раздел — древние боги и боги заимствованные — двумя названиями: Indigetes и Nouensides (или Nouensiles). Наверняка они были плохо переведены как «местные, коренные» (indigènes) и «вновь введенные». Эта ошибка режет глаз, так как она повторяется в заголовках 223-х нечётных страниц. Правда, очень скоро становится ясно, что эта ошибка не имеет никакого практического значения и не мешает этому подразделению быть полезным. Наконец, следует отметить, что Моммзен и Виссова проявили невозмутимое равнодушие к эфемерным теориям (которые постоянно сменяли друг друга в то время) в отношении природы, происхождения и стереотипов развития религии. Такие сочинения, как солнечная мифология Макса Мюллера или анимизм, о котором писал Тэйлор, духи растительности Маннхардта и его учеников или тотемизм, которым занимался Саломон Рейнак (Salomon Reinach) — вызывали недоверие у этих ученых, которые мыслили точно и ясно. Сопротивление Виссовы, по-видимому, было не лишено высокомерия, и можно лишь сожалеть о том, что он в конце примечания быстро и бесповоротно расправился с автором «Золотой Ветви». Однако такая чрезмерная сдержанность (или, если хотите, крайняя замкнутость) лучше, чем увлечение, которое и до, и после «Религии и культа римлян» вызвало множество работ, вышедших из моды с такой же скоростью, с какой были написаны. Этот учебник следовало бы обновить, а в отношении теории — исправить во многих частях. Тем не менее, он остается пока самым лучшим, и никто не написал другого. Все, кто применял к интерпретации римской религии теории, которые последовательно или одновременно были в моде, пришли к четко или нечетко сформулированному выводу, сводящемуся к одной и той же аксиоме: древние римляне, о которых в письменной традиции не говорится ничего путного, по-видимому, были примитивными первобытными людьми, которых можно сравнить по интеллектуальному уровню с народами Америки, Африки, Меланезии, ставшими объектом наблюдения всего лишь 200–300 лет назад, а в особенности, сто лет назад, изучать которых должны не историки, а этнографы. Их религия, следовательно, должна была отливаться в такие формы, которые каждая научная школа считала примитивными, и именно из этих форм, в ходе постепенного развития, по-видимому, выросла религия их потомков — тех римлян, к которым дают доступ классические авторы. Следует признать, что новаторы очень рано находили поддержку у классических авторов: в эпоху Августа стало уже общим местом противопоставлять роскоши и сложной жизни великого царства первичную, почти зачаточную простоту жизни Рима в первые времена, присущую как жилью, так и нравам, обычаям, политическим учреждениям, а также и религии: несколько сотен пахарей на Палатине — таким был тогда Рим (если верить подобным утверждениям) за семь веков до Августа. Признаем также, что археология усиливает это впечатление. Видя жалкие остатки хижин — тесных, имеющих неправильную форму, — какой человек, осматривающий Палатин, не согласится с Проперцием (4. 1, 9—10), который вопрошает: Где подымается на своих ступенях этот Ремов дом, когда-то для обоих братьев единственный очаг был величайшим из царств.[38] Кто не задумается о том, как в одной из этих casae могли помещаться два брата и очаг? Трудно себе представить, чтобы жизнь в таких жалких жилищах не была бы поглощена самыми насущными нуждами и чтобы в этих условиях мысль могла бы иметь столько свободы, чтобы задумать, организовать и сохранить теологию, стоящую выше примитивного уровня, как бы себе его ни представлять. Однако не следует поддаваться такому порыву. Если посмотреть, что осталось от Эмайн Маха в Ирландии, или увидеть остатки штук двадцати круглых хижин, сохранившихся у подножия римского укрепления около Холи-Айленд в Англии, а также много других подобных мест, то трудно себе представить, что в этих населенных кельтами местностях мог существовать корпус друидов, исследования которых — в области теологии, ритуалов, права, эпических традиций — продолжались около двадцати лет. Сколько археологических раскопок вызывают такое же удивление! Однако, как и их родичи кельты, латиняне, пришедшие на Палатин, чтобы там обосноваться, отнюдь не были не имеющими опыта людьми, которым надо было бы все создавать заново, все изобретать. Как доказывает их язык, они были потомками завоевателей, пришедших издалека, добиравшихся постепенно, и сегодня их нельзя считать примитивными. Нам здесь впервые необходимо написать название, которое часто будет встречаться в дальнейшем в этой книге: они были Индо-Европейцами, причем, как доказывает их язык, консервативными индоевропейцами, которые называли важные политические или магико-религиозные понятия теми же словами, какими пользовались на другом конце территории ведические индийцы или древнейшие иранцы, а иногда даже кельты, для обозначения тех же самых или близких понятий. Отвлекаясь от религии, которой посвящена эта книга, отметим примечательный факт: так же, как в ведическом обществе, (räj(an)) и как во всех древних кельтских сообществах (rïg-), человек, возглавлявший сообщество, носил старое индоевропейское имя *reg-. Сам этот факт доказывает, что жители хижин на горах, находившихся на берегах Тибра, не были неорганичными группами семей, объединившимися по истечении какого-то времени в заново созданные институции, но, напротив, они прибыли сюда с уже готовой традиционной политической структурой над-семейного типа. В самом деле, как можно думать, что эти люди, в далеком прошлом унаследовавшие вместе со словом понятие rex, дали ему «захиреть», а затем снова его задействовали под тем же названием? Итак, если мы не знакомы непосредственно с латинским rex, то сравнение ирландского ri с ведическим räj(an) позволяет представить себе, чем был индоевропейский *reg-, от которого произведены эти слова. Что бы ни предполагали раньше, функции räj(an) не были «производными» от функций главы семьи. Так же, как ri, он выходит за пределы слоев общества и представляет такие ценности, которые не могут рассматриваться просто как повышение статуса любого главы семьи. Так же, как ri со своим личным друидом, он живет и функционирует в симбиозе, в тесном единстве со знатным представителем класса священников — брамином, который является его капелланом, его puróhita[39], который возмещает ему в виде мистического покровительства то, что получает от него в виде щедрот. Его посвящение — это не только важная религиозная церемония, но он имеет в своем распоряжении целый набор ритуалов специфически царских. В частности, это жертвоприношение коня, которое делает его как бы сверхцарем — подобно тому, как в Ирландии существует ardri, возглавляющий иерархию rig. Римский царь (rex) не должен был сильно отличаться от того общества, которое он возглавлял. Если то, что известно о его призраке эпохи республики — rex sacrorum — недостаточно для отражения степени этой гетерогенности, то, по крайней мере, его (царя) единодушие с самым высокопоставленным фламином (Liv. 1, 20, 2) напоминает взаимосвязь между räj(an) или ri с их главным брамином или друидом. С другой стороны, Рим эпохи республики сохранил знаменательную связь (которая будет рассмотрена позднее) между ежегодным жертвоприношением лошади и, за неимением царя, с «домом царя» — Regia. И это при том, что происходит в ходе церемонии, символизм которой близок индийскому ритуалу aivamedha[40]. Такие точные совпадения в отношении лиц, носящих одно и то же имя, причем для обозначения их жен используются древние производные от их имени с носовым звуком (латинское regina, ведическое rajnî, ирландское rigain), — не могут быть результатом случайности: была преемственность между индоевропейской структурой и римской структурой, которую мы знаем, и сообщества, жившие на холмах Палатин, Эсквилин и др., имели сложную традиционную организацию, в которой был rex с его религиозным «дублёром» — главным фламином, и где проводились традиционные царские церемонии, заканчивавшиеся оставлением головы и хвоста октябрьского коня на Регии, перенесенной на Форум. Это является свидетельством существования царских церемоний. Здесь я заканчиваю свои рассуждения. Они в достаточной мере дают понять не полную неточность, но значительную степень неполноты представления о латинской царской власти, которое сформировал Фрезер, предложив серию лесных и полевых культов и сведя функции царя к обеспечению плодородия.III. ДРЕВНЕЙШАЯ РИМСКАЯ РЕЛИГИЯ: NUMEN ИЛИ DEUS?
Оставив в стороне фантазии, основанные на тотемизме, который никто уже не защищает, а также маннхардизм[41], который надо не столько опровергать, сколько включить, отведя ему то скромное место, которое он заслуживает, в более общую и более уравновешенную картину римской религии, — мы должны остановиться на единственной из всех теорий, которая в разных формах до сих пор занимает ведущее место во многих книгах. Это — теория, которую назвали искусственным словом, имеющим отрицательный оттенок значения — предеизм[42] (prédéisme) — и, кроме того, недавно появилось весьма выразительное и более позитивное название — динамизм. Согласно этой теории, у истоков религиозных представлений, до понятия индивидуального бога и даже до понятия духа, т. е. до понятий, которые были бы развитыми их производными, стоит вера в смутную силу, рассеянную по многочисленным предметным носителям, действующую грубо и автоматически. Отправной точной для этой теории послужили наблюдения за меланезийцами. В 1891 г. в своей книге «Меланезийцы», с. 118, епископ Кодрингтон (Codrington) дал определение mana, которое распространилось: «Мышление меланезийцев находится в полной власти веры в сверхъестественную силу или сверхъестественное влияние, называемые повсюду mana. Именно эта сила создает все то, что находится за пределами природных возможностей человека, за пределами обычных законов природы. Она присутствует в атмосфере жизни, завладевает людьми и вещами и проявляется в таких результатах, которые можно объяснить только ее воздействием». В 1926 г. английский латинист Герберт Роуз (H. J. Rose) пришел в восторг от этой самой элементарной формы священного. Он очень быстро собрал материал, позволяющий утверждать, что именно эта концепция главенствует в римской религии, и, если ей снова отвести решающее место в истоках этой религии, то она прояснит весь процесс ее развития. Он стал искать, как римляне называли mana, и нашел нужное слово: numen. В течение следующей четверти века Роуз пользовался большим влиянием. Он получил энергичную поддержку: в Утрехте его поддержал господин Вагенвоорт (Wagenvoort), чью книгу Imperium, Studiën over het manabegrip in zede en taal der Romeinen Роуз перевел с ирландского под названием Roman Dynamism (1947). Во Франции, Albert Grenier, на склоне лет занявшийся религией, с восторгом одобрил его[43]. Известные эллинисты попытались идентифицировать mana в своей области. Они его встретили под неожиданным названием numen. По-видимому, это — даймон (δαίμων[44]). Многие признаки позволяют считать, что самое большое увлечение прошло и что эта теория не сможет надолго пережить своего создателя, умершего четырнадцать лет назад. Однако позиции ее пока еще крепки, поэтому ее следует рассмотреть с должным вниманием. Вот как в 1926 г. Роуз излагал эту теорию («Primitive culture in Italy», pp. 144–145), после того как охарактеризовал классическую римскую теологию — «за исключением одного или двух великих богов» — как многобожие (polydaemonism), т. е. как скопление существ, каждое из которых могло выполнить только одно действие и не занимало кроме этой «специальности» никакого места ни в культе, ни в воображении:«Это — не столько боги, сколько проявления mana. При этом Спиниенсис давал mana, необходимое для устранения шипов в полях; Цинксия — давала mana, помогавшее правильно надеть пояс на невесту, и так же для других бесчисленных нужд. Какие истории можно было бы рассказывать о столь призрачных и неинтересных существах? Слово, обозначающее их или их способности, весьма примечательно: numen. Буквально оно означает просто “кивок головой” или, скорее, поскольку речь идет о чем-то пассивном, то, видимо, это слово обозначает: “то, что происходит благодаря кивку”, т. е. совершенно так же, как flamen[45] обозначает: “то, чтовозникает при дуновении”, т. е. порыв ветра. Затем это слово стало обозначать “результат или выражение власти”, а отнюдь не саму власть, и это следует подчеркнуть. Собственно говоря, это боги, а иногда другие силы — сверхчеловеческие силы, имеющие numen. Но поскольку смысл их существования сводится именно к тому, что они имеют numen, часто случается, что их и называют этим словом, особенно во множественном числе — numina. C развитием теологического мышления в Риме, это слово получает более возвышенное значение и начинает обозначать “божественность”, “божество”. Однако в данный момент эта фаза его развития нас не касается. Но вполне можно сказать, что для того чтобы выдумать дух, каким бы он ни был, и особенно если он не делает ничего более возвышенного, чем давать время от времени крестьянам возможность успешно унавоживать поля, чем занимался Стеркулий, то нет никакой нужды прилагать значительных усилий для абстрактного мышления. Конечно, римские священнослужители-теологи завладели этими древними numina, увеличили их число, дали им классификацию, так что почти можно сказать, что они составили подробный список функций божества вообще. Но можно проследить их историю до гораздо более ранней стадии, до гораздо более примитивного состояния: в то время они были всего лишь диким представлением о mana, существующем в каком-либо месте или в каком-либо материальном предмете».В написанной позднее книге «Ancient Roman Religion» (1950), с. 21–22, Роуз счел возможным уточнить, каким образом древние римляне, отталкиваясь от понятия numen-mana, дошли до создания индивидуализированных богов:
«Поскольку numen формируется в различных местах и связывается с различными людьми и предметами, неудивительно, что оно проявлялось с неодинаковой силой. Если эти проявления были мощными, и особенно если они происходили регулярно, то из этого делали вывод, вполне естественный, что они исходили от кого-то, кто имел много numen и был склонен расходовать его во благо тех, кто к нему обращался. Такое лицо было богом или богиней, а о природе таких существ римлянин, предоставленный самому себе, не слишком задумывался».Прежде чем заняться рассмотрением этого тезиса и основных фактов, приведенных для его обоснования, следует упомянуть о двух факторах, первостепенно важных для изучения религии. Во-первых, во всех религиях, вплоть до самых возвышенных, несмотря на то, что все верующие осуществляют свое поведение на одном и том же уровне, тем не менее, можно видеть, что в одни и те же времена, в одном и том же обществе существует множество различных «интерпретаций» — от простого автоматизма до тончайшей мистики. Мирча Элиаде прекрасно сформулировал это наблюдение[46]:
«Манипуляции со священным сами по себе являются амбивалентным действием, в том смысле, что священным можно заниматься и оценивать его либо на уровне религии, либо на уровне магии, и при этом человек может не иметь ясного представления о том, чем он занимается: совершает ли он культовое действие или магический ритуал. Сосуществование магического и религиозного в сознании одного и того же человека, впрочем, весьма часто встречается. Один и тот же Австралиец, который знает, что существует Высшее существо (Daramulun, Baiame или Mungangao), живущее в небе и которое он призывает во время церемонии инициации, он же усердно занимается магией, в которой не участвует ни один из этих богов[47]. Христианин нашего времени молится Иисусу Христу и Деве Марии, но это не мешает ему манипулировать с ними время от времени, — например, во время засухи, — в чисто магических целях (так, погружение в воду священных статуй совершается с целью вызвать дождь, и т. п.)».Более того: одни и те же люди, даже самые образованные, в зависимости от обстоятельств «соблюдают религиозные обряды» на различных уровнях. Иногда они используют познания в теологии, а иногда — простодушно и намеренно, по-детски — верят в эффективность жеста или слов. Таким образом, пока существует религия, какой бы они ни была, она побуждает к такому поведению, а также вызывает такие представления, которые не только по внешней видимости, но и в действительности могут дойти до большой степени простодушия и даже превзойти то, что присуще первобытным людям. Каждый раз, наблюдая подобные явления, никоим образом не следует усматривать в них пережитки ни, тем более, истоки или следы состояния, породившего всё остальное. То, что примитивно типологически, может не быть таковым хронологически. По-видимому, лучше следовало бы говорить о формах — «неразвитых», «грубоватых», «стоящих ниже», — не придавая этим словам уничижительного значения. Во-вторых, это тот факт, — связанный с предыдущим и о котором студент должен помнить постоянно, — что конкретный способ, с помощью которого религии материализируют невидимое или связываются с ним, имеет свои ограничения. Для переживания своей веры человек имеет только свои органы чувств, несколько суставов, несколько отверстий, а для репрезентации предмета этой веры он располагает только своими умениями, промыслами, мастерством, искусством, техническими средствами. Мы скоро вернемся к вопросу о репрезентации, а здесь рассмотрим только жесты. Крестный отец и крестная мать во время крещения прикасаются к крестнику (крестнице) подобно тому, как римский магистрат прикасался к косяку двери храма, который он торжественно открывал. Причащающийся съедает просфору точно так же, как во множестве религиозных культов любого уровня верующий съедает священный продукт питания, животной или растительной природы. Епископ, во время конфирмации дает пощечину подвергающемуся конфирмации, подобно тому, как римлянин при освобождении на волю — festuca — давал пощечину тому, кому он предоставлял свободу, а также подобно тому, как во время посвящения на царство в Индии брамины наносили удар царю, и т. д. Это не значит, что в разных местах уровень, цель, сама движущая сила «причины церемонии» были одинаковыми. Имеется значительное различие в идеологическом субстрате евхаристического причастия у католика, который верит в реальное пресуществление, и у протестанта, который усматривает в Святой Тайной Вечере всего лишь поминовение. Еще бóльшее различие в той пользе для духа, которой каждый из них ожидает от церемонии, и в физическом и расовом укреплении, которое придает тотемическая пища тому, кто ее поедает, — как это предполагалось. Я сомневаюсь, что крестный отец или крестная мать воображают, что передают младенцу некий флюид, когда они к нему прикасаются: их жест означает просто, что они берут на себя определенные обязательства по отношению к нему. Этот жест не имеет практического значения, это — символ. Господин Вагенвоорт написал целую главу, весьма интересную — посвященную contactus, тем ритуальным жестам, которые в римской религии предполагают прикосновение. Но если возможно, чтобы человек, освящающий храм (postem tenere), своим прикосновением передавал силу, то весьма сомнительно, чтобы это происходило с полководцем, совершающим обет (deuotio), когда во время сложной церемонии (с головой, покрытой тканью, держа руку на подбородке) он стоит на дротике. Следует относиться с большой осторожностью к интерпретации ритуальных жестов, которые не снабжены комментариями в надежных источниках, а в отношении Рима их, к сожалению, нет. Учитывая все сказанное, невозможно отрицать, что многие черты наших материалов о Риме создают впечатление, способствующее тому, чтобы римская религия казалась «примитивной». Одни характеристики относятся к отдельным богам, другие — к обобщенному типу богов. Первые, которым особое внимание уделяет школа Роуза, относятся к Марсу и Юпитеру, но, впрочем, ничего примечательного там нет. С точки зрения этих ученых, Марс вначале был лишь пикой, а Юпитер, по крайней мере, в одном из своих важных проявлений — камнем. При этом оба предмета в большой степени обладали mana. Мы ограничимся рассмотрением Марса и его копья или копий. Сведения, которые мы имеем в своем распоряжении, носят двоякий характер. С одной стороны, в Риме, как и в других городах Лация, хранились несколько копий Марса (hasta(e) Martis), которые иногда самопроизвольно двигались, по-видимому, создавая шум, что считалось предвещанием опасных событий. Ссылаясь на официальные сообщения о знамениях, историки часто отмечают: hastae Martis in Regia sponte sua motae sunt. Что значит sponte sua? Примитивисты толкуют эти слова буквально: «собственными силами, благодаря присущему им mana, без вмешательства богов» пики вибрируют. Т. е. здесь, в историческом повествовании, полностью сохраняется представление, существовавшее в те времена, когда из mana еще не выделился индвидуализированный бог. Каким бы ни было понимание слов sponte sua, вывод не имеет обоснования. Действительно, возможно, что копья «сами» вибрируют в буквальном смысле. Но тогда такое верование относится просто к представлениям порядка тех, которые известны в религиях, весьма далеких от примитивизма. Так, например, в Скандинавии, в конце эпохи язычества, в Саге о Ньяле (30, 21) говорится о волшебной алебарде, которой владел Халльгрим, звеневшей, если предстояло убийство, — «так велика была ее náttúra». Примечательно слово náttúra: для названия волшебной силы взято латинское слово! Подобно этой алебарде, копья якобы были просто магическими предметами. Такое банальное утверждение дает не больше информации о развитии теологии и о происхождении Марса, чем рассказ о самопроизвольном звоне алебарды, который также не проясняет происхождение военных богов — Одина и Тора. Однако, поскольку пики всегда представляются как «пики Марса», индивидуализированного бога, причем нельзя отрицать, что он имеет какое-то отношение к сражениям, то напрашивается другое объяснение. В списках знамений слова sponte sua, возможно, не предполагают отрицания вмешательства невидимых богов, а указывают на то, что здесь не участвовали люди или какая-либо ощутимая движущая сила. В этом случае sua sponte означало бы, что к копьям никто не прикасался, не приводил их в движение. Параллелей такого осмысления весьма много. Так, в Метаморфозах Овидия (Кн. 15) рассказывается о рождении Тагея, маленького человечка, создателя этрусских пророчеств, который однажды вышел из комка земли перед удивленным пахарем (553–559)[48]. Как говорит поэт, этот бедняга «увидел среди полей комок земли, наделенный судьбой, роком (fatalem glebam), который сначала стал самостоятельно двигаться, а затем он перестал быть комком земли. Он принял человеческий образ и сразу стал возвещать судьбы:
IV. ТИП РИМСКИХ БОГОВ
Остальные аргументы примитивистов не имеют отношения к предыстории того или иного бога и не касаются никаких терминов. Они направлены на общий тип римских богов — не только самых выдающихся, но и, особенно, множества других. Хотя эти аргументы менее точны, они, однако, выглядят лучше, так как приводят неопровержимые факты. Они даже дают полезные характеристики религии Рима, например, по сравнению с греческой религией. Просто здесь необходима правильная интерпретация. В общем и целом, если отвлечься от всего того, чем он (общий тип) обязан Греции, — что же мы найдем в мире богов Рима? Во-первых, есть некоторое число богов, имеющих относительно четкие черты, которых почитали отдельно. Они не имели родственных или брачных связей, с ними не были связаны никакие приключения или скандалы, они не имели дружеских отношений или вражды ни с кем, т. е. у них не было мифологии. Некоторые, весьма немногие, явно были самыми важными богами. Они в большой мере присутствовали в религиозной жизни. Остальные боги распределялись по месяцам календаря и по кварталам города. Им раз в году делались жертвоприношения, хотя иногда было неизвестно, какую услугу они могли оказать (например, это относится к богам месяца июля). Вокруг них в пространстве и времени Рима было несчетное число пунктов или моментов, показывавших, что они обладают неким могуществом. Таким образом, римляне чувствовали, что повсюду насторожились, благоприятствуя или препятствуя их начинаниям, раздражительные или любезные, скрывающиеся особы, ревниво охраняющие свою тайну, так что никто не знает даже их имени. Наконец, можно заметить небольшие группы, тесно сплоченные, и в них каждый участник сведен всего лишь к имени, которое он носит, — к имени действующего лица, замыкающему его в тесные рамки тщательно определенной функции, какого-то одного действия или даже к части действия. По правде говоря, эти последние почти не появляются в литературе, но знатоки старины — такие, как, например, Варрон — составили их списки, за которые ухватилась христианская полемика. Эти три категории существ даже не так хорошо различимы, как намекали ранее. Многие боги первой категории точно так же лишены личных черт, и их характеризует лишь имя, которое иногда является собирательным наименованием. Они не существуют нигде, кроме культа, который им воздается очень кратко. Так что, взаимно проникая друг в друга, они придают римскому пантеону видимость почти неподвижных теней, сумеречной толпы, смутной массы, из которой смогли выделиться лишь немногие, пока еще бледные божества, тогда как остальные (все остальные — недоношенные, переставшие расти) ограничиваются, и всегда будут ограничиваться жалкими и редкими проявлениями. Невозможно избавиться от этого странного впечатления. Мы так привыкли к обилию мифов Греции, Индии и многих народов, называемых варварами, что нам трудно себе представить, что теология может быть настолько отделена от вымысла, и что благочестивые души могут удовлетворяться сухой номенклатурой и столь краткими сведениями, которые ничего не говорят чувствам и так мало дают уму. По-видимому, здесь дело во врожденном недуге. Появляется искушение предположить, что римское общество, которое в сфере права и политики так рано проявило столь великую изобретательность и искусность, оказалось настолько беспомощным в сфере религии, почти не проявляя способности к воображению, исследованию, организации. Такой вывод был бы парадоксальным и губительным для исследования. Прежде чем смириться с ним, необходимо выйти за пределы впечатления, рассмотреть один за другим все факторы, которые способствуют его созданию, постараться найти причины, по которым действительно этот народ, нормальный во всех других отношениях и весьма талантливый, удовольствовался столь суровой формой удовлетворения религиозных потребностей, а не избрал богатую, блестящую форму. Нет сомнения в том, что этот народ отнюдь не был менее талантливым, чем другие, и позднее он это доказал. Мы рассмотрим три группы богов в порядке, обратном тому, в котором мы их только что назвали, и займемся сначала мелкими отдельными богами (Sondergötter), над которыми так потешался святой Августин. Несколько групп этих существ прославились. Например, те, которые управляют рождением, питанием, и обучением ребенка (Ciu. D. 4, II и 7, 3, 1). После того, как Витумн и Сентин дали ребенку жизнь и способность чувствовать, Опис принимает его на земле, Ватикан открывает ему рот, чтобы он мог издать крик, Левана поднимает его с земли, Кунина ухаживает за ним, пока он в колыбели, Потина дает ему попить, а Эдука дает ему поесть. Павентия занимает его страхами. Когда ребенок идет в школу и возвращается из нее, Абеона и Адеона берут его под свою опеку и занимаются им под руководством Юноны как Итердуки и Домидуки[62]. Еще есть божества, которые, сменяя друг друга ежечасно, а затем ежеминутно, стараются облегчить невесте трагикомедию брачной ночи, действуя при этом весьма бестактно. Домидук уже отвел молодую жену в дом ее мужа. Домиций там ее устроил. Мантурна удерживала ее до самого деликатного момента (ibid., 6, 9, 3):«…Если было абсолютно необходимо, чтобы боги помогли мужу, то разве не достаточно было одного бога или одной богини? Разве не достаточно было Венеры, без которой женщина продолжает быть девственницей? Если у мужчин есть хоть какое-то целомудрие, хоть какая-то стыдливость, которых лишены боги, то даже при одной мысли обо всех этих богах и богинях, присутствующих при том, что они делают, разве они не почувствуют смущение, которое уменьшит пыл мужчины и усилит сопротивление женщины? Кроме того, если богиня Виргиниенсия помогает развязать пояс супруги, если бог Субиг помогает ей лечь под мужа, а богиня Према удерживает ее и не позволяет ей отбиваться, то зачем еще нужна богиня Пертунда? Пусть она покраснеет и уйдет, чтобы муж мог что-то сделать, ибо будет совершенно непристойно, если кто-то другой, кроме него будет в этом участвовать. Если с ее присутствием смиряются, то, возможно, потому, что считают ее богиней, а не богом, ибо, если бы она имела мужской пол и звалась Пертундом, то супруг, — для спасения чести своей жены — имел бы больше оснований звать на помощь против него, чем роженицы — призывать помощь против Сильвана (Silvanus)».Но святой Августин наводил справки у серьезных авторов, которым не пришло бы в голову насмешничать. Самый примечательный список, с одним из вариантов которого он был знаком (4, 8), исходит от Книги права понтификов Фабия Пиктора (Fabius Pictor), через Варрона, на которого ссылаются комментаторы Вергилия (Serv. Georg. 1, 21). Это — список существ, специализирующихся на каком-либо действии, имена которых называет жрец Цереры во время жертвоприношения Теллу и этой богине (которых призывало священное дуновение церерии, совершенное Телле и Церере). Каждое из этих наименований действующих лиц с окончанием — tor соответствует определенному моменту земледелия: Вервактор (Veruactor) — для того, чтобы вспахивать поле под паром, Репаратор (Reparator) или Редаратор (Redarator) — для приведения поля в порядок, Импорцитор (Imporcitor) — для сева, Обаратор (Obarator) — для поверхностной вспашки, Оккатор (Occator) — для боронования, Сарритор (Sarritor) — для прополки, Субрунцитор (Subruncinator) — для перепашки (для междурядной обработки), Мессор (Messor) — для жатвы, Коннектор (Conuector) — для перевозки, Кондитор (Conditor) — для того чтобы ссыпать урожай в амбары, Промитор (Promitor) — для того чтобы брать из амбаров. В близкой сфере, когда арвальские братья исполняют некоторые искупительные обряды за деревья, которые они изымают из священной рощи Деи Дии, они разделяют движение и отдельно обращаются (как это известно из самих их Деяний) к Адоленде, к Коммоленде и к Деферунде (в 183 г.), затем — только к Адо-ленде и Коинквенде (в 224 г.). Эти четыре божества, если расставить их не в алфавитном порядке, а в естественной последовательности их вступления в дело, то станет ясно, что сферой их деятельности были: выкорчевывание дерева из земли, распил, расколка и сожжение[63]. В этих классических примерах примитивисты усматривают самую древнюю форму представлений о божествах у римлян. Лучше охарактеризованные боги, по их мнению, выделились из групп такого типа под эгидой более широкой или более важной сферы действия, либо опираясь на греческие образцы. Это, конечно, совершенно ошибочная точка зрения. Существа, специализирующиеся в определенном отношении, появляющиеся всегда группой, с одной стороны, и автономные божества, с другой стороны, составляют две разные категории, несводимые друг к другу, и отвечают разным потребностям. Невозможно привести ни одного подобного примера из исторических времен (несмотря на то, что тогда существовало бесконечное число списков) — чтобы персонаж такого уровня, на каком находились Вервактор и Пертунда, возвысился бы до статуса божества типа Цереры или Юноны. Нет никаких оснований считать, что в доисторические времена дело обстояло иначе. Каталоги молитвенных формул (indigitamenta), — ибо именно так назывались эти литании, — это не питомники богов, и собранные в них сущности освободиться не могут. По поводу этих групп необходимо сделать несколько замечаний. Во-первых, понятийная сфера, в которой они играют роль, — ограничена: известные молитвенные формулы относятся только к тому, что происходит на полях, а также к частной жизни. А военная деятельность, например, где легко можно было бы себе представить развитое подразделение в вопросах владения оружием или маневров на поле боя, такого подразделения не имеет. Если фламин Цереры призывает Вервактора и его компаньонов, то не видно, чтобы его коллега, фламин Юпитера, религиозная деятельность которого постоянна (и о котором мы много знаем), должен был руководить такими группами. Во-вторых, в тех ограниченных сферах, где они действуют, эти существа, конечно, не важны. Вервактор и его коллеги, по-видимому, не вели никакой деятельности и, следовательно, не существовали нигде, кроме молитв фламина. Катон, которому мы обязаны знакомством со столь многими деревенскими обычаями, их не упоминает. О них не говорит также ни один писатель, даже поэт, автор Георгик. Не упоминает о них ни автор Фаст[64], хорошо изучивший Варрона, ни Цицерон в своих теологических трактатах. Сам Варрон, который много места уделял им в своих книгах о религии, не имеет повода упоминать о них в своей книге, посвященной земледелию. Прежде чем забавлять святого Августина, божества супружеской ночи могли бы — без полемических острот — дать возможность для создания ярких эффектов авторам комедий или сатирикам. Однако Плавту и Ювеналу они неизвестны — как и всякое другое перечисление такого рода. Все происходит так, как будто бы эти списки были делом только нескольких специалистов по жертвоприношениям и оказывали на религию остальных римлян не бóльшее влияние, чем то, какое имела на религию рядового католика иерархия ангелов, которую мы находим в предисловиях к мессе — причем в нескольких вариантах: Ангелы и Архангелы, Херувимы и также Серафимы; или: Вместе с Ангелами и Архангелами, вместе с Престолами, Господствами и вместе со всем войском небесных сил; или: Чрез величие Твое радуются Ангелы, молятся Власти, трепещут Начала, небесные Силы и праведные Серафимы совместным ликованием восхваляют. Следует подчеркнуть, что основа, исходные принципы классификации совершенно разные в молитвенных формулах и в Предисловиях, но в обоих случаях перечисление остается делом литургистов и теологов, живая религия этим не занимается. В-третьих, вполне возможно, что эти многочисленные списки были составлены по образцу нескольких древних списков, которые, может быть, вообще до нас не дошли. Примечательно, что то, что мы знаем о древних песнопениях арвалов — жрецов, занимавшихся полями, — не содержит сведений о группе, которой руководил Вервактор. В них упоминаются только великие боги, которые сохраняют зерно, либо дают ему место, где оно может находиться, либо «обрабатывают» его изнутри: Марс, Лары, Семон. Наконец, в самых известных случаях, списки молитвенных формул занимают второстепенное место. Божества, которые в них фигурируют, никогда не бывают объектом культа и не имеют специального, занимающегося только ими жреца. Вервактор и его спутники упоминаются только в обращении к ним фламина Цереры, когда он приносит жертвоприношения Церере и Теллу. О чем же это говорит, если только не о том, что они имеют отношение к Церере, лишь в частностях и на второстепенном положении участвуя в совокупности ее деятельности, которая состоит в том, что она благоприятствует процветанию полей? Точно так же, говоря о божествах, занимающихся детьми, святой Августин решительно подчеркивает (Ciu. D. 7, 3, 1), что Абеона и Адеона, самые незнатные богини, связаны в богослужении с Юноной, «богиней избранной, царицей, сестрой и женой Юпитера». То, что мы знаем о Юноне, покровительнице браков, а также родов, наводит на мысль, что это и о ее деятельности подробно рассказывает серия Виргиниенсия, Субиг и т. д., а также серия Опис, Ватикан и т. д. Эти несколько замечаний подсказывают разумное объяснение сосуществования собственно богов и списков молитвенных формул (indigitamenta). Божества менее значимые, собранные вместе в одном из этих списков, составляют как бы семью кого-нибудь из «великих» богов. Здесь могу лишь повторить то, что я предлагал 20 лет назад, высказываясь на эту тему[65]: «В Риме, как и везде, чтобы понять общество богов, следует также обратить внимание и на человеческое общество. Чему нас учит частная и общественная жизнь римлян? В сфере частной жизни вспомним о тех больших родах, которые владеют тысячами рабов — familia urbana, familia rustica. При этом большинство рабов специализируется на каком-то одном определенном занятии: мельник, повар и т. д. Вспомним комические перечисления — такие, как в Miles Gloriosus (Хвастливый воин, 693–698), где муж жалуется на требования жены, которые она предъявляет ему на характерном для Рима празднике Квинкватрии (“да давай в Минервин день”[66]): она должна передать деньги всевозможным колдуньям, чародейке, толковательнице снов, ворожее, предсказательнице, гадалке, а также своим служанкам, специализирующимся на определенных делах — гладильщице, повивальной бабке, кормилице из рабов, — и римские зрители забавлялись этой живописной «перекличкой», как каталогом. Клад, где в одиннадцати стихах хлопочут уже не рабы (famuli), а ремесленники, находящиеся на службе или живущие на иждивении знатных дам (508–522): суконщик, вышивальшик, золотых дел мастер, ткач, трактирщики, мастера-тесемщики, мастера, изготавливающие верхние туники, мастера, изготавливающие подвенечные покрывала, мастера, красящие в фиолетовый цвет, мастера, раскрашивающие под орех, лавочники, ткачи, изготавливающие льняные ткани, башмачники и т. д. Что касается общественной жизни Рима, то здесь уместно назвать аппариторов, ликтора, глашатая, писаря, цыплятника, которые сопровождают должностных лиц, занимающих высокие посты, выполняя обязанности, соответствующие компетенции каждого из них, а также служитель жреца, номенклатор кандидата, и т. д. В таком обществе, где приняты были списки и уточнения, большая степень разделения труда, методичность, — вполне естественно было, чтобы великие боги также имели внутри своей сферы (prouincia) многочисленных помощников, которые выполняли бы одно определенное действие “под руководством” бога, если можно так сказать, и как бы “за” бога. После того, как образец был создан и привычка установилась, этот тип персонажа стал весьма распространенным во всякие времена, обретая известные имена, иногда неудачные или имеющие столь же приблизительную этимологию, какая сегодня может быть у некоторых лекарств в названиях, придуманных фармацевтами. Здесь речь не идет о какой-либо ранней или примитивной, несовершенной форме религии. Это просто второй план, где состав божеств — неопределенный, зависящий от первого и порожденный им. И уж тем более эти существа не являются кандидатами в великие боги, — подчеркнем это снова. Точно так же, как и pater familias (отец семейства) не может быть «преобразованием» pistor-а (мельника) или любого другого специалиста, имеющего название с суффиксом — tor, которые имеются у него в доме или на ферме, как и консул не может возникнуть из среды своих технических служащих. Напротив, именно раб на мельнице, раб, занимающийся продовольственными запасами, раб-каретник и т. д. — требовали, чтобы был отец семейства: это было для них опорой. Аналогично этому именно ликтор, квестор и т. д. предполагали наличие провинции и консула с его волей. Точно так же и Церера — это не удачливый Вервактор, Репаратор и т. д., вышедшие из толпы, а, напротив, эти последние представляют собой тех персонажей второго плана, которые предполагают наличие над ними существовавшей до них Цереры, имеющей более разнообразные функции и гораздо бóльшие возможности. И станем ли мы удивляться тому, что римляне не знали ничего особого, личного, например, о Вервакторе, кроме его действий? Это было бы равносильно тому, чтобы удивляться, что нам ничего не известно (даже имени) о том ликторе, которому Брут поручил своих сыновей, или что мы ничего не знаем о тех ликторах, к которым Манлий или жестокие победители Капуи обращались, не называя имен: “Ликтор, привязывай к столбу!” В глазах гражданина этот служащий представляет в политической жизни столь же незначительный интерес, как и Вервактор и его спутники в культе Цереры. Не следует делать вывод, что римляне были не в состоянии выйти за рамки схематичного типа божества. Скажем лучше, что — если расставить всё по естественным и историческим местам и если исходить из обычного параллелизма между видимым и невидимым, — то станет понятно, что римляне были скупы на подробные уточнения и что, следуя образцу общественной жизни, они представляли себе множество помощников, служивших богам, но при этом не утруждали свое воображение и не растрачивали время на то, чтобы придумывать и говорить о них больше, чем необходимо»[67]. Примитивисты приводят другие факты, которые (как им кажется) неопровержимо доказывают, что римлянам было трудно представить себе бога или выделить его из видимых явлений, в которых он проявляется, и что они могли лишь смутно предчувствовать его. Во-первых, существуют сомнения в отношении пола божеств. Римляне мирились с этой неясностью, которая, по-видимому, их не смущала. В литургических формулах, сохраненных историками, либо копируемых поэтами, говорилось: «или бог или богиня» (siue deus siue dea) или что-то подобное этому. Так, как указано в одном из примечаний Сервия (Servius, Aen. 2, 351), в Капитолии хранился щит, на котором было написано: Genio Romae, siue mas siue femina[68]. Более того, о божестве, наверняка древнем и важном в сельском хозяйстве, каким был Palès, римляне не знали, был ли это бог или богиня, и мнения на этот счет расходились. Еще большая неопределенность существует в отношении некоторого числа божеств места или времени. Сказав genius loci, римлянин исчерпывал всё, что знал о сверхъестественном существе, которое косвенно проявилось через странное явление в определенном месте, и мирился с этой скудостью сведений. Особенно характерны обозначения (описания, определения) Фортуны: Фортуна этого дня (Cic. Leg. 2, 28), в честь которой был создан храм во время битвы при Верцеллах, когда потерпели поражение Кимбры (Cimbres). Впрочем, аналогичную неустойчивость можно обнаружить в таких выражениях, как «Фортуна мужская», «Фортуна женская» и многих других, святилищами которых изобиловал Рим. Не обнаруживаем ли мы в этом выражении, которое, однако, мыслится как самодостаточное, предел творческих способностей римлян в вопросе о богах, их неумение насытить содержанием и точно определить существо, невидимое для них? Наконец, утверждают, что о том же самом свидетельствуют и названия таких богов, как, например, Аий Локуций (Aius Locutius): однажды некий голос заговорил с римлянами, возвещая о предстоящих вскоре важных событиях. Они, конечно, признали в нем потустороннего союзника, но всё, что они сумели понять о нем и выразить в словах, оказалось двойным именем существительным, произведенным от двух глаголов, означавших — «говорить, сказать» и ничего более. Т. е. они констатировали, что голос заговорил, и этим ограничились. Чего только не изобрело бы в подобных обстоятельствах богатое воображение греков или индийцев! Эти факты, в общем и целом, достоверны. Однако, может быть, они представлены тенденциозно? И, главное, они находят гораздо лучшее объяснение, если оставить в стороне их освещение примитивистами. Все это отнюдь не является свидетельством беспомощности римлян. Конечно, римлянин мог различить пол божества не хуже грека или индийца, и он был способен на выдумки. Если он этого не делает, то исключительно в силу своего характера: из-за того, что ему присуще некое свойство ума, которое встречается, конечно, не только у него, но которое он развил в удивительно степени — это осторожность. Профессиональные юристы, магистраты, понтифики, подвизавшиеся в Риме, хорошо знали, насколько важна формулировка, и понимали необходимость — как в отношениях между людьми и богами, так и в отношениях между людьми — не выходить ни в малейшей мере за пределы известных фактов. Другие могли с помощью слов создавать лирическую поэзию, мечты, преувеличения. Но римлянин в течение очень долгого времени предпочитал точные и практичные высказывания, а в этом римском жанре изящество не схоже с поэтическим. Этот юридический дух, введенный в культ и в религиозную жизнь в целом, мы будем встречать на протяжении всей книги, вместе с разнообразными оговорками и уточнениями. Мы встретимся со многими вариантами, значительное число которых представляет собой уточнения определений. В юридическом крючкотворстве, в судопроизводстве, в работе адвоката, в формулировках претензий необходимо быть осмотрительным (cautus). Само название процесса и материала — causa — по-видимому, является производным от этого слова, а магистрат, которому приходилось приговаривать людей к смертной казни, говорит просто male cauerunt[69]. Слово, которое, в конце концов, стало обозначать все отношения человека с невидимым в целом, — religiones, religio, — какой бы ни была его этимология, сначала обозначало сомнение: не порыв, не действие, а приговор (решение), тревожные сомнения в проявлении чего-то, что надо прежде всего понять, а потом уже пытаться к нему приспособиться. Таким образом, римляне очень быстро оценили значимость и эффективность слов в религии. Один из первых «мифов» о происхождения, который мы находим в предании, — это торговля между Юпитером и Нумой, но это в то же время и испытание, с помощью которого бог проверяет, знает ли царь, насколько важны лексикон и синтаксис. Бог плохо строит свои высказывания, чем дает шанс партнеру: «Отруби голову!», — говорит он. А Нума сразу же отвечает: «Я подчинюсь и срежу головку лука, выращенного в огороде». — «Но я хочу человека!» — возражает бог, не уточняя, что он хочет именно голову человека. Нума хватается за вторую выгодную возможность и говорит: «Значит, я отрежу и концы волос». — «Но я хочу живого!» — говорит бог, повторяя ошибку. «Тогда я прибавлю еще рыбу», — отвечает Нума. Юпитер, наконец, убежден и награждает этого блестящего экзаменуемого, как бы дает ему диплом, говоря: о uir colloquio non abigende meo!»[70] (Ov. F. 3, 339–344). Римлянин постоянно заботится о том, чтобы — как в религиозной, так и в общественной жизни — говорить осторожно, не говорить ничего такого, и особенно не допустить таких формулировок, которыми бог-собеседник или его толкователь-человек мог бы воспользоваться в ущерб ему: либо рассердиться, либо не понять или исказить смысл сказанного. Не менее легендарным, чем разговор Юпитера и Нумы, но и не менее показательным является знаменитый рассказ о действиях, обеспечивших Риму выгоду от предсказаний на Капитолийском холме. Копая землю для устройства фундамента храма в честь Юпитера, землекопы нашли человеческую голову. Римляне отправили послов в Этрурию, чтобы спросить у знаменитого колдуна, как понимать это открытие. Они не подозревали о том, какому риску при этом подвергаются: ловко манипулируя значениями двух наречий места — illic и hic («там» и «здесь»), — этруск наверняка ограбил бы их, отнял бы этот знак и скрыл бы его смысл, если бы (благодаря спасительному предательству его собственного сына) они не были предупреждены (Dion. 4, 59–61).
«Слушайте, римляне, — сказал он, — мой отец разъяснит вам это знамение, и честно, так как прорицатель (devin) не имеет права лгать. Но важно, чтобы вы знали, что вам придется нечто ему поведать и ответить на его вопросы. Итак, я вам это сообщу. Когда вы расскажете ему о знамении, он ответит, что не вполне понял, и начертит на земле круг своей палкой, добавив: «Вот Тарпейский холм. Он обращен на все четыре стороны — восток, запад, север, юг». Указывая своей палкой в каждую из сторон поочередно, он спросит, в какой из них была найдена голова. Вот вам мой совет. Следите за тем, чтобы не сказать, что голова была найдена в каком-то из указанных им мест. В ваших ответах уточните только, что она была найдена у вас в Риме, на Тарпейском холме. Если вы будете соблюдать осторожность, не дадите ему возможности манипулировать вами и скажете, что невозможно изменить место обретения этого знамения, тогда он откровенно объяснит его смысл».И какой смысл! Прорицатель, в конце концов, вынужден его раскрыть: место, на котором была найдена голова, станет главой Италии. Формулировки фециалов во время заключения договора — в изложении Тита Ливия (1, 24, 7–8) — свидетельствуют о таком же стремлении к точности. Прежде чем принести свинью в жертву Юпитеру, гаранту договоров, жрец заявляет, что римский народ не нарушит первым его условия, «как они здесь в сей день поняты вполне правильно», а если он это сделает, то Юпитер сможет в тот же день покарать его, «как в сей день здесь я поражаю этого кабанчика»[71]. Именно в духе этой осторожности в употреблении слов следует толковать ограничительные уточнения — такие, как Фортуна этого места, этого дня и т. п. Они объясняются стремлением очертить временные и пространственные границы, уточнить, чего ждут, на что надеются, чего опасаются. И не потому, что у римлян не было давно сформированного общего понятия fortuna. Просто, в таком общем виде оно было им бесполезно, поскольку их не заботила далекая судьба, имеющая силу всегда и везде. И они, таким образом, точно определяют понятие в соответствии с его местом и временем применения: было ли оно благоприятно или пагубно для начинаний римлян в таком-то месте, в такой-то день, на основании опыта. Из этого следовал вывод, что некий определенный вид фортуны требует к себе благодарного или осторожного внимания. Так, например, область Аллии была местом для жестокого поражения, имевшего важные последствия, во время нашествия галлов. Поэтому позднее, римляне избегали давать там сражения. По крайней мере, на это рассчитывали враги Рима пренестинцы. И дело вовсе не в том, что следовало бояться Фортуны вообще или фортуны сражения, фортуны консула или фортуны данного дня. Опасаться следовало совершенно точно определенной, четко очерченной судьбы места (Liv. 6, 28, 7 и 39). В таком же духе излагаются все религии, как только дело доходит до формулировок. Поэты Ригведы, смелый лиризм которых часто противопоставляют позитивному духу римлян, также не могут избежать этого, когда это уместно. Просят ли они покровительства Индры (8, 61, 16–17): «Защити нас сзади, снизу, сверху, впереди, со всех сторон, Индра! Не допусти до нас опасность, которая исходит от богов, охрани от нападок тех, кто не является богами (non-dieux)! Защити нас в каждое сегодня, в каждое завтра, Индра, повседневно, защищай нас днем и ночью!». Здесь предосторожность заключается в том, чтобы хорошо анализировать, а вовсе не в том, чтобы ограничивать. Однако, намерения, цели, потребности — те же самые: выразиться так, чтобы адресат не смог найти какой-либо лазейки, чтобы ускользнуть. Множество примеров можно найти также в Атхарваведе; и среди мифов Индии, Ирландии и других стран можно было бы заметить, что многие беды настигают демонов или богов из-за того, что они неверно произнесли, неверно подчеркнули важное слово, либо недостаточно очертили границы слова «да» в ответе на просьбу. Но такие проявления предосторожности особенно очевидны в богопочитании римлян. Частично это, возможно, объясняется тем, что до нас дошел лишь отраженный в формулировках костяк. Несомненно также, что осторожность объясняет формулировки типа siue deus siue dea[72] или столь же непритязательные наименования, как Аий Локуций. В отношении первых следует сначала прояснить недоразумение: неверно, что римляне когда-либо могли не приписывать поля определенному, хорошо им известному божеству, которому они дали имя. Постоянно приводимый в качестве примера Палес не выдерживает, как мы увидели ниже, строгого и тщательного анализа материалов. Римские Палес (или, вернее, две Палес) — богини, а «Палес» в мужском роде встречается только в Этрурии. Это просто значит, что этрусское божество, имевшее те же функции, что Palès, был богом, а не богиней. Но в Риме ни пастухи, ни эрудиты не заблуждались на этот счет[73]. Когда на щите Капитолия мы читаем «Гению Рима, или мужчине, или женщине» (а также во всех аналогичных случаях), — «или» исключает путаницу или неясность. Римляне знают, что здесь или там присутствует божественное существо, но — не имея других сведений и стремясь быть понятыми, и даже для того, чтобы их непременно поняли, — они не хотят выходить за пределы своего знания. Мысль о Гении женского пола — весьма странная, так что указание Сервия с этим словом в такой форме подозрительно. Но сам механизм мысли, которая обосновывает эту фразу, — вполне реален и характерен для римлян: если бы они сказали «он» (например, если бы они ограничились мужским полом Genius), а это оказалась бы «она», то «она» напрасно пыталась бы делать вид, что не знает о принесении в дар щита или даже делать оскорбленный вид. В общем, это всего лишь частный случай очень общей позиции. В том же отрывке Сервий приводит формулировку молитвы: жрецы молились «Юпитер Наилучший и Величайший[74], или какое другое имя твое услышать желаешь…». Понтифики наверняка имеют точное представление о Юпитере — в такой же степени, как и эллины о Зевсе. И они, конечно, знают, что главные эпитеты Юпитера — это «Наилучший» (Optimus) и «Величайший» (Maximus). Однако они сохраняют возможность для недоговоренности, для каприза бога, для некоторой неуверенности и обеспечивают эту возможность словами, добавляемыми к эпитетам. Пятая песнь Энеиды (94–96) дает нам прекрасный пример такой осторожности. По истечении года Эней положил дары на могилу отца. Появилась змея, попробовала кушанья и снова уползла в могилу. Эней не понимает, что представляет собой это животное: это гений места? Это рабыня отца? «Гений ли места ему иль Анхиза прислужник явился…».[75] Тогда он снова кладет дар. Значит ли это, что Эней, т. е. любой римлянин, беспомощен, не может различить разновидности духов? Отнюдь нет. Здесь, напротив, дело в том, что он знает эти виды, но не знает — из-за многозначности змеи — с каким из них он столкнулся. Именно поэтому он повторяет обряд. Неуверенность существует, и человек, совершающий обряд, ее ощущает. Но причина ее заключается в недостаточности информации, и именно из этого он исходит в своем поведении. Выражение siue deus siue dea также не может служить доказательством того, что римлянин плохо представляет себе имеющих пол богов. Оно просто свидетельствует о том, что в данном конкретном случае он считает себя недостаточно осведомленным и поэтому предпочитает рассмотреть обе возможности. В наше время коммерсант, который печатает десять тысяч экземпляров рекламного текста, начинающегося со слов «Господин, госпожа», — поступает точно так же. Случай с Аийем Локуцием объясняется точно так же, и это не недостаточность понимания, не продолжение примитивного уровня[76]:
«Римляне знали, что в одном весьма известном случае вмешался бог, поскольку он говорил, и его голос слышали люди. Они знали также, что это был бог мужского пола, ибо по голосу можно распознать пол говорящего. Но больше ничего не было известно об этом благодетеле. Конечно, римляне могли бы высказаться, выразить то, в чем они были уверены, а также они могли в аналитической формулировке уточнить то, чего они не знали, и сказать, например: «тот бог, который говорил». Но это слишком длинно, и они сказали «Аий Локуций»; однако в обоих случаях и цель, и результат — одни и те же. Стоит ли оспаривать, что если бы римляне действительно этого хотели, то могли представить себе в виде полноценного человека, имеющего лицо и взгляд, того бога, который с ними говорил человеческим голосом, или пуститься в предположения о его тождественности с тем или иным богом, хорошо известным и почитаемым? Римляне этого не захотели. Их опыт в судебных процедурах, в том юридическом искусстве, которое по своей природе характеризуется точностью и недоверчивостью, учил их тому, что лучше не добавлять выдуманных и непроверенных элементов к надежным данным дела, даже если их немного. Ведь искусственные уточнения — рискованны, и прежде всего имеется риск ошибиться с адресом. В более благоприятных случаях, когда «авторство» сверхъестественного вмешательства как бы отмечено, римляне не колебались в выборе имени бога и в названии события, а лишь извлекали новое cognomen (фамильное имя). Так, например, было во всех случаях приношений: они были уверены, что силой, остановившей панику на одном поле битвы или завершившей победой другое сражение, был Юпитер, поскольку именно Юпитеру полководец недавно посвятил храм, чтобы добиться этого успеха. И поэтому совершенно естественным образом почтение и благодарность римлян были адресованы Юпитеру, которого назвали Юпитер Статор или Юпитер Виктор. Аналогичным образом, по-видимому, какая-то конкретная подробность, — забытая позднее и замененная различными легендами, несовместимыми друг с другом, — гарантировала, что богиней, которая их предостерегла, была Юнона. Поэтому римляне поклонялись не какой-то неясной богине Нунции Монете, но с полным убеждением почитали Юнону Монету — ту, которую красочное и непредсказуемое будущее впоследствии сделало эпонимом нашему «monnaie» («деньги»). Точно так же римляне могли бы сделать лестное предположение, что богом, который говорил на одной из улиц Рима перед нашествием галлов, был Юпитер, и поэтому назвать его Юпитер Локуций, аналогично тому, как они говорили Jupiter Elicius. Но это было бы опасно, поскольку могло вызвать гнев как Юпитера (если он вдруг был к этому непричастен), так и того бога, который в этом случае был тем, кто действительно говорил. Поэтому римляне сказали просто, — избрав двойное название, в какой-то мере известное и имевшее связь с прецедентами, — Аий Локуций. Здесь опять-таки имеет место не беспомощность дикаря, а снова и снова — осторожность, сдержанность в высказываниях народа, имеющего большой опыт в судебных спорах».
V. УТРАЧЕННАЯ МИФОЛОГИЯ: ПРИМЕР МАТРАЛИЙ (MATRALIA)
Остается странная особенность римских богов: скудость мифологии, отсутствие родственных связей, «бесчеловечность», а также у многих из них — столь смутные очертания и столь неясная деятельность, что, в конце концов, о них известно меньше, чем известно про Вервактора или Аия Локуция. Этот факт слишком прочно установлен: такая богиня, как Фуррина — достаточно важная для того, чтобы иметь в распоряжении одного из 12-ти фламинов второстепенного ранга — остается почти столь же таинственной для нас, какой она была уже для Цицерона, который смог только сочинить для нее этимологический каламбур (furia). И она не одна такая. Однако и здесь будет достаточно нескольких замечаний, чтобы отвергнуть вывод, который примитивисты извлекают из таких божеств. Во-первых, число таких загадок значительно сократилось за последние двадцать пять лет. Многие из загадочных фигур, входивших в список, который составил Виссова, — даже бóльшая часть их, — получили вполне приемлемое объяснение, в которое гармонично укладываются все материалы. И эти толкования были подкреплены параллелями из мифологии других индоевропейских народов. Среди богинь, — чтобы не возвращаться к Палес, вся загадочность которой сводилась к мнимой неясности пола, — назовем Карну, богиню Ангерону, а с ней — Волупию, Феронию, и даже Луа Матер среди них. Теперь все они понятны, оригинальны в своей «специальности» (в своем роде деятельности), но нормальны, и даже банальны для богинь. В отношении богов мужского пола, классический пример Квирина уже не годится: его тоже можно понять и как такового, и в его отношениях с двумя другими богами, имеющими фламинов высшего ранга. Он объясним и в своей исходной форме, и в своей эволюции. Чтобы получить эти результаты, достаточно было устранить серьезные предрассудки, существовавшие, в частности, в отношении богинь: например, навязчивая идея о бесплодности «Богини Матери», «Великой богини». А в отношении бога следовало избавиться от сабинской иллюзии и некоторых других иллюзий, к которым мы сейчас вернемся. Это первое замечание естественным образом ведет к другому. Та неясность и неопределенность, которую у этих божеств считали врожденной, таковой отнюдь не является. Конечно, римляне классической эпохи плохо понимали Квирина, и если они оставили ясные определения Карны (Carna), то в отношении Ангероны (Angerona), например, у них были большие сомнения. А в отношении Квирина и Ангероны эти сомнения в немалой степени усложнили дело и сделали трудным исследование для нас, современных людей. Но это досадное обстоятельство не означает, что Квирин или Ангерона были плохо сложенными, незавершенными и всегда неясными, как бы удлиненными эмбрионами. Напротив, дело было в ослаблении и устаревании, вызванных тем, что с течением времени позабылись определения и функции, которые некогда были ясными, сложными и гармоничными. К тому времени, когда римский пантеон был зафиксирован в литературе, он находился в процессе разрушения. Прилив, пришедший из Греции, все затопил, отбил вкус к познанию традиционных объяснений. Самые оригинальные фигуры, которые именно вследствие своей оригинальности не могли получить истолкования на греческий лад (interpretatio graeca), были обречены на исчезновение. Они не могли выжить, а если выживали, то лишь в ритуалах, которые становились всё менее понятными. Можно считать чудом, что в этой катастрофе сохранилось несколько (четыре или пять) разрозненных сведений, соединение которых проясняет значение Ангероны, две заметки, которые подтверждают значение Карны (Carna). В отношении Фуррины такого чуда не произошло. Короче говоря, все божества, которые своей неясностью приводили в замешательство знатоков старины времен конца Республики и Империи (прежде чем бросить вызов современным комментаторам), не относятся ни к какой «примитивной» форме религии. Однако фактом является то, что даже самые важные и самые живые боги не имеют никакой мифологии. Возьмем, например, богов, имевших фламинов первого ранга, — Марса и Юпитера, которые сотрудничают в процессе роста Рима, а также Квирина, который по определению противостоит Марсу, но которого (как это ни парадоксально) иногда путают с Марсом. Ни все трое, ни по двое — они не участвуют ни в каких приключениях. Они не участвуют даже в распределении мира на свои области владения, сравнимом с тем, которое осуществил Зевс со своими двумя братьями, после того как Титаны потерпели поражение. Кроме приносимых ему жертв, кроме ауспиций, которые он дает, а также грома и молнии, которыми он управляет, — всё, что римляне знают о самом древнем Юпитере, сводится к обещанию, данному им Ромулу с Ремом и Нуме, а также к каре, которой он подверг неосторожного Тулла (Tullus). Да и то, в этих немногих случаях партнером великого бога является человек и его действия в «истории». Когда три капитолийских бога в конце этрусского периода были объединены в одном храме, имевшем три целлы, нельзя с уверенностью утверждать, — несмотря на весьма вероятное косвенное греческое влияние, существовавшее в это время, — что Юнона Царица была супругой Юпитера. Дело в том, что Опа и Конс составляют теологическую пару, обрядовую чету, а не супружескую пару. Дионисий Галикарнасский выразил восхищенное удивление своими соотечественниками-философами, обнаружив такое отсутствие легенд. Уверенный в том, что через посредство альбанцев (Albains) римляне являются греками, он совершенно свободно восхваляет мудрость первых институций и религиозную чистоту этих западных поселенцев. Он считает, что Ромул «скопировал» самые лучшие обряды, существовавшие у греков, но сумел в своих заимствованиях ограничиться только этим (2, 18–20):«Что касается мифов, которые в Греции сопровождают эти обряды и которые содержат богохульства и клевету на богов, изображая их злыми, зловредными, непристойными, в ситуациях, не подобающих не только божествам, но даже просто порядочным людям, — Ромул их просто отверг. Он настроил людей на то, чтобы они говорили и думали о богах только самое лучшее, не приписывали им никаких черт, несовместимых с природой блаженных. Поэтому мы не находим у римлян ни истории Урана, которого покарали его дети, ни истории Кроноса, уничтожающего свое потомство из страха, что его дети нападут на него, ни Зевса, положившего конец господству Кроноса и заключившего своего отца в Тартар, как в тюрьму. Мы не находим также рассказа о войнах, ранах, заключении под стражу или о порабощении богов на земле… Я понимаю, что среди греческих мифов есть и такие, которые полезны людям, когда они либо аллегорически описывают действия природы, либо приносят утешение человечеству в его бедах, либо изгоняют тревоги из души и уничтожают нездоровые мнения, либо направлены на какие-нибудь другие дела. Я знаю все это, но, тем не менее, с большой осторожностью отношусь к ним. Меня гораздо больше привлекает понимание богов у римлян, их теология. Я сознаю, что греческие мифы имеют весьма незначительные преимущества и что, впрочем, оценить их могут лишь те люди, которые в достаточной мере обладают философией, чтобы стремиться выяснить цели, побудившие к сочинению мифов. Таких людей очень мало. А необразованная толпа, естественно, толкует наихудшим образом то, что рассказывается о богах, выбирая лишь одну из двух позиций — презирать богов за неблаговидное поведение или пускаться, по их примеру, в любые крайности».Недавно мы получили непосредственное доказательство того, что скудость мифов и бесчувственность римских богов не является изначальной. Так же как все другие индоевропейские народы, римляне поначалу дали своим богам мифы, опиравшиеся на периодические культовые сценарии поведения или похождений богов. Но затем они всё это забыли. Однако иногда удается их выявить в ритуалах, которые их подтверждали и которые, после исчезновения мифов, стали для римлян, — даже в великую эпоху, — непонятными ребусами. Мифы, которые тогда появляются, полностью согласуются с тем, что рассказывали ведические индийцы, а иногда и скандинавы. Я приведу лишь один пример, довольно подробно. Римляне праздновали 11-го июня Matralia, праздник богини Матери Матуты (Mater Matuta)[77]. Несмотря на все споры, которые велись вокруг этого, несмотря на чудеса изобретательности, проявляемые для того чтобы запутать то, что вполне ясно, Матер Матута — это Аврора: Матута — это имя, от которого было образовано прилагательное «утренний, ранний» (matutinus), но в этом виде деривации прилагательное никогда не добавляет ничего фундаментального существительному. Конечно, имя Матута принадлежит к большой семье слов (в которую, в частности, входят слова manus — «хороший», matures — «зрелый»), имеющих в своей семантике общий элемент — «быть готовым». Но каждое из этих слов шло по своему собственному пути. Матута специализировалось как обожествленное имя «восхода солнца», «рассвета». Так понимали это слово древние (Lucr. 5, 650)[78]. К счастью, нам весьма точно известны два ритуала из Матралий, праздника, предназначенного замужним женщинам, bonae matres (добрым матерям; Ov. F. 6, 475), которые были замужем только один раз — uniuirae (Tert. Monog. 17). Плутарх, которого подтверждает Овидий в отношении второго ритуала (F. 6, 559, 561) и частично в отношении первого (ibid., 557–558), неоднократно к этому возвращается (Cam. 5, 2; Q. R. 16 и 17; в отношении второго ритуала Mor. 492, D = De frat. am. 21, в конце). Эти ритуалы заключаются в следующем: 1. В то время как в храм Матуты обычно запрещен вход для рабов (gent servile), замужние женщины, собравшиеся на праздновании, в виде исключения вводят внутрь ограды одну рабыню, которую они затем изгоняют пощечинами и розгами; 2. Женщины несут на руках, «заботливо обращаясь» с ними, и рекомендуют богине не своих собственных детей, а детей своих сестер. Эти сцены должны были следовать друг за другом. Плутарх дважды представляет женщин собравшимися вместе, но римляне не дали тут никаких комментариев. Современные комментаторы, заметив это обстоятельство, сочинили много выдумок. Однако беглый взгляд на мифологию богини Авроры ведических индийцев, Usas, подтверждает интерпретацию, которую подсказывают жесты праздника и его дата: один раз в году, незадолго до летнего солнцестояния, с целью помочь посредством симпатической магии Авроре, римские женщины во время Matralia делают то, что Usas делает каждое утро, или то, что Авроры, Usàsah, делают ежеутренне, а именно — «негативную» практику очищения, и его позитивные последствия. Аврора «изгоняет черное безобразие» (badhate krsnàm àbhvam: RV. I, 92, 5), «отталкивает тьму» (àpa dvéso badhamana tàmamsi: 5, 80, 5), «отодвигает тьму (;ip;i… badhate tàmah) подобно героическому мученику, изгоняющему врагов» (6, 64, 3); Авроры «отталкивают и изгоняют мрак ночи» (vi ta badhante tàma urmyayah), возглавляя жертвоприношение» (6, 65, 2); «богиня Аврора идет, отгоняя (badhamana) светом всякий мрак опасности; и вот показались (появились) светящиеся Авроры;… неприятный мрак исчезает на западе (apacïn am tàmo agad àjustam)» (7, 78, 2 и 3). Таким образом, гимны представляют естественное явление природы — рассвет — как резкое изгнание тьмы, причем тьма идентефицирована с врагом, варваром, с чем-то демоническим, с «безобразием», с опасностью и т. д. И это делает Аврора или группа Аврор — благородных богинь, жен arya[79], aryâpatnïh (7, 6, 5), supâtnïh (6, 44, 23). Именно это изображают, во время Matralia, bonae matres, женщины uniuirae, действуя против рабыни, которая должна — в противоположность им — представлять зло и дурные природные наклонности. В этот мир, освобожденный от тьмы, Аврора или Авроры приносят Солнце. Эта простая истина в ведических гимнах получает несколько воплощений, но одно из них, особое, не подсказывается самим явлением как таковым. По-видимому, это — продуманное представление, выработанное жрецами. Аврора преимущественно выступает как богиня-сестра: в Ригведе слово svàsr — «сестра» — применяется к божеству всего лишь тринадцать раз, причем в одиннадцати случаях речь идет об Usas или о божестве, называемом местной Usas, а «сестринскую чету» (пару сестер) она составляет с божеством того же типа — с Ночью, Râtrï, с наибольшим постоянством. Из одиннадцати текстов, о которых только что было сказано, шесть относятся к Usas как сестре Râtrï, либо наоборот. В двойственном числе из пяти примеров «обе сестры» три раза обозначают Usas и Râtrï, два раза Небо и Землю. И это вовсе не изящество языковой формы. Данное выражение действительно указывает на отношения между двумя лицами: насколько Аврора жестока к демонической Тьме, настолько же она почтительна и предана Ночи, которая (так же, как и она) принадлежит к благой стороне мира — тому rtâ, космическому порядку, «материями» которого их обеих считают (1, 142, 7; 5, 5, 6; 9, 102, 7). Однако другое дитя этих матерей-сотрудниц характеризуется яркими названиями. Иногда, по весьма странной физиологии, они обе являются матерями их «общего теленка» (1, 146, 3; ср. 1, 95, 1; 96, 5) — Солнца или Огня, зажигаемого во время жертвоприношений. Иногда Аврора принимает только сына (Солнце или Огонь) своей сестры Ночи и, в свою очередь, ухаживает за ним[80]. Это второе выражение здесь особенно подходит. Приведем примеры (3, 55, 11–14): 11. Обе сестры-близнецы (yamia) приняли разную окраску: одна сверкает, а другая — черного цвета. И темная, и красная — сёстры (sväsärau)… 13. Вылизывая теленка другой, она замычала (anyàsya vatsàm rihatî mimaya)… 14. Многообразная одевается в красивые цвета, держится прямо, облизывая полуторагодовалого теленка. Во всех этих вариантах постоянно сохраняется идея хозяйки: Аврора кормит своим молоком (1, 95, 1; 96, 5), облизывает (3, 55, 13) ребенка, который либо является общим — ее и ее сестры Ночи, либо только ребенком сестры. Благодаря этому ребенок — Солнце (или, в литургических построениях, — жертвенный Огонь и любой огонь), — вначале порожденный Ночью, достигает зрелости дня. Употребляемые в мифах выражения подчеркивают идеи «матери», «сестры» и «ребенка сестры», хорошо передавая функцию кратковременной зари: появление солнца или огня, который, однако, сформировался до ее появления. Так же как первый ритуал, второй ритуал Матралий получает, таким образом — из этого сопоставления с индийским мировоззрением, — полное освещение. Дело в том, что римляне, будучи людьми рассудочными, не предполагают физиологического чуда. У ребенка — не две матери, а (как в том варианте, который Индия не приняла) мать и тетка: сына Ночи — Солнце — берет под свое покровительство сестра Ночи — Аврора[81]. Наконец, мы показали, что из всех божеств Ригведы именно U§as имеет наиболее обширные родственные связи. Будучи сестрой Ночи, матерью и тетей Солнца (или Огня), она, в других контекстах, является еще и женой или любовницей Солнца (или Огня) и принадлежит только ему (так как она не куртизанка), а также дочерью Солнца и матерью вообще — матерью людей (7, 81, 4), матерью богов (1, 113, 19). Однако матроны, которые во время церемоний Матралий изображают оба аспекта Матери Матуты и которые, следовательно, должны не только действовать, но и «быть», как она, — оказываются одновременно сестрами, матерям, тетками; а с другой стороны, по отношению к своим мужьям они выполняют определенное условие: они — uniuirae. Ни один римский ритуал не требует совмещения столь многих семейных обязанностей. Уроки, которые мы можем извлечь из этого сопоставления, очень важны. Жесты bonae matres и семейные обязанности, которые они должны были выполнять, не были нам объяснены римлянами, а Плутарх, который искал для них эллинистические объяснения, также не слишком хорошо разбирался в этих древних смыслах. Может быть, они были полностью утрачены? И все же за этими жестами изначально должны были существовать (как в Риме, так и в Индии) идеи, мысли, представление — богатое оттенками и сложное, отрицательное и положительное, рациональное, но и драматичное — об утренней заре, или, вернее, об Авроре, об Аврорах, воображаемых как божества. Ибо, и это следует подчеркнуть, ни один из двух ритуалов у римлян не был вдохновлен непосредственно самим явлением, которое и не изображается объективно: в обоих случаях предполагается антропоморфное истолкование, с родственными отношениями: богиня, благородная сестра ночи, изгоняет с враждебными чувствами свою противоположность, предстающую в образе рабыни, а затем с любовью и нежностью принимает своего племянника — Солнце. И кроме того, так же как в Индии, происходит увеличение числа Аврор, образующих группу и действующих сообща. Следовательно, когда-то существовала — в обычном греческом и ведическом смысле слова — римская мифология зари, главные сведения о которой мы получаем из сохранившихся в ритуале следов. Если первое из представлений, обнаруженных таким образом (госпожи Авроры, изгоняющие мерзкую Тьму), — могло сформироваться в Индии и Риме независимо, самостоятельно, то второе представление — госпожи Авроры, любовно принимающие сына своей сестры, — оригинально, и даже неожиданно. Я не знаю подобного примера за пределами Индии и Рима. Следовательно, а priori вполне вероятно, что мифология зари была унаследована в обоих обществах из их общего прошлого. Наконец, это мифология высокого уровня: она предполагает не столько анализ моментов, сколько анализ аспектов феномена зари, тонкое понимание различий между зловредной тьмой, которую Авроры изгоняют, и плодотворной ночью, плод которой они принимают. Это восстанавливает интеллектуальное достоинство древнейших римлян и поднимает их до уровня ведических поэтов: конечно, не в отношении поэтической выразительности, но в отношении замысла. Когда же Рим утратил свою мифологию? Здесь возможны лишь гипотезы. Лично я не стал бы относить к слишком ранним временам начало этого процесса. Во всяком случае, ускорило и завершило его, несомненно, вторжение греческой мифологии, гораздо более богатой и обаятельной. Судьба Матуты в эпоху толкований весьма интересна. Поскольку никакая греческая богиня не соответствует ей в ее главной функции (розовоперстая Эос — всего лишь литературный образ), то ее искусно уподобили Левкофее (Leukothéa), опираясь на две сходных детали в ритуале их почитания. Но богиня Аврора, тем не менее, осталась в сознании римлян. Однако когда на нее была распространена мифология Левкофеи, то, с одной стороны, это вытеснило из памяти людей древнюю мифологию, а, с другой стороны — создало связь с божеством, которое первоначально не имело к ней никакого отношения: Портун, соединившись с Палемоном, стал ее сыном. Есть еще один вопрос, который полезно было бы поднять, но он остается открытым из-за отсутствия соответствующих материалов: утратили ли свою мифологию другие латинские народы? Стали ли их божества такими же бесплотными и абстрактными, как божества Рима? Некоторые, хотя и весьма скудные, сведения наводят на мысль, что эти народы поступили не столь радикально. Так, в Пренесте Фортуна Примигения (Перворожденная) в загадочной апории, которая ее характеризует, представлена как главная и, в то же время, — в противоречии с этим, — как дочь Юпитера, puer Jouis. Поскольку эта апория представляется фундаментальной (она также напоминает один из постулатов такого же уровня), то весьма соблазнительно допустить, что родственные связи, начиная с Юпитера, относятся к древним временам[82]. Есть в Пренесте и пара неразлучных братьев, родство которых типологически подобно родству Ромула и Рема, и это можно утверждать наверняка. Однако они — боги, и в истории основания Рима они выступают именно как боги. В таком случае рассказ, — который в самóм Риме представляет близнецов-основателей, низведенных до человеческого уровня, как сыновей Марса, — может быть, следует оставить в силе, не надо его исключать только на том основании, что у самых древних римлян родственные связи богов не были предметом религиозного мышления. Второй вариант, согласно которому римские близнецы были порождены появившимся в очаге фаллосом, видимо, также не является поздней выдумкой: он имеет аналогию в Пренесте. Следует отметить, что этот вариант не мог появиться из Греции, так как там он был неизвестен, но он встречается в Индии, где культ очага обнаруживает большое сходство с соответствующим культом в Риме. Хотя этот культ не засвидетельствован в ведической литературе, он присутствует в некоторых эпических преданиях, которые, хотя и были записаны позднее, вполне могут быть древними: Картикея, бог войны, родился отплотского желания, которое испытал Агни, олицетворенный Огонь, к женщинам благородного происхождения. Он вошел в домашний очаг (gārhapatya) и удовлетворил это свое желание с помощью пламени (śikhābhiḥ). Но, подчеркнем снова: случаи такого рода встречаются слишком редко, религия других городов Лация слишком мало изучена, и поэтому невозможно высказать какое-либо суждение. Хотя достоверно известно, что Рим VIII в. был лучше знаком с мифологией, чем Рим III в., все же, по-видимому, в отличие от греческой мифологии, из-за дефицита поэтов, римская мифология не была отражена в литературе, а ограничивалась тем, что было полезно и тесно связано с обрядами. В этом смысле она заслуживала тех похвал, которые высказал Дионисий Галикарнасский в адрес теологии своего времени. Когда мы с ним знакомимся впервые, Юпитер О. М. — серьезный господин, достойный уважения, так что весьма маловероятно, чтобы римляне или их предки когда-либо приписывали ему такие любовные приключения, какими славился его греческий «коллега» Зевс. Наконец, чрезвычайно благоприятное положение, в которое поставили нас Матралии, — весьма редкое явление: только Матута и Ангерона имеют ритуалы, в которых наглядно изображаются живописные действия мифов или указывается на их значение, что позволяет полноценно их истолковать. При праздновании Луперкалий совершается ряд действий (молодые люди смеются или натирают лоб кровью), которым нет объяснения, так как либо нет ничего аналогичного у других народов, либо нет точных сведений о том, какому божеству посвящено празднество. В основе Nones Caprotines[83], возможно, лежит какой-то утраченный миф о Юноне, но невозможно даже предположить, чтó это за миф. Фактически обоснования большинства римских праздников (по крайней мере, в тех случаях, когда они имеются) носят другой характер: они не касаются богов, а затрагивают только людей — великих людей прошлого. Так, гонки во время Луперкалий, с их двумя командами, предположительно восходят к одному из эпизодов жизни близнецов-основателей; происходящее в это же время бичевание восходит к несчастью из времен Нумы; зажигаемые во время Парилий огни (костры) восходят к эпизоду из времен основания Рима. Явно вымышленный эпизод из времен осады Рима галлами, заимствованный из рассказов о военных хитростях галлов, «объясняет» культ Юпитера Пистора, и т. д. К тому же, как правило, в «исторических» пояснениях речь идет только о введении ритуалов, но не дается никаких сведений о том, как они проходили. Так появилось множество маленьких этиологических легенд, в которых либо действуют только люди, либо боги вступают в некие отношения с людьми. В большинстве случаев — это поздние измышления, не представляющие никакого интереса, кроме того, что они являются свидетельством позиции человека в сфере религии. Так, например, обстоит дело в отношении торга Нумы с Юпитером, о котором говорилось выше. Можно также вспомнить о «мифе», в котором обосновываются Ларенталии 23 декабря. Он хорошо показывает уровень такой литературы. Во время царствования Анка Марция, когда однажды смотритель храма Геркулеса заскучал, он предложил богу сыграть против него. Условия пари: проигравший хорошо угостит выигравшего и приведет к нему красивую девушку. Он стал играть одной рукой за бога, а другой — за себя. Проиграв, он выполнил условия пари. Он поставил на алтарь обещанное угощение и запер в храме самую известную из женщин легкого поведения — Акку Ларентину [Acca Larentina (Larentia)]. Из алтаря вырвалось пламя и поглотило предложенные кушанья, а женщине приснилось, что бог насладился ею и пообещал ей, что на следующий день первый мужчина, который ей встретится, сделает ей обычно принятый подарочек. Действительно, утром, выйдя из храма, она встретила, по одной версии — юношу, по другой версии — старика. Во всяком случае, это был весьма богатый человек, который полюбил ее, женился на ней и, умирая, оставил ей огромное наследство. Она, в свою очередь, завещала свое имущество (и, в частности, земли) римскому народу. В знак благодарности на ее могиле, в Велабре, каждый год 23 декабря народ совершает жертвоприношения с помощью высокопоставленных жрецов. Из этой истории не стоит запоминать ничего, кроме того, что, по-видимому, получательница Ларенталий в какой-то мере связана с богатством и наслаждением. Но посвященный Ларенталиям миф в собственном смысле слова — утрачен. Такой тип религии, как римская, где почти полностью отсутствуют мифы, где были забыты мифологические и даже теологические обоснования многих сохранившихся обрядов, встречается лишь в очень немногочисленных местах индоевропейского мира. Самый яркий пример мы находим в Гиндукуше (Hindoukouch). Это индийцы бывшего Кафиристана (Kâfiristan), ставшего Нуристаном после того, как в конце прошлого века афганцы принесли туда «свет» ислама (nur), с применением насилия, характерного для религиозного служения такого рода. В своих высокогорных долинах «кафиры»[84] — умный и красивый народ — до того придерживался весьма интересной религии, во многом напоминавшей ведическую. Ее наблюдал in extremis английский путешественник по имени George Scott Robertson. Написанная им книга — шедевр в области этнографии[85]. Он посвятил две замечательных главы (XXIII и XXIV) религии, но вначале принес извинения, под которыми мог бы подписаться исследователь религии Рима последних веков, заменив ислам на эллинизм, а Читрал — на Афины или Родос.
«Не следует забывать, что кафиры Башгула уже не являются изолированным сообществом в строгом смысле слова. Они часто отправляются в Читрал и ведут дела с другими мусульманскими народами. Многие из их родственников приняли ислам, не порывая, однако, со своими семьями. Одним из результатов этого свободного общения с мусульманами является то, что сегодняшние кафиры Башгула легко смешивают свои собственные религиозные традиции с религиозными традициями своих соседей-мусульман. Они все перепутывают, поэтому я не в силах написать ничего определенного или даже хотя бы относительно верного о религии Кафиристана. Всё, что я могу попытаться сделать, — это скромно рассказать о том, что я действительно видел и слышал. Может быть, лучшее владение языком Башгула или лучшие переводчики позволили бы мне прояснить много из того, что в настоящий момент остается для меня непонятным. Однако я уверен в том, что если я смог так мало выяснить в области верований кафиров, то это потому, что они сами знают об этом не больше. Можно было бы сказать, что в Кафиристане продолжают существовать формы религии, но философия, которую они изначально должны были выражать, полностью забыта. Это не так уж удивительно для страны, где нет архивов никакого вида и где все зависит от устной передачи. Кафиры Башгула (по крайней мере, самая молодая часть сообщества) несколько склонны к скептицизму. Они суеверны, конечно, но нередко бывает, что когда соберутся вместе два или три молодых весельчака, то они пародируют или высмеивают священные обряды. Бог войны и воинов Gîsh — единственный бог, популярный у молодежи. И они поклоняются ему очень искренне. Молодой кафир спросил меня однажды, не предпочли ли бы мы, англичане, бога Gîsh богу Imrâ (Создателю), как поступает он сам. И многие кафиры были очень разочарованы, что европейцы ничего не знают о боге Gîsh. Самые пожилые люди питают глубокое почтение и благоговение ко всем богам, но кафиры Башгула, по-видимому, готовы отказаться от своей религии в любой момент и без особых сожалений. Они отказываются от нее и возвращаются к ней, особенно из корыстных побуждений. Угрызения совести, связанные с религией, можно наблюдать у них весьма редко».Эти строки могли бы послужить прекрасным предисловием к Фастам Овидия.
VI. ОТ МИФОЛОГИИ К ИСТОРИИ
Значимый образ Mater Matuta привел нас к первостепенно важному обстоятельству, о котором уже неоднократно упоминалось, — к индоевропейскому фактору: по организации государства и по своей древнейшей религии Рим предстает как продолжатель индоевропейской традиции. До каких пределов простирается это наследие? Можно ли обнаружить другие древние не-индоевропейские элементы, существовавшие до влияния этрусков, до проникновения греков? В каком соотношении они соединялись и смешивались? В общем, здесь мы сталкиваемся с проблемой субстрата. Как ставится этот вопрос сегодня? Немного более полувека тому назад Андре Пиганиоль (André Piganiol) предложил и развил простое решение[86]. Он предположил, что «синойкизм», который летописи приписывают обстоятельствам возникновения Рима, — факт достоверный. Согласно этой версии, Рим был основан в результате объединения латинян и сабинян, причем первые были индоевропейцами, а вторые принадлежали к народам Средиземноморья. Вклад каждой из этих составляющих был значительным, и распознать это можно в организации государства, в праве и в религии. В частности, в религии, у индоевропейцев церемония захоронения связана с кремацией, а у сабинян — с преданием земле, причем иногда могилы расположены рядом друг с другом, а иногда громоздятся одна над другой в могильнике (sepolcreto) на Форуме. Индоевропейцы якобы ввели в Италии алтарь, на котором горел огонь, культ огня мужского пола, культ Солнца, культ птицы и отказ от человеческих жертвоприношений. А у сабинян якобы в качестве алтарей использовались камни, которые они натирали кровью. Покровительницей огня у них была богиня. Они исповедовали культ луны и земли, а также приносили в жертву людей. Такая концепция, представлявшая собой ладно скроенное построение, не могла не быть произвольной. Кроме того, что сабиняне сами были индоевропейцами и не могли выступать в роли «средиземноморцев», которую им здесь приписывали, важно еще и то, что эта концепция не давала возможности объективно посмотреть ни на индоевропейскую цивилизацию, ни на цивилизацию средиземноморскую. Автор слишком много свободы брал на себя, распределяя между той и другой компоненты многих антитетических верований, религиозных обрядов или социальных институтов, которые якобы существовали в историческом Риме. В своих более поздних работах автор смягчил ряд наиболее спорных из всех выдвинутых им ранее утверждений. Однако, как мне кажется, он сохранил тезис о двойственности в истоках римской цивилизации и повторил, вопреки всякому правдоподобию, утверждение о том, что сабиняне принадлежали к средиземноморским народам. Насколько мне известно, автор не отрекся от поверхностного и предвзятого (а priori) подхода к материалу и сохранил в своей теории дихотомию и свою точку зрения на распределение между ее составляющими. За последние двадцать пять лет понятие индоевропейской цивилизации значительно продвинулось вперед благодаря сравнению. Сопоставление древнейших свидетельств об Индии, Иране, Риме, Скандинавии, Ирландии, позволило сделать его содержательным, признать многочисленные факты из области цивилизации (и, в частности, также религии), которые являются общими для этих различных обществ или, по крайней мере, для многих из них. Многие из этих совпадений (как, например, то, что связано с Авророй) настолько своеобразны, что могут быть истолкованы только с помощью индоевропейского наследия. Многие из них взаимосвязаны, дополняют друг друга и соединяются так, что обнаруживается не просто неорганическая пыль более или менее значительных соответствий, а — структуры из представлений. Иначе обстоит дело с понятием «средиземноморская цивилизация». Несмотря на большие и весьма достойные усилия, приложенные ее исследователями, все же остается много неясностей, а также сохраняется большая степень произвольности, которую они проявляют в своем подходе. И здесь сравнение многих смежных сфер представляется единственно возможным методом исследования. Но в отношении средиземноморской цивилизации мы не имеем той отправной точки и той опоры, которые дает для индоевропеистики родство языков. Нет уверенности ни в общем единстве, ни в значительном частичном единстве, которые без достаточного основания предполагаются в средиземноморском бассейне, поскольку не учитываются неизвестные нам языки, а также этнические родственные связи и миграция племен, которые невозможно определить. В таких условиях сомнения неизбежны. Более того, используемые сведения почти исключительно черпаются из данных археологии, а это, как известно, дает возможность для весьма смелых интерпретаций. К счастью, проблема субстрата уже не имеет той важности, какая ей приписывалась в «Очерке» 1916 г… В отличие от греков, захвативших минойский мир, различным группам индоевропейцев, пришедших в Италию, не пришлось столкнуться с великими цивилизациями. Те из них, которые заняли земли Рима, по-видимому, даже не имели предшественников, не встретили плотного и постоянного населения; а летописи, которые приписывали Каку (Cacus), позволяют считать, что небольшое число местных жителей, которые могли в то время населять берега Тибра, вероятно, столь же просто и поголовно было устранено, как, наверно, это произошло с жителями Тасмании, оттесненными очень далеко торговцами — выходцами из Европы[87]. Из этого не следует делать вывод, что на начальном этапе в Риме все сводилось к наследию индоевропейских предков. Многое могло быть создано на месте для удовлетворения новых потребностей, а также многое могло быть — как это постоянно происходило в последующие века — заимствовано (прямо или косвенно) у других народов полуострова, которые сами в большинстве случаев были наследниками индоевропейского прошлого. Однако совершенно исключено, что в Риме якобы в равной мере смешались индоевропейцы и праиндоевропейцы. Если вопрос о субстрате, таким образом, утрачивает значение, то на его место встает другая проблема: проблема однородности или двойственности индоевропейских основателей Рима. Появился ли Рим в процессе развития, или он стал результатом завоевания — одной или несколькими группами — племен, тесно связанных с латинянами, или же (как предположительно можно заключить на основе летописей) Рим стал результатом слияния группы латинян с группой сабинян? Как мы видим, составляющие в значительной степени те же, что и в версии Пиганиоля, но они имеют другую окраску, поскольку на этот раз обе составляющие в равной мере индоевропейские. Однако ставка не менее важна: это значимость бога Квирина и, следовательно, также значимость древнейшей теологической структуры, известной в Риме — триады, которую составляют Юпитер, Марс и Квирин. Большинство современных историков, испытывая все больше сомнений, все же склоняются в сторону двойственности, в сторону синойкизма. При том состоянии материалов, которое существует сегодня, это акт веры, не поддерживаемый ни археологией, ни топонимикой, ни даже летописной традицией, освещенной извне. Так же, как в «Очерке» Пиганиоля, и вслед за Фридрихом Дуном, высказавшим свою точку зрения в 1924 г. в первом томе своего «Исследования италийских захоронений», многие авторы по-прежнему придерживаются мнения, что разный способ захоронения — кремация или колодцы и могилы, выкопанные в земле, — дает серьезные основания в пользу вывода о двойственной природе населения. Но это недостаточно убедительное основание. Во многих странах — в различные времена — сосуществовали оба способа обращения с трупами при полном отсутствии расовых и языковых различий между теми, кто осуществлял погребение. Не было даже различий в представлениях о загробном мире, о жизни post mortem. Не выходя за пределы индоевропейского мира, отметим, что ведические индийцы использовали оба способа захоронения одновременно. Кремация чаще всего упоминается в их текстах, но в погребальном гимне Ригведы 10, 15 в строфе 14 говорится и о предках, сожженных на костре, и о тех из них, которые сожжены не были, а в строфах 10, 18, 10–13 несомненно сначала упоминается погребение. Однако все умершие отправлялись к Яме. В отношении Скандинавии, где сохранялась весьма значительная однородность цивилизации и где в течение долгого времени перемещение племен было ограниченным, ученые отказались от объяснения нестабильности способов захоронения этническими различиями или изменениями. В течение первых двух веков христианской эры, когда издалека воздействует римское влияние, — отмечает Jan de Vries[88], — «разнообразие погребальных обычаев весьма велико. В то время как в Готланде преобладают могилы с телами, преданными земле, и жертвоприношениями в виде оружия, в Норвегии и Швеции бóльшую часть составляют могилы, где была совершена кремация, хотя и здесь встречаются случаи предания земле. В этих двух странах правилом являются жертвоприношения оружия, тогда как в Дании они отсутствуют полностью. По-видимому, следует признать, что эти различия объясняются местными и историческими обстоятельствами. Во всяком случае, они отнюдь не в первую очередь обусловлены различными представлениями о потусторонней жизни. Скорее всего, на Скандинавию оказали влияние различные потоки торговли и, следовательно, различные направления в сфере культуры». Несколько позднее, когда весь германский мир пришел в движение во время переселения народов (Völkerwanderung), конечно, возможно, что произошедшее в Норвегии внутрипровинциальное перераспределение обычаев частично объясняется перемещениями племен, но, как отмечает тот же автор[89], «в течение этого периода смешение различных типов могил достигло такой степени, что и кремация, и предание земле встречаются внутри одного и того же семейного захоронения». Пример могильника на Форуме, а также пример небольших некрополей на римских холмах — не должны заслонять описанный выше феномен. Эти примеры не следует забывать. Как говорит по этому поводу Raymond Bloch, прежде чем он делает противоположный вывод, по-видимому, под влиянием чувств, «Латинум расположен в стороне от тех зон, из которых происходят, соответственно, типичная культура Виллановы и субапеннинская цивилизация железа, т. е. это морская Этрурия юга и оскско-умбрская территория. Это двойное соседство может объяснить переплетение на его территории, и в особенности на землях Рима, культурных влияний разного происхождения»[90]. Этническая двойственность могла бы быть вероятной, если бы следы материальной культуры (в частности керамика, украшения) значительно различались на Палатинском холме, на Эсквилине, на Квиринале. Но ничего подобного не наблюдается. Господин François Villard, который тщательно и досконально изучил керамику, найденную на землях Рима, относящуюся к периоду между VIII и V вв., не обнаружил никаких различий и, следовательно, считает, что со второй половины VIII в. до начала V в. население было однородным[91]. Другие аргументы, которые выдвигались в пользу двойственности, — весьма слабы. То, что северные возвышенности Рима назывались colles (collis Quirinalis, collis Viminalis) сравнительно с montes за пределами Форума (Palatin, Caelius, Cispius, Oppius, Fagutalis), — конечно, важное различие, которое может иметь объяснение в истории. Это может, например, свидетельствовать о все бóльшем расширении, но collis — латинское слово в той же степени, что и слово mons, и нет никаких оснований утверждать, что coles были сначала сабинскими, а montes — римскими. Разве в Париже мы не говорим «гора Св. Женевьевы», но «Монмартрский холм», «Холм Шайо», «возвышенность Менильмонтан»? Эти различия дают сведения о хронологии, но не о природе или о национальности населения. Вывод об этнической двойственности пытаются делать также, исходя из географии (или, как с недавних пор стали говорить, из геополитики). Говорят, что болотистая в те времена долина Форума и Субур была подлинной границей. С одной стороны, возвышенности Палатина, Целий, Эсквилин — представляли собой как бы «острие», косу, выдвигавшуюся от Лация к Тибру. С другой стороны, Квиринал и Капитолий, который как бы является его продолжением, Виминал, как бы повторяющий его, — играют такую же роль по отношению к сабинянам, которые тоже спускаются к Тибру соляной дорогой: разве не было естественным для каждой из двух групп воспользоваться преимуществами и занять на важных для торговли землях позиции, которые перед ними открывались? Нет надобности подчеркивать, насколько подобные рассуждения субъективны. Если пойти по такому пути, то можно также возразить, что сабинянам было более «выгодно» занять Капитолий, чем Квиринал, так как Капитолий расположен вблизи от Тибра и прямо напротив Палатина. Можно также отметить, что было бы «естественно» для латинян, владевших montes, заранее занять Квиринал, выдвинув внешние посты, так как с Квиринала враг мог бы угрожать холму Эсквилин. Но зачем прибегать к ухищрениям? Геополитика может помочь a posteriori объяснить уже известную историю, но она не может ничего дать для восстановления истории неизвестной. Она не дает возможности даже заглянуть в нее. Действительно, рассмотрев только результаты раскопок и карту холмов, никто не стал бы предполагать, что существовала этническая двойственность, что сабиняне и латиняне сначала жили рядом, а затем объединились, если бы данные летописей — в условиях, сильно отличающихся, впрочем, от тех, о которых можно судить по раскопкам, — не поведали бы нам двойственную историю. Что бы ни утверждали, но именно главы 8—13 первой книги Тита Ливия и параллельные тексты дают произвольную интерпертацию того, о чем можно судить по могилам, по керамике, исходя из традиционного рассказа об истоках Рима. Так, честно признав, что археология не может дать «конкретных и реальных доказательств того, что действительно пришли племена, каждое из которых несло свою особую цивилизацию», г-н Raymond Bloch возвращается к преданию: «Однако тот факт, что массовые данные летописей и информация, которую дают раскопки, хорошо согласуются друг с другом и представляется достаточным для того, чтобы допустить в целом мысль, что в период основания Рима там присутствовали два разных населявших его племени — латиняне и сабиняне»[92]. Точно так же, произвольно истолковав данные топографии, Байе сделал следующий вывод: «Таким образом становится правдоподобным то, о чем пишется в древних летописях: две составляющие населения этих земель — латиняне и сабиняне, две религиозные составляющие, приписываемые первым царям — альбанцу Ромулу и Нуме из Кур, но при менее схематичном подходе к развивающимся отношениям (военным или мирным) между жителями, имевшими разное происхождение»[93]. Мы видели, насколько неясными остаются при объективном их рассмотрении данные топографии и «информация, извлекаемая из раскопок». Что же представляют собой, чего стоят эти «массовые данные летописей», «самые древние» их свидетельства? Повествование о первой войне, которую вел Рим, очень хорошо построено, но оно именно построено, что совершенно очевидно. Благодаря ясному описанию качеств и преимуществ каждой из сторон; благодаря хорошо уравновешенной подаче последовательности эпизодов войны, ни один из которых не играет решающей роли, но которые хорошо подчеркивают эти качества и эти преимущества; благодаря непредвиденному, хотя, в сущности, вполне логичному развитию событий, которое повернуло ожесточенную борьбу к чему-то лучшему, чем союз — к тесному слиянию, — можно видеть, что, невзирая на вооруженные действия, невзирая на человеческие страсти, развернулась, была описана и обоснована другая игра, появился другой порядок, возникло другое взаимодействие понятий и замыслов. Но при таком понимании повествование об учреждении римского общества в законченном виде находит полное соответствие в повествовании, но не историческом, а мифологическом — подобно тому, что существовало у других индоевропейских народов, — где рассказывается о том, как сформировалось завершенное общество богов на основе двух составляющих, которые сначала существовали рядом друг с другом, а затем вступили в противоречие, в войну с переменным успехом и, наконец, объединились, слились полностью. Воспроизведу здесь сравнительный анализ римского и скандинавского повествования, который я предложил в 1949 г. в работе «Индоевропейское наследие Рима», кратко изложив работы предшественников. I. Вот какими были перед войной две стороны, вступившие в конфликт: 1. С одной стороны Ромул: он — сын Марса, и ему покровительствует Юпитер. Он только что основал город в соответствии с ритуалом, получив предзнаменование, и провел священную борозду. И он, и его друзья — прекрасные юноши. Они сильны и мужественны, доблестны. Преимущества этой стороны заключаются в том, что великие боги — с Ромулом, а частично — и в нем. Кроме того, ему присуща воинская доблесть. Но зато у него есть два больших недостатка в отношении богатства и плодовитости: он беден, и у него нет жены. 2. С другой стороны — Тит Татий со своими богатыми сабинянами. Конечно, они не трусливы и не безбожны: как раз наоборот, — но в этот момент истории их главной характеристикой является богатство. Более того, именно у них находятся женщины, которые нужны Ромулу и его друзьям. Прежде чем выступить друг против друга, и даже прежде чем об этом подумать, обе стороны — комплементарны, взаимно дополняют друг друга. И именно по этой причине Ромул — понимая, что его общество страдает неполнотой и, вследствие этого, не жизнеспособно, — велит похитить «сабинянок» во время сельского праздника Конс. Он поступает так для того чтобы получить женщин, а также для того чтобы вынудить богатых сабинян, несмотря на нежелание, завязать отношения со своей дикой «бандой». Все авторы единодушно подчеркивают и объясняют эту концептуальную и функциональную движущую силу первых событий. Прочитайте у Тита Ливия I, 9, 2–4, какие наставления Ромул дает своим послам, когда, прежде чем применить силу, он посылает их в окрестные города: «Тогда, посовещавшись с отцами, Ромул разослал по окрестным племенам послов — просить для нового народа союза и соглашения о браках: ведь города, мол, как все прочее, родятся из самого низменного, а потом уж те, кому помогою собственная доблесть и боги, достигают великой силы и великой славы; (4) римляне хорошо знают, что не без помощи богов родился их город и доблестью скуден не будет, — так пусть не гнушаются люди с людьми мешать свою кровь и род»[94]. Di et virtus — боги и доблесть, т. е. мужская энергия, — очень хорошо определяют движущие силы двух первых функций; opes — богатство, могущество, заключающееся в возможности действовать, а также в возможности плодовитости и размножения, на которые здесь указывают слова sanguis ac genus, — также прекрасно характеризуют третью функцию. Di — это боги — предки обоих братьев, а также то, что было обещано в предсказании на месте предстоящего создания Рима, т. е. это указание на две сверхъестественные составляющие, которые имелись в приданом братьев; vuirtus еще не проявлена в воинских делах, но они ее в себе чувствуют; opes — это единственное, чего они еще не имеют ни потенциально, ни в действительности, что еще не вписано в их природу: когда они ее обретут и смешают кровь (sanguinem), тогда синтез трех начал, которые ранее были распределены между двумя соседними народами, обеспечит Риму его место в истории — nomen. И в самом деле, этот синтез будет иметь именно такой результат. Другой историк — Луций Анней Флор, — весьма схематично резюмируя войну (1, 1), пишет, что после примирения сабиняне переселяются в Рим и cum generis suis avitas opes pro dote sociant: разделив с зятьями, как приданое, свои унаследованные богатства. В Фастах (кн. 3, ст. 178–199) Овидий приписывает такую же концептуальную структуру этому событию, но в драматической форме. В его трактовке сам бог Марс рассказывает о том, как он внушил своему сыну Ромулу мысль похитить сабинянок: Бедных супругов себе не брали соседки-богачки, И забывали, что в них тоже течет моя кровь. … Я огорчался: «Я дал родительский нрав тебе, Ромул: То, чего просишь, сказал, даст тебе собственный меч»[95]. И здесь опять два «козыря» Ромула: это, с одной стороны, его происхождение от бога (бог — auctor sanguinis) и, с другой стороны, прямой совет бога — решение проблемы с помощью войны и оружия. Его партнеры — богачи, презирающие его бедность. Дионисий Галикарнасский (2, 30, 2 и 37, 2) — многословный, как всегда — опирался на другие летописи (согласно которым преимущества были распределены не между двумя, а между тремя народами); тем не менее, он предлагает тот же самый вариант основной структуры. Города, которые Ромул имел в виду для матримониальных союзов, — латинские города — отказываются присоединиться к пришельцам, которые, с их точки зрения, «не вызывают уважения своими богатствами и не прославились никакими подвигами». Ромулу, у которого не осталось ничего кроме его происхождения от бога и обещаний Юпитера, приходится опереться на профессиональных военных, что он и делает, призвав подкрепления, в том числе Лукомона из Солония — «человека энергичного и знаменитого в военном деле». На этом, согласно всем источникам, и строится интрига: нужда, искушение, намерения и действия Ромула ведут к образованию полноценного общества, где «богатых» заставляют объединиться с «храбрыми» людьми божественного происхождения. II. Война состоит из двух эпизодов. В каждом из них одна из сторон почти побеждает, но всякий раз ситуация приходит в прежнее состояние, и решение отдаляется, ускользает. 1. Эпизод Тарпея: рассказ о нем имеет несколько разных вариантов (самый красивый вариант — у Проперция). Иногда побудительной причиной является любовная страсть. В самой чистой форме этот эпизод передает, по-видимому, Тит Ливий (I, 11, 5–9). Тит Татий, возглавлявший богатых сабинян, соблазняет золотом, браслетами и драгоценностями, сверкавшими на руках его людей, дочь того римлянина, которому поручено охранять основное укрепление Капитолия. Предательски введенные в это главное место, сабиняне, как будто бы должны были победить. 2. Действительно, они почти побеждают, когда начинается второй эпизод. На этот раз в выигрышном положении оказывается Ромул (Liv. I, 12, 1–9). Во время сражения в долине Форума между товарищами Ромула, оттесненными к Палатину, и сабинянами, завладевшими Капитолием, римляне отступили в беспорядке.«Тогда Ромул воздел руки к небу и сказал: «Юпитер, доверившись твоим предзнаменованиям, я заложил здесь на Палатине фундамент Рима. Освободи римлян от страха и останови их позорное бегство. Я обещаю возвести здесь храм в твою честь, о Юпитер Статор, чтобы потомки помнили, что твое покровительство спасло Рим». Произнеся эту мольбу и, как бы чувствуя, что она исполнена, он сказал: «Теперь, римляне, великий и благосклонный Юпитер велит вам остановиться и возобновить сражение»… Остальная часть римской армии, воодушевившись смелостью своего царя, разгромила сабинян…»Таким образом, коррупционным действиям, преступному подкупу, к которым прибег Тит Татий, Ромул противопоставил обращение к самому великому богу, великому властелину Юпитеру, предзнаменования которого обеспечили величие Рима. И от этого бога он получает поддержку в виде мистического или магического немедленного вмешательства, которое, против всех ожиданий, изменяет моральный дух обеих армий и приводит к радикальному повороту судьбы в этой битве. Мы понимаем значение этих двух эпизодов, мы видим, как они определяющим образом связаны с характеристиками обеих сторон, какими они были первоначально: римляне и сабиняне, Ромул и Тит Татий, конечно, сражаются одинаково хорошо, так что причину их противостояния не следует искать в мужестве и стратегическом искусстве. Но вождь богатых сабинян, с одной стороны, и полубог Ромул — с другой, владеют каждый своими собственными средствами для вмешательства в сражение и для того, чтобы склонить победу в свою сторону: богатый использует золото, позорную хитрость, подкуп — пока еще не деньгами, а драгоценностями, — и прибегает к соблазнению женского сердца, а полубог получает от всемогущего Юпитера безвозмездное чудо превращения поражения в победу. Для того чтобы понять логическую структуру всей этой системы, достаточно всего лишь констатировать, что невозможно представить себе изменение ролей противоположным образом: невозможно вообразить, что Ромул подкупает Тита Татия, а тот получает чудо от бога: это не имело бы никакого смысла. Тит Татий и Ромул действуют даже не в соответствии со своим характером: они представляют собой определенную функцию, в соответствии с которой и действуют. III. Как заканчивается война? Не было принято никакого военного решения. Полубог нейтрализовал богача; чудо, совершенное небесным богом, уравновесило могущество золота, и борьба может затянуться до бесконечности. И тогда происходит примирение: женщины бросаются между своими отцами и похитителями. И всё кончается так хорошо, что сабиняне решают слиться с товарищами Ромула, принеся им в качестве приданого унаследованные богатства (auitas opes), как говорит Флор. Оба царя становятся партнерами, и каждый из них учреждает культ: Ромул устанавливает культ одного Юпитера, а Тит Татий вводит целый ряд богов, связанных с плодородием и почвой, в том числе Квирина. И больше никогда — ни в период этого двойного правления, ни позднее — не будет и речи о расхождениях между двумя составляющими: сабинской и латинской, альбанской, восходящей к Ромулу, римской. Общество представляет собой завершенное целое. Химики сказали бы, что валентности различных элементов взаимно уравновесились. Говоря словами Тита Ливия, группа Ромула, достоинствами которой вначале были покровительство богов и доблесть (deos et virtutem), теперь получила то, чего ей недоставало: богатства, а также женщин — залог национальной плодовитости. Итак, от начала до конца логическая связь и необходимость эпизодов — вполне ясны. Все направлено в одну сторону и иллюстрирует один и тот же вывод: это прошедшая три этапа история формирования полноценного государства на основе двух функциональных составляющих, которые (как предполагается) существовали раньше, причем сначала — по отдельности. Первый этап: составляющие раздельны и характеризуются неполнотой, причем по крайней мере одна из них — бóльшая — не жизнеспособна сама по себе. Второй этап: война, в которой каждая из составляющих проявляет свой дух, свою сущность в характерном эпизоде; при этом золото, с одной стороны, и магия — с другой, господствуют над сражением в собственном смысле слова. Третий этап: непредвиденное тесное и окончательное объединение этих элементов в единое общество. И здесь уже начинается римская история. Откуда римляне получили эту схему? В принципе можно было бы подумать, что они не получали ее ниоткуда и ни от кого, что это порождение их собственного гения, что они ее в полном смысле слова изобрели сами. Но здесь сравнение с летописными традициями других индоевропейских народов проливает такой свет, который латинская филология не может получить от самой себя, и таким образом снимается неопределенность, с которой литературная критика самостоятельно справиться не в состоянии. Действительно, то, что касается других индоевропейских народов, также объясняет история, разделенная на части: формирование полностью завершенного общества на основе системы трех функций — исходя из элементов, поначалу разрозненных. Я ограничусь кратким описанием скандинавской формы этой традиции, рассказав о войне между Асами и Ванами и об их примирении. Речь здесь идет об обществе богов, а не людей. Однако различие значительно уменьшается из-за того, что — по крайней мере, в одном из достаточно хорошо сохранившихся текстов — боги, составляющие эту группу, оказываются предками одного из скандинавских обществ, причем переход от одной к другому происходит постепенно. Эта история известна нам из двух текстов исландского эрудита Снорри Стурлусона и по четырем строфам одной из самых известных эпических песен Старшей Эдды — «Прорицание Вёльвы». Конечно, слишком придирчивые критики пытались обесценить эти два свидетельства. Так, Eugen Mogk пытался изобразить Снорри как фальсификатора, подделывающего такие произведения, из которых невозможно получить ничего, кроме того, что уже известно из других источников. Выдвигая весьма неубедительные аргументы, он утверждал, что доказал, будто четыре строфы Прорицания Вёльвы не относятся к предмету нашего исследования. Две дискуссии, которые мы не можем ни воспроизвести, ни кратко изложить здесь, доказали необоснованность «приговора» в адрес Снорри и отрицания значимости строф 21–24 Прорицания. Опишем три этапа в развитии событий. 1. У скандинавов существуют два племени богов, обладающих весьма ясно выраженными качествами — асы и ваны. Асы — это боги, окружающие Одина и Тора. Óдин — их вождь, глава. Он — бог-царь-маг, покровитель земных вождей и колдунов, обладатель действенных рун и вообще сил, которые дают ему возможность вмешательства в любые сферы. Тор — это бог с молотом, великий небесный воин, задирающий великанов, проводящий бóльшую часть времени в карательных походах. К нему взывают, чтобы победить в поединке. Ваны, напротив, — боги плодородия, богатства и наслаждения. Трем главным из них — Ньёрду (которого Тацит выделяет в Германии под именем богини Нерты), Фрейру и Фрейе — посвящены мифы и значимые в этом отношении культы. Снорри Стурлусон (Сага об Инглингах, 1–2), который ан-тропоморфизирует их в величайшей степени, помещает асов и ванов, — живущих раздельно, но по соседству друг от друга, — в низовьях Танаиса[96] (недалеко от Черного моря). Одни живут в Асаланде или Асахейме, их замок-столица называется Асгард, другие живут в Ваналанде или Ванахейме. 2. Второй этап (Снорри, Сага об Инглингах, 4, начало; Прорицания, 21–24). Асы нападают на ванов, и начинается «первая в мире война», как говорится в поэме. Как пишет Снорри, «Óдин выступил со своей армией против ванов. Но они оказали сопротивление, защищая свою страну. Победа доставалась то одной, то другой стороне. Каждый разорял страну другого, и они нанесли друг другу немалый ущерб». Из поэмы, прерывистой и полной намеков, нам известны только два эпизода войны: а) Колдунья по имени Гулльвейг («Власть золота»), по-видимому, происходящая из ванов или посланная ими, приходит к асам. Они неоднократно пытаются ее сжечь в зале Одина, но не достигают успеха, и она продолжает жить, оставаясь чародейкой. В частности, она «всегда доставляет удовольствие дурным женщинам»[97]. b) Óдин, великий бог — маг, вождь асов — опускает свою рогатину на врага, впервые совершая магический жест, который многие тексты саг позднее стали приписывать вождям людей, намерение которых они уточняют: в Саге о Людях с Песчаного Берега (44, 13) говорится в подобном случае, что речь идет о том, чтобы «с помощью магии получить heill — удачу»; а в Пряди о Стирбьёрне — шведском претенденте (гл. 2 = Рассказы древних народов, 250) сам Óдин дает шведскому королю Эрику стебель тростника и побуждает подбросить его над вражеской армией, сказал следующие слова: «Пусть Один завладеет всеми вами!». Эрик следует совету бога: в воздухе тростник превращается в рогатину, враги обращаются в бегство, охваченные паническим страхом. Здесь мы видим как бы прототип жеста Одина — жеста, который должен обеспечить ему победу. Однако он терпит неудачу, поскольку в той же строфе затем описывается, как ваны прорывают ограду асов. 3. Третий этап (Снорри, Сага об Инглингах, 4). Асы и ваны, устав от этого чередования полууспехов, которое дорого им обходится, заключают мир. Этот неожиданный мир настолько же всеобъемлющ, насколько ожесточенной была война. Согласно этому миру (сначала как заложники, а затем и как равные), «сородичи», сограждане, главные ваны — боги Ньёрд и Фрейр, а также богиня Фрейя — пополняют общество богов Одина, благодаря плодородию и богатству, которые они представляют. Они вливаются настолько, что, когда «царь» Óдин умирает (поскольку в Саге об Инглингах боги — это своего рода сверхлюди, и они, несмотря ни на что, смертны), то царем асов становится сначала Ньёрд, а затем Фрейр. И больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не будет даже намека на конфликт между асами и ванами, а слово «Ases», если нет противоположного уточнения, будет обозначать как Ньёрд, Фрейр и Фрейя, так и Один и Тор. Нет необходимости подчеркивать, насколько точен параллелизм (не только идеологических ценностей, которые еще только зародились, но и интриг, начиная с исходной точки и до конечного результата), пройдя через два эпизода, в которых ярко отражается война богов-богачей с богами-магами. Представляется маловероятным (учитывая, что у других индоевропейских народов имеются подобные повествования), чтобы такая обширная система была дважды создана случайно. Самое простое и самое скромное объяснение заключается в том, чтобы допустить, что римляне — так же, как скандинавы — получили этот сценарий от общей традиции, относящейся к прошлому, и удовлетворились тем, что подновили детали, приспособив их к своей «географии», к своей «истории» и к своим вкусам, введя названия стран, народов и героев, которые подсказывались реальной действительностью. Это объяснение хорошо сочетается с объяснением Моммзена: оно отражает темы, а объяснение Моммзена указывает на имена[98]. Если существовавший ранее индоевропейский рассказ о создании полного общества конкретизировался в этнических рамках латинян, сабинян, а при случае также и этрусков, то здесь дело в том, что это подсказывалось последующим демографическим перемещением в Риме, поскольку в V, IV вв. (как это следует из некоторых признаков) приток сабинского населения реально сосредоточился в уже сформировавшемся городе и на северных холмах. Если окончательный договор, устанавливавший синойкизм, был составлен в тех словах и в том стиле, которые мы видим, то (как думает Моммзен) это было сделано по образу и подобию соединения городов (collatio civitatis), которое в 290 г. действительно как-то слило два общества в одно целое. Человеку, конечно, вполне естественно свойственна тенденция использовать существовавшие раньше легенды — эпические или мифические, — чтобы написать древнейшую историю. Мы наблюдаемпоследствия этого везде, где нам доводится читать такую историю. Я приведу всего лишь один пример. Он примечателен тем, что ему не больше века. Он относится к другому народу, индоевропейскому по языку и традиции, и относится к такому же материалу, как и тот, на основе которого в Риме сложилась легенда о двух народах. Кавказские осетины, происходящие от аланов, — единственные сохранившиеся до нашего времени потомки скифов. Это придает им во всех отношениях значимость, несмотря на их малую численность: их язык — иранский — последнее свидетельство, оставшееся от большой группы диалектов, а народные сказания и ритуалы, записанные в XIX в., весьма архаичны и часто сходятся с описаниями скифов и сарматов, оставленными Геродотом, Люцианом и Аммианом Марцеллином. В частности, у них есть собрание эпических легенд, распространившихся по всему Северному Кавказу, где рассказывается о легендарном древнем народе — нартах. Этот народ состоит в основном из трех семей, каждая из которых имеет определенную характерную черту, а в совокупности эти черты образуют некую структуру, явно продолжающую социальную классификацию, — иногда теоретическую, иногда реальную, — общую для всех индоиранцев. Это разделение на жрецов, воинов и скотоводов-земледельцев: Умных (Alœgatœ), Сильных (Æhsœrtœgkatœ) и Богатых (Boratœ). Значительный раздел этих рассказов посвящен жестокой борьбе Сильных и Богатых, причем каждая семья демонстрировала свои природные преимущества: здесь — исключительная доблесть (иногда пользующая поддержкой великих магов), там — богатство, хитрость (нередко нечестная), большая численность. Первый русский исследователь, который записал многие из этих рассказов, пришел в восторг. Воспользовавшись плохой игрой слов, он составил «предысторию» осетин. Короче говоря, он считает, что Borata, разновидность сабинян, были самыми древними жителями местности, которую затем захватили Æhsœrtœgkatœ, прибывшие из-за границы, с севера Ирана. Войны, о которых повествуют эпические тексты, имели целью водворение и закончились слиянием: после смерти главного героя Æhsœrtœgkatœ, его выжившие товарищи слились с победителями. В. Б. Пфафф, которому принадлежит это высказывание, был влиятельным человеком. Первый обзор исследований Кавказа занял четыре тома (том IV вышел в 1870 г.). Конечно, редакция не могла отказать в публикации статьи, но предпослала ей заметку, в которой В. Б. Пфафф получил хвалебный отзыв и где подчеркивалась его ответственность[99]. Эта «операция, касающаяся истории» не имела продолжения. Даже в XIX в. эта концепция многократно критиковалась; а кроме того, другой ученый, который и в самом деле был основателем изучения осетинов, Всеволод Ф. Миллер, уже погрузился в свою работу. Совсем по-другому обстояло дело в Исландии в конце XII в., когда Снорри, придавая человеческий облик богам асов и ванов, писал на основе мифа «древнейшую скандинавскую историю». По-другому все было и в Риме за три-четыре века до нашей эры, когда достойные уважения эрудиты помещали в рамки латинского пространства и времени и воплощали традиционный миф, объяснявший, как формируется общество на основе трех (или двух) групп, каждая из которых была представителем одной (или двух) из трех функций, необходимых для его нормальной жизни. Война Ромула и Татия является, таким образом, первым примером процесса превращения мифов в часть истории, преобразования выдуманного в реальные события. Летописцы или их предшественники весьма охотно прибегали к этому, а для Рима это даже характерно. За последние четверть века было выявлено много таких случаев в истории царей, а также в истории первой войны Республики: структурированная антитеза Ромула и Нумы определяет два типа власти, в равной степени разумных и необходимых, таких же, как у высших ведических богов — Варуны и Митры. Все, что происходило во время третьего царствования (в частности, победа третьего Горация над тремя Куриациями), транспонирует то, что в мифической форме отразило поприще бога-воина Индры — и, прежде всего, это победа героя Триты, «третьего», над тройственным демоном[100]; двое покалеченных, одновременное присутствие которых само по себе неправдоподобно — Коклес и Сцевола, а также Циклоп и Левша (Gaucher), которые один за другим спасают Рим, осажденный Порсенной: когда один из них парализовал этрусскую армию своим властным взглядом, а другой пожертвовал правой рукой — отдав ее этрусскому вождю во время героической процедуры обманной клятвы. Они образуют пару, аналогичную паре, которую составили бог Одноглазый и бог Однорукий у скандинавов, а также паре, в которую вошли Один и Тюр (Tÿr). Первый, пожертвовавший глазом, получил в качестве компенсации дар сверхъестественного знания, а второй спас богов, оставив в пасти демона-волка свою правую руку. Так дополняется информация, которую дало рассмотрение ритуалов Матери Матуты. Римская мифология действительно существовала, и она была столь же богата, как мифология ведических индийцев или скандинавов. Конечно, бóльшая часть мифов, касающихся многих богов, утрачена. Но другие важнейшие части мифологии — приведенные выше три случая восходят к идеологической сфере Юпитера и Марса — сохранились. Только мифы были перенесены из великого мира в наш земной мир, а герои — это уже не боги, а выдающиеся деятели Рима, уподобившиеся им по типажу. И они, тем не менее, продолжали играть роль (и, возможно, сыграли ее даже лучше) exempla — обнадеживающих и обосновывающих примеров, а эта роль во всех обществах является одной из функций мифологии. Вернемся к тому, с чего мы начали. Сравнительная интерпретация рассказа о первой войне Рима, которую мы изложили выше, исключает одно из традиционных объяснений бога Квирина. Осмысление этого бога, как мы скоро увидим, имеет первостепенное значение. Это — решающее звено в исследовании, которое мы предпринимаем. В зависимости от того, как мы его понимаем: как бога древнейшего римского общества и, может быть, даже общества, существовавшего в до-римскую эпоху, или же как бога, привнесенного извне, добавленного, «заграничной» составляющей (например, воспринятой от сабинян), — меняется всё, причем не только в его сфере: Юпитер, Марс и многие другие боги плодородия тесно связаны с ним. Мы увидим это позднее неоднократно, но мы можем отметить следующий факт, имеющий отрицательное значение: летописный рассказ о синойкизме, восходящий к мифам, не может рассматриваться как подтверждение тезиса о том, что Квирин — сабинское божество[101]. Несмотря на поразительную приверженность крупных ученых идее о существовании изначальной сабинской составляющей[102], все же нам кажется, что она теряет позиции. Другие, не менее достойные уважения авторы, с недавних пор отказались от этой точки зрения. Однако, в отношении Квирина у них все же сохранилось что-то от способа объяснения, который подсказывали летописи. Будучи населенным сабинянами или латинянами, противостоя ансамблю Палатин — Эсквилин или же, напротив, будучи постом, расположенным перед ними, тем не менее, Квиринал остается холмом Квирина, названным в честь Квирина. Поскольку эта местность не входит в первую группу montes (гор) и лишь позднее, в результате подлинного синойкизма, была включена в единое целое urbs (города), то лишь в этот момент его собственный бог мог войти в общий пантеон. Как мы видим, вплоть до национальной принадлежности, объяснение присутствия Квирина в римской религии и его роли в ней — одно и то же: это всегда бог, сначала существовавший отдельно и связанный если не с посторонним народом, то, по крайней мере, с отдельным местом, и присоединившийся к богам montes путем добавления. Мы обсудим это объединение позднее, но здесь мы должны показать, что оно не является чем-то разумеющимся само собой, что в нем нет логической необходимости. В самом деле, оно опирается на не сформулированный постулат, согласно которому этот холм якобы был назван «Квиринал» до его включения в город, а Квирин якобы был его особым богом, эпонимом, с момента появления на холме самого первого населения. Однако дело могло обстоять и по-другому: разве другой холм северной стороны — Капитолий, — не называясь еще официально «холмом Юпитера», не стал в ходе истории местом культа этого бога, которому наверняка с самого начала поклонялись на Палатине наравне с Марсом? Связи Квирина и места могли быть параллельными, а его водворение на новом холме могло повлечь за собой лишь изменение названия. Ниже мы увидим, что есть другие причины, побуждающие считать, что органичная триада Юпитер — Марс — Квирин с самого начала руководила латинским обществом самого древнего ареала расселения, первым царством (regnum). Когда это общество постепенно захватило все холмы, то — после завершения этого распространения — культ его главных богов мог быть распределен так, что Юпитер стал хозяином Капитолия, а Квирин занял тот холм, который в его честь отныне стал называться Квириналом. Выбор между этими противоположным объяснениями (одно из которых отводит Квирину фундаментальную роль бога именно этого места, а — согласно другому толкованию — Квирин был богом, привнесенным извне) зависит от того, что покажут некоторые соображения относительно его природы и его функции. По крайней мере, сегодня общепризнано мнение, что нет необходимости ни непременно соглашаться с первым объяснением, ни отказываться от второго. Кстати, это соображение относится не только к Квириналу: не существует строгой взаимосвязи между культом и местом, где его совершают в историческую эпоху. Из того, что известные нам Регия и храм Весты находятся на Форуме, никоим образом не следует делать вывод, что понятия, правила и ритуалы, которые к ним относятся, возникли после того, как был занят Форум. Наверняка изначально, с момента появления первого населения, уже существовали и царь, и Регия, и общественный очаг. После того как Форум был занят, лишь при создании условий достаточной безопасности там водворились царь и Весталки, разместились царский дом и очаг, привнеся естественным образом свой характер и свои традиционные особенности[103].
VII. ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ РИМА
Выше было приведено немало примеров, показывающих, что для изучения и понимания Рима в его древнейшую эпоху совершенно необходимо принимать во внимание индоевропейский фактор. Это значит, что надо сравнивать данные, касающиеся Рима, с аналогичными фактами, которые обнаруживаются в Индии или Скандинавии, в Ирландии и Осетии. Возможно ли такое сравнение? Некоторые a priori утверждают, что это невозможно. Так, например, Курт Латте, который согласен простить иллюзии романтикам XIX в., считает их непростительными в наше время (с. 9). Он пишет: «Время, прошедшее между приходом индоевропейцев в регионы Средиземноморья и нашими источниками, вполне могло в ту пору (время Макса Мюллера и Преллера) показаться не имеющим значения, так как Гомера и Веды относили к очень ранним временам, а индоевропейское вторжение — к слишком поздним. Тогда не понимали, какие изменения могут произойти за несколько веков в мышлении цивилизованных народов, как не понимали и того культурного влияния, которое вызвало собственное развитие римлян. Сегодня мы знаем, к сколь недавнему времени относятся имеющиеся у нас летописи, рассказывающие о Риме…». Некогда, хитрым людям, оспаривавшим возможность движения, философ ответил тем, что стал ходить. Мы здесь поступим так же в многочисленных случаях, когда сравнение с Индией или со Скандинавией прояснит непонятное или же избавит нас от монстров, порожденных бесконтрольной критикой. Возражение можно ограничить в самой его основе. Самые старые ирландские летописи известны лишь в том виде, какой они обрели в Средние Века. Самые древние поэмы Эдды относятся к последним векам первого тысячелетия нашей эры, а бóльшая часть наших сведений исходит от Снорри, т. е. относится к концу XII в. и началу XIII в. Однако сопоставление этих западных текстов с текстами ведического общества, существовавшего более нескольких тысячелетий тому назад, выявило — для обеих сторон — результаты, проясняющие многое. Я не стану говорит ни о моей работе, ни о работе моих ближайших коллег. Двое весьма известных ученых, не чуждающихся сравнений, — специалист по кельтским языкам Joseph Vendryes и индолог Sylvain Lévy — единодушно восхищались не только сходством между ri и rajan, между друидами и брахманами, но также и тем, как много сходных черт обнаруживают формы эпопеи и придворной поэзии, насколько лучше можно их понять при сопоставлении. Ближе к нашему времени индолог и знаток кельтских языков Myles Dillon подробно проанализировал это впечатление — точно так же, как это сделали в Уэльсе, в своей недавно вышедшей прекрасной книге господа Alwyn и Brinley Rees. Другие ученые показали, что некоторые поэмы Эдды обнаруживают тип риторики, сходный с риторическим типом самых древних отрывков Авесты. Действительно ли Рим настолько своеобразен, что к нему нельзя применить тот же сравнительный метод исследования, хотя он (Рим) известен с более ранних времен, чем крупные острова Атлантического океана? Это было бы тем более удивительно, что религиозная лексика Рима сама побуждает к такому исследованию. В 1918 г., уточняя указания Пауля Кречмера, Вандриес опубликовал в «Докладах парижского лингвистического общества» статью под названием «Лексические соответствия между индоиранским и итало-кельтским». В дальнейшем, как правило, избегали говорить об «итало-кельтском», и сегодня мы, скорее, сказали бы «между индоиранскими языками и италийскими и кельтскими языками» — причем некоторые языки нарушают италийское единство. Однако это ничего не меняет в отношении доктрины, которую автор прекрасно резюмировал в следующих словах: «Поразительно, что в этом списке понятий присутствуют в довольно большом количестве слова, относящиеся к религии, и, в частности, к литургии, культу, жертвоприношениям. Обозревая эти слова, а также прибавив к ним несколько других и сгруппировав всё это по категориям, мы не только установим древнейшие элементы итало-кельтской лексики, но также констатируем существование общих религиозных традиций, присущих языкам Индии и Ирана, а также двум западным языкам». Сам Вандриес, строгий лингвист и вольтерьянец, быстро устав от изучения данных религии, не сумел, однако, оценить всю важность этого красноречивого перечня. Но этот перечень продолжает существовать. Он содержит собственно религиозные понятия, а также понятия политико-религиозные, этико-религиозные, юридическо-религиозные, поскольку в те ранние времена религией было пронизано всё. Выше я напоминал о слове rex (ведическое rā́j(an), галльское ríg-). Сюда, видимо, следует добавить название священнослужителя flāmen: мужской род от формы среднего рода (ведическое brâhman среднего рода, а brahmán — мужского рода; ср. еще древнеперсидское brazman среднего рода). Многие слова — и это весьма ценное указание на раннее развитие римского мышления — перешли из сферы религии в область права, которое само, конечно, имело религиозную окраску, но все же до мельчайших подробностей сохраняло оттенки и группы слов, употребление которых можно констатировать в индоиранском языке. Приведем в качестве примеров: iūs, ставшее термином в языке права, но обозначавшее, собственно говоря, всю область или меру действия, допустимого или требуемого (ius consulis). Оно соответствует ведическому yóṣ, авест. yaoš «честность, неподкупность, мистическое совершенство»; crē-do и его существительное fidēs (которое, по-видимому, было заново образовано от исчезнувшего слова *crēdēs, приняв его склонение); эти слова в сфере отношений между людьми покрывают все употребления, какие в области отношений между людьми и богами имеет ведический глагол ṡrad-dhā (авест. zraz-dā) и его существительное śraddhā́ (ср. древнеирландское cretim, древнеуэльский инфинитив credu). На грани религиозных значений (вспомним почти жреческие функции, которые исполнял цензор) один и тот же корень обозначает характеризующее слово, которое одним тоном (похвала или осуждение) ставит вещь, живое существо, мнение — на правильное место среди других (лат. censeo, вед. ṡáṃsati, ав. saṅhati). Многие слова, имевшие религиозное значение в Индии, сохраняют его и в Риме: ritus родственно важному понятию вед. ṛtá, иранскому arta — «порядок космический, ритуальный и т. д., устанавливающий истину» (ср. вед. ṛtú — «время, подходящее (для ритуального действия), упорядоченное течение времени»; авест. ratu); чистота, очищение обозначаются с помощью того же корня: латинское purus, ведическое pávate: «он очищает» (причастие pūta «очищенный, очистившийся»; возможно, авест. Pūtika — мифическое озеро, в котором очищаются воды); castus образовано от ведического корня śā́sti: «он дает указание» (ср. авест. sās-tu «пусть он наставляет, воспитывает»); слово voveo[104] — производное от того же корня, что и ведическое vāghát: «который совершает жертвоприношение»; и т. д. В конце своей статьи Вандриес дал приемлемое объяснение значительного числа перечисленных им сопоставлений. В них есть несколько неправильных слов, которые следовало бы интерпретировать с учетом нюансов: «Индия и Иран, с одной стороны, а с другой стороны — Италия и Галлия, сохранили некоторые общие религиозные традиции благодаря тому, что только в этих четырех странах, входящих в область индоевропейских языков, имелись учебные заведения для подготовки священнослужителей. Брахманы, друиды или понтифики, ведические или авестийские священники, несмотря на бросающиеся в глаза различия, все же имеют ту общую черту, что каждый из них придерживается древней традиции. Организация богослужения требовала определенных ритуалов, литургии при жертвоприношении, короче говоря, некой совокупности религиозных обрядов из числа тех, которые менее всего повторяются. Однако не существует такой литургии и таких ритуалов, в которых не использовались бы священные предметы, названия коих остаются в памяти, которые не сопровождались бы молитвами, повторяемыми без каких-либо изменений. Поэтому в лексиконе сохраняются слова, которые невозможно было бы объяснить иначе». Действительно, существование могущественного духовенства, хранителя знаний в четырех рассмотренных выше сферах, является поразительным фактом. Однако не следует забывать, что германцы — по-видимому, никогда не имевшие ничего подобного — также сохранили если не лексикон, то, по крайней мере, многие религиозные традиции. Что касается содержания традиций, то здесь Вандриес проявил слишком большую сдержанность. Религии не ограничиваются словами и жестами — тем, что он называет «внешней пышностью». Они включают теологию, а также, как правило, и мифологию; они предлагают объяснение общества, а часто и мироздания; они интерпретируют прошлое, настоящее и будущее. Именно это оправдывает и поддерживает слова и действия. Никакой подход a priori не может получить преимущества по отношению к тем указаниям, которые дает словарь, и к тому, что они подсказывают в области сохранившихся данных, а также механизмов сохранения: индоевропейский язык прочно занимает свое место.VIII. КОНСЕРВАТИЗМ РИМСКОЙ РЕЛИГИИ: СЛУЧАЙ IUGES AUSPICIUM
Основными причинами скептицизма Курта Латте были скорость, с которой развивалась религия цивилизованного народа, и то, что наши сведения о римской религии относятся к довольно позднему времени. Однако ни то, ни другое не имело тех последствий, которые он предположил. За последние века существования Римской республики религия римлян — различных категорий римлян — развилась очень сильно. Однако несомненной характерной чертой, которой отличались римляне, — во всём и в самые различные периоды, даже в самые бурные времена, — является их консерватизм. Перемены в религии происходили путем дополнения, а не в результате внутренних изменений. Это особенно относится к высшим и самым старым слоям полисного духовенства, хранителям священной науки. Я скоро вернусь к тому, что касается понтификов, но над ними царь (rex) и трое фламинов высшего ранга (flamines majeurs) дают прекрасный пример консерватизма. Ни в какой момент истории мы не читаем о том, чтобы одному из этих священнослужителей поручили бы начать с какого-то момента делать что-то такое, чего он не делал бы изначально, всегда. Правда, это оспаривалось в отношении фламина Квирина: Виссова утверждал, что этот жрец, потерявший работу из-за того, что была забыта теология, связанная с его богом, был призван снова, и ему поручили богослужение во время Консуалий, Робигалий, Ларенталий. Это — произвольный взгляд, возникший как следствие некоей новой гипотезы, которая противоречит принятым в Риме обрядам. Хотя богословие Квирина действительно стало туманным (причем, видимо, позднее, чем предполагала гипотеза), тем не менее — поскольку священнослужитель продолжал существовать — это не повлияло автоматически на ритуал: будни заполнены обрядами, например, ритуалами июльских праздников, смысл которых уже перестал быть понятным, но которые сохранялись. Ниже мы выработаем такую концепцию этого бога, которая не только допустит, но потребует, чтобы фламин Квирина занимался различными божествами той сферы, к которой его бог принадлежит. Следовательно, этот священнослужитель не является исключением. С другой стороны, служба, одежда и почетное положение самого известного из фламинов высшего ранга не претерпели никаких изменений за всё время существования республики и несут на себе печать глубокой архаики. Нет никаких оснований считать, что фламины были более сговорчивыми и гибкими в царское время. Короче говоря, эти четверо фламинов, — которые до конца были выше по статусу, чем pontifex maximus, хотя именно он являлся истинным действующим главой религиозной жизни, — подобны ископаемым, сохраняемым в их странной форме. Что касается авгуров и их искусства, столь важного в любое время, то они выжили, несмотря на иронию и скептицизм, с которыми к ним относились в эпоху просвещения. Мы недавно получили доказательство того, о чем догадывались: и здесь царил консерватизм, господствовал полный застой. Авгур Цицерон следовал правилам, которыми руководствовались его коллеги в царское время. Это доказательство, о котором обычно не знали (и которое даже игнорировали), стоит привести здесь довольно подробно: в дискуссии, в ходе которой всегда есть риск быть слишком субъективным, оно дает такую точку опоры, каких хотелось бы иметь побольше. Одна из самых древних римских надписей была найдена в 1899 г. около Комиция, на «Черном камне»[105]. Она относится либо к началу Республики, либо к концу царского времени (а возможно — к еще более раннему периоду). От нее сохранилось лишь несколько фрагментов, поддающихся прочтению. Они написаны бустрофедоном[106] на четырех сторонах и на ребрах надгробия, сделанного из прямоугольного куска туфа. Точнее это — обломок основания надгробия, который один только и сохранился; так как невозможно точно оценить продолжительность временнóго разрыва вследствие поврежденности надгробия, то тщетны все попытки (хотя их было много) заполнить этот пробел. Однако то, что сохранилось, весьма существенно[107]. Текст начинается с формулировки, выражающей проклятие, оберегающее некий предмет или некое место. Написание — классическое: qui hu[nc lapidem… (или hu[ic lapidi…), sacer erit[108].
В 4 recei можно прочесть как дательный падеж rīgī «царю» или «для царя».
В 8—11 легко можно прочитать классическое — ]m calatorem ha[ec?… и — ]ō (аблатив) iūmenta capiat[109] (+?).
В 12 можно получить — ]m iter, за которым следует глагол perficere[110]; 13 и 14 на первый взгляд кажутся загадочными; 15 дает в классическом написании — ]ō iūsto[111]; в 16 имеется только одно слово, первая буква которого u недостаточно достоверна. Кроме того, если понимать это слово как латинское, то это может быть только аблатив loiquiod, который наверняка связан с двумя аблативами номера 15, которые стоят непосредственно перед ним.
Строки 4, 8–9 и 10–11, где упоминаются rex (царь), calator (служитель), а затем аблатив на — ō, действие предписывает (поскольку здесь употреблено сослагательное наклонение) «iumenta capere», соотносятся с определенной ситуацией. В январе 1951 г. я как раз перечитал О дивинации[112], когда в одно из посещений Антиквариума на Форуме я увидел хороший слепок надгробия, который был там выставлен. Самые заметные слова надписи мне напомнили фразу Цицерона, которая меня заинтересовала. Вернувшись в Париж, я с легкостью довел дело до конца, и моя статья вышла в октябре того же года в сборнике, посвященном R. P. Jules Lebreton. Я озаглавил ее так: «Архаическая надпись на Форуме и Цицерон». Вот основные элементы решения проблемы:
1. В этом отрывке (2, [36], 77) Цицерон, напомнив об одной предосторожности, к которой прибег Марк Марцелл, чтобы защититься от неприятных предзнаменований, добавляет: huic simile est, quod nos augures praecipimus, ne iuge(s) auspicium obueniat, ut iumenta iubeant diiungere — «точно так же мы, авгуры, во избежание неблагоприятного совершения того, что называют iuge(s) auspicium, предписываем, чтобы они приказали снять ярмо с животных».
2. «Они» — это кто? Это явно служители (Suet. Gramm. 12), которых авгуры, как и другие священнослужители, держат на службе именно для того, чтобы вовремя приказать мирским людям избежать того, что могло бы осквернить и отменить священную процедуру (ср., напр.: Serv. Georg. I, 268; Macr. I, 16, 9).
3. В царские времена, хотя авгуры были отграничены от rex (который первоначально был царь-авгур?), тем не менее, ауспиции были по существу делом царя: «пророчества и мудрость считались прерогативой царя», — говорит Цицерон в том же трактате (1, 89: см. весь отрывок).
4. Что такое iuge(s) auspicium? Павел Диакон (с. 226 L2) дает следующее определение: iuge(s) auspicium est, cum iunctum iumentum stercus fecit — «имеет место i. a., когда животное, идущее под ярмом, испражняется». Понятно, какой приказ в этом случае Цицерон и его коллеги отдают служителям: когда они, в силу своих обязанностей, шествуют, выполняя священную миссию, то такая предосторожность необходима: всякий хозяин упряжки должен быть предупрежден о том, чтобы вблизи их пути он распряг животных и снял ярмо со своих iuncta iumenta.
5. Место, где была найдена надпись, как раз весьма важно в отношении одной из известных миссий авгуров. Варрон (Varron, L. L. 5, 47), объясняя название Sacra Via, которая пересекает в длину Форум и доходит до Капитолия, говорит, что именно эту дорогу авгуры от возвышенной крепости имеют обыкновение освящать ауспициями. Идет ли здесь речь, как предположил Буше-Леклерк, о весеннем возобновлении освящения ауспициями всех храмов, начиная с авгуракула[113] крепости? Обстоятельства здесь несущественны: Варрон свидетельствует, что авгуры, отправляясь для исполнения некоей авгурской церемонии, спускались с Капитолия к Форуму и шли по Sacra Via. Во время пути им, конечно, приходилось избегать iuge(s) auspicium. И вот, во время спуска с холма к Форуму первая поперечная дорога, которую они пересекали, и где могло в первый раз случиться неприятное происшествие, называется именно uicus iugarius, и это название прекрасно объясняется связью с риском и приказом, которые нас интересуют[114]. А Комиций — то место, где была найдена древняя надпись, — находится совсем близко от левой стороны этой поперечной дороги, так что представляется вполне естественным, что надпись была помещена именно здесь: она предупреждала прохожих в нужном месте о том, что служитель авгура должен будет передать срочный приказ им.
Надо ли подчеркивать, насколько элементы этого обстоятельства согласуются со строками 4, 8–9, 10–11 надписи? В строках 4–5, 6–7 слова, соседствующие с дативом regi, слишком пострадали, и поэтому попытки их прочтения бесполезны, но само слово regi совершенно понятно. Строки 8–9 могут быть прочтены, например, так: (… авгур, действующий за царя, или царь-авгур) [… iubet suu]m calatorem hae[c praecipere], а строки 10–11 могут читаться [… iug]o (или […subiugi]o, либо [… iugari] o??) iumenta capiat, что означает: «пусть уберет (по-видимому, с отдельным превербом ex или de перед аблативом[115]) животных, несущих ярмо, освободив их от ярма [joug.]». Впрочем, строка 12 очень хорошо согласуется с таким приказом и может быть прочтена как [… ut augur (или rex) ad… — ]m iter pe[rficiat либо pe[rficere possit.
Четыре последние строки могут также быть объяснены в этом контексте[116], но так как некоторые критики, соглашаясь с интерпретацией строк 8—11 как iuges auspicium, все же предпочитают допускать, что в надписи речь идет о различных вещах и, в частности, в конце говорится о чем-то другом, чем в середине, то я здесь придерживаюсь того, что не было оспорено и что содержит достаточно ясные указания: в отношении точных правил, предполагающих целую теорию, касающуюся мистических смыслов ярма и экскрементов, а также в отношении определенной организации священнослужения (со служителями) и регулярного пути следования, мы можем быть уверены в том, что в течение четырех (а может быть, и пяти) веков приемы исполнения авгурами своих обязанностей не изменялись, как не изменялся и язык их выражения, вплоть до «омоложения» грамматики. И даже если, с другой стороны, Цицерон и его коллеги могли выражать сожаление о том, что многое в их искусстве было забыто, тем не менее в их распоряжении еще были ценные фрагменты, которые сразу переносили их к истокам.
Искусство авгуров, конечно, не является исключением. Большие группы священнослужителей и великие коллегии имели свои традиции и свои особые правила, и ни те, ни другие не подвергались больше изменениям. «Сегодня мы знаем, насколько поздними оказались дошедшие до нас летописи, повествующие о Риме…». Да, но какое это имеет значение, если в последний век Республики знатоки продолжали в точности повторять слова и жесты, принятые во времена царей?
Текст начинается с формулировки, выражающей проклятие, оберегающее некий предмет или некое место. Написание — классическое: qui hu[nc lapidem… (или hu[ic lapidi…), sacer erit[108].
В 4 recei можно прочесть как дательный падеж rīgī «царю» или «для царя».
В 8—11 легко можно прочитать классическое — ]m calatorem ha[ec?… и — ]ō (аблатив) iūmenta capiat[109] (+?).
В 12 можно получить — ]m iter, за которым следует глагол perficere[110]; 13 и 14 на первый взгляд кажутся загадочными; 15 дает в классическом написании — ]ō iūsto[111]; в 16 имеется только одно слово, первая буква которого u недостаточно достоверна. Кроме того, если понимать это слово как латинское, то это может быть только аблатив loiquiod, который наверняка связан с двумя аблативами номера 15, которые стоят непосредственно перед ним.
Строки 4, 8–9 и 10–11, где упоминаются rex (царь), calator (служитель), а затем аблатив на — ō, действие предписывает (поскольку здесь употреблено сослагательное наклонение) «iumenta capere», соотносятся с определенной ситуацией. В январе 1951 г. я как раз перечитал О дивинации[112], когда в одно из посещений Антиквариума на Форуме я увидел хороший слепок надгробия, который был там выставлен. Самые заметные слова надписи мне напомнили фразу Цицерона, которая меня заинтересовала. Вернувшись в Париж, я с легкостью довел дело до конца, и моя статья вышла в октябре того же года в сборнике, посвященном R. P. Jules Lebreton. Я озаглавил ее так: «Архаическая надпись на Форуме и Цицерон». Вот основные элементы решения проблемы:
1. В этом отрывке (2, [36], 77) Цицерон, напомнив об одной предосторожности, к которой прибег Марк Марцелл, чтобы защититься от неприятных предзнаменований, добавляет: huic simile est, quod nos augures praecipimus, ne iuge(s) auspicium obueniat, ut iumenta iubeant diiungere — «точно так же мы, авгуры, во избежание неблагоприятного совершения того, что называют iuge(s) auspicium, предписываем, чтобы они приказали снять ярмо с животных».
2. «Они» — это кто? Это явно служители (Suet. Gramm. 12), которых авгуры, как и другие священнослужители, держат на службе именно для того, чтобы вовремя приказать мирским людям избежать того, что могло бы осквернить и отменить священную процедуру (ср., напр.: Serv. Georg. I, 268; Macr. I, 16, 9).
3. В царские времена, хотя авгуры были отграничены от rex (который первоначально был царь-авгур?), тем не менее, ауспиции были по существу делом царя: «пророчества и мудрость считались прерогативой царя», — говорит Цицерон в том же трактате (1, 89: см. весь отрывок).
4. Что такое iuge(s) auspicium? Павел Диакон (с. 226 L2) дает следующее определение: iuge(s) auspicium est, cum iunctum iumentum stercus fecit — «имеет место i. a., когда животное, идущее под ярмом, испражняется». Понятно, какой приказ в этом случае Цицерон и его коллеги отдают служителям: когда они, в силу своих обязанностей, шествуют, выполняя священную миссию, то такая предосторожность необходима: всякий хозяин упряжки должен быть предупрежден о том, чтобы вблизи их пути он распряг животных и снял ярмо со своих iuncta iumenta.
5. Место, где была найдена надпись, как раз весьма важно в отношении одной из известных миссий авгуров. Варрон (Varron, L. L. 5, 47), объясняя название Sacra Via, которая пересекает в длину Форум и доходит до Капитолия, говорит, что именно эту дорогу авгуры от возвышенной крепости имеют обыкновение освящать ауспициями. Идет ли здесь речь, как предположил Буше-Леклерк, о весеннем возобновлении освящения ауспициями всех храмов, начиная с авгуракула[113] крепости? Обстоятельства здесь несущественны: Варрон свидетельствует, что авгуры, отправляясь для исполнения некоей авгурской церемонии, спускались с Капитолия к Форуму и шли по Sacra Via. Во время пути им, конечно, приходилось избегать iuge(s) auspicium. И вот, во время спуска с холма к Форуму первая поперечная дорога, которую они пересекали, и где могло в первый раз случиться неприятное происшествие, называется именно uicus iugarius, и это название прекрасно объясняется связью с риском и приказом, которые нас интересуют[114]. А Комиций — то место, где была найдена древняя надпись, — находится совсем близко от левой стороны этой поперечной дороги, так что представляется вполне естественным, что надпись была помещена именно здесь: она предупреждала прохожих в нужном месте о том, что служитель авгура должен будет передать срочный приказ им.
Надо ли подчеркивать, насколько элементы этого обстоятельства согласуются со строками 4, 8–9, 10–11 надписи? В строках 4–5, 6–7 слова, соседствующие с дативом regi, слишком пострадали, и поэтому попытки их прочтения бесполезны, но само слово regi совершенно понятно. Строки 8–9 могут быть прочтены, например, так: (… авгур, действующий за царя, или царь-авгур) [… iubet suu]m calatorem hae[c praecipere], а строки 10–11 могут читаться [… iug]o (или […subiugi]o, либо [… iugari] o??) iumenta capiat, что означает: «пусть уберет (по-видимому, с отдельным превербом ex или de перед аблативом[115]) животных, несущих ярмо, освободив их от ярма [joug.]». Впрочем, строка 12 очень хорошо согласуется с таким приказом и может быть прочтена как [… ut augur (или rex) ad… — ]m iter pe[rficiat либо pe[rficere possit.
Четыре последние строки могут также быть объяснены в этом контексте[116], но так как некоторые критики, соглашаясь с интерпретацией строк 8—11 как iuges auspicium, все же предпочитают допускать, что в надписи речь идет о различных вещах и, в частности, в конце говорится о чем-то другом, чем в середине, то я здесь придерживаюсь того, что не было оспорено и что содержит достаточно ясные указания: в отношении точных правил, предполагающих целую теорию, касающуюся мистических смыслов ярма и экскрементов, а также в отношении определенной организации священнослужения (со служителями) и регулярного пути следования, мы можем быть уверены в том, что в течение четырех (а может быть, и пяти) веков приемы исполнения авгурами своих обязанностей не изменялись, как не изменялся и язык их выражения, вплоть до «омоложения» грамматики. И даже если, с другой стороны, Цицерон и его коллеги могли выражать сожаление о том, что многое в их искусстве было забыто, тем не менее в их распоряжении еще были ценные фрагменты, которые сразу переносили их к истокам.
Искусство авгуров, конечно, не является исключением. Большие группы священнослужителей и великие коллегии имели свои традиции и свои особые правила, и ни те, ни другие не подвергались больше изменениям. «Сегодня мы знаем, насколько поздними оказались дошедшие до нас летописи, повествующие о Риме…». Да, но какое это имеет значение, если в последний век Республики знатоки продолжали в точности повторять слова и жесты, принятые во времена царей?
IX. ЦЕННОСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВ, ВЫРАЖЕННЫХ ФОРМУЛАМИ
Высказанное наблюдение относится также к другому весьма ценному виду сведений, значимость которых начали недооценивать. Из сказанного в начале наших «Замечаний» по поводу ценности летописей, а также о способах и границах проверки достоверности данных, допустимых в отношении археологических исследований, следует, что с конца царских времен и до галльской катастрофы (и, по-видимому, еще в течение нескольких следующих десятилетий) тем, что на законном основании можно сохранить в памяти из «исторических» повествований, — остаются приблизительные даты и некоторые обстоятельства создания культов и основания святилищ. Храм капитолийской триады и ее плебейское отражение (почти в то же время) — храм триады Церера — Либер — Либера, вызывание Юноны Вейской (Junon de Véies) и возведение ее храма на Авентине — все это приблизительно восходит к датам и, в общем, также к событиям, о которых рассказывают Тит Ливий и Дионисий Галикарнасский. Однако в деталях легенда восстанавливает свои права: что, кроме идеологии, можно извлечь из лишения святости Термина (Terminus), из эксгумации головы человека, из конфликта между консулами по поводу освящения храма? Обращение к Сивиллиным книгам до основания храма Цереры, отправка послов в Дельфы и все чудеса Вейской войны — всё это вызывает большие сомнения. Даже гораздо позднее, во время самнитских войн, если можно предполагать, что описание жертвоприношений 296 г. Юпитеру, Марсу, Близнецам, совершенных магистратами-патрициями, и жертвоприношений плебеев Церере достоверно, то, напротив, рассказ о том, как в следующем году во время битвы при Сентине каждое из этих божеств (Теллус выступает здесь вместо Цереры) своим особым вмешательством способствовало трудной победе римлян, — возвращает нас к легенде или, если хотите, к эпопее. Но именно у Тита Ливия, особенно в первых книгах, можно найти, кроме того, ритуальные формулировки, причем некоторые из них — длинные и подробные, и автор преподносит их как достоверные. Чего они стоят? По этому поводу Латте пишет: «При использовании документов, вставленных в летописи, необходима особая осторожность. По большей части они были сочинены самим писателем или «сфабрикованы» по образцу источника, из которого он их заимствовал, добавляя при этом религиозные или юридические формулировки, предназначенные для создания видимости древности». Это суждение обосновывается в примечании следующим образом (с. 5): «Моммзен дал глубоко верную оценку такого вида отрывков из архивов. Описание ритуала Фециалов в Liv. I, 32, 6 представляет как главное понятие (concept-sujet) олицетворенный Fas[117], что невозможно для древнего языка, а также использует оформленный на греческий лад вокатив populus Albanus (Фузий из Liv. I, 24, 7, заимствует формулу tabulis ceraue[118] из завещания (напр. Gaius 2, 104), где отмечается разница между завещанием и припиской к завещанию (codicille). Формула devotio, Liv. VIII, 9, 6 включает слова veniam fero, засвидетельствованные во всех рукописях, а это противоречит значению «милость, свидетельство благорасположения», являющемуся единственным значением данного слова в религиозном языке. Та же формула является единственным текстом, где стоят рядом Divi Novensiles и Di Indigetes (именно в таком порядке!). Тит Ливий, по-видимому, имел в виду новых богов и богов, введенных в древности». В этой дискуссии с самого начала смешались две совершенно разных вещи: с одной стороны — акты, относящиеся к отдельному событию и составленные один раз только для этого случая; с другой стороны — формулировки, используемые всякий раз, когда это необходимо, священнослужителями, являющимися компетентными специалистами. В цитируемой работе Моммзена критика относится исключительно к первым. Речь идет о документах судебного процесса[119], а именно: «Оба декрета трибуна в процессе, посвященном заступничеству, которые можно прочесть у Авла Геллия 6 (7), 19, и которые заимствованы из древних анналов, конечно, следует поставить в один ряд с речами, письмами и отрывками из архивов, столь часто встречающимися в старых исторических работах. Это не подделки, а подача материала, который писатель вкладывает в уста действующих лиц». Это прекрасно сказано, и притом весьма осторожно. Кроме того, не следует обобщать. Лишь в одном случае — в отношении постановления Сената о вакханалиях — мы можем сравнить оригинал длинного постановления этого типа с кратким его изложением, которое приводит Тит Ливий (39, 18). Историк с честью выходит из этого испытания. Формулировки ius fetiale (фециального, международного права), из обета жрецов богам (devotio) — это нечто совсем другое. Это уже не литература. Тит Ливий цитирует их из-за их красочности и архаичности: и зачем бы он стал что-то в них менять? Здесь изящество заключалось в точной верности странным текстам, которые священнослужители его времени наверняка еще хорошо знали. Критика, с помощью которой пытаются уничтожить эти свидетельства, неправомерна, и в этом легко удостовериться в каждом конкретном случае. 1. Фециал, отправляющийся за границу требовать удовлетворения от имени римлян, покрывает голову filum, т. е. шерстяной тканью, и, остановившись на границе (fines), говорит (Liv. I, 32, 6): «Audi, Juppiter, audite fines, audiat fas. Ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus uenio, uerbisque meis fides sit»[120]. Так священнослужитель призывает в свидетели своего статуса и бога-гаранта права, и место, где он находится, и опору и основу своей миссии: мистическую основу (fas) всех отношений и договоров между людьми (ius). Это третье обращение особенно уместно, если (как это вполне вероятно) fas представляет собой архаическое производное от корня *dhē-: «ставить, помещать, укладывать», от которого образовано также наименование fētialis: деятельность этого жреца *fēti- (слово, которое, по-видимому, эволюционировало бы до формы *fētio, — ōnis, если бы оно выжило) заключается в том, чтобы «заложить» мистическую основу — fas — любых внешних действий римского народа, войны или мира. Однако, как бы ни обстояло дело с этимологией, но именно исходя из предвзятого, упрощенческого и инфантилистского понимания религии и мышления древних римлян, стремятся объявить невозможной персонификацию этого fas, которое, впрочем, неотделимо от персонификации fines, предшествующей ему в тексте[121]: первые римляне наверняка были способны на такое усилие, ведь они уже оживили, воплотили в священнослужителях фламинах (flamen) среднего рода, авгурах (augur) среднего рода, и должны были вскоре, наряду с древними женскими сущностями, такими как Опа, персонифицировать более устойчиво, чем fas, venus среднего рода, приписав ему женский род[122]. 2. Фециал, который одобряет договор, зачитывает его условия и говорит (Liv. I, 24, 7, — ибо именно здесь, а не в I, 36, 6 стоит номинатив populus Albanus): «Audi, Juppiter; audi pater patrate populi Albani; audi tu, populus Albanus. Vt illa palam prima postrema ex illis tabulis ceraue recitata sunt sine dolo malo, utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt, illis legibus populus Romanus prior non deficiet»[123]. Утверждают, что эта формулировка якобы выдает, что она выдумана, что видно из двух пунктов. Во-первых, populus Albanus якобы «вокатив, употребленный по греческому образцу». Почему? Единственный вокатив в этой фразе — tu, причем populus Albanus — это номинатив, употребленный как приложение, почти как вводное слово, эквивалентное относительному придаточному: «ты, который являешься альбанским народом и никем другим», «ты, я подчеркиваю — альбанский народ». Этот уточняющий номинатив — часть предосторожностей, которыми пересыпана формулировка prima posterma, illis tabulis, hic hodie («от начала и до конца, по этим табличкам, здесь в сей день»). Точно так же в формулировке I, 32, 6, сказав «внемлите, рубежи», фециал должен уточнить, границы какого народа имеются в виду («племени такого-то (тут он называет имя», — говорит Тит Ливий мимоходом). Точно так же и здесь, в формулировке I, 32, 6, он не ограничился словами audi pater patrate, но уточнил — audi pater patrate populi Albani, и так же, далее, сказав, audi tu, он уточняет кто подразумевается под этим tu. Но он делает это не с помощью вокатива, который просто дублировал бы его, а употребляет номинатив, который его уточняет. Достаточно ли хорошо известен латинский язык эпохи до Плавта, чтобы отрицать возможность для него такого нюанса? Выражение tabulus ceraue якобы грубая подделка, заимствованная из законов, касающихся завещания. Действительно, Гай говорит (2, 104): deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit: «Haec ita, ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ita do, ita lego, ita testor, itaque uos, Quirites, testimonium mihi perhibetote»[124]. Надо ли понимать под словами tabulis cerisque главную часть завещания и приписку к нему? В этом вопросе мнения расходятся. В последнем издании своего учебника («Manuel», 1, 1945, с. 460) R. Monier допускает, что имеет место гендиадис[125], и дает следующий перевод: «В соответствии с распоряжениями, записанными на этих восковых дощечках…». Но примем интерпретацию Латте. Во всяком случае, формулировка фециала говорит о другом: он употребляет не слово cerisque, а (противопоставляя два вещества) говорит ceraue, что можно понимать двояко: либо ceraue — это вводное слово в формулировке, и тогда фециал должен был употребить либо слово tabulis, либо слово cera, в зависимости от того, было ли утверждаемое им соглашение выгравировано на каменных/металлических табличках, или на деревянных табличках, покрытых воском, или же (и это толкование я предпочитаю) оба слова — tabulis ceraue — входят в единый текст. В этом случае они относятся только к дощечкам, покрытым воском, и тогда ceraue — это предосторожность против хитростей в интерпретации, против мысленного ограничения условия: ut illa… ex illis tabulis ceraue recitata sunt означает: «эти условия, такие, как они были прочтены по этим табличкам, либо, если хотите, по нанесенному на них воску». Так договаривающиеся стороны не будут иметь никаких лазеек и не смогут утверждать, что ничто не было прочитано по дощечкам в точном смысле слова, т. е. с деревянной поверхности дощечек. Разве же не предосторожность такого типа, но относящаяся уже не к носителю информации, а к редакции текста, предпринята в следующем далее предложении — utique ea hic hodie rectissime intellecta sunt[126]? В обеих гипотезах между кумулятивной формулировкой завещателя и альтернативной формулировкой фециала общим оказывается только материал орудия письма, бывший в употреблении как во времена Республики, так и при императорах. Если составители и того, и другого текста сослались на двойственный характер и дощечек, и воска, отмечая и различную целенаправленность и указывая на разнообразные предосторожности, — то с этим сталкивался каждый, о чем бы он ни писал. 3. Римский полководец, который вверяет и свою судьбу, и судьбу вражеской армии богам Манам и Земле, произносит формулу, которую ему диктует великий понтифик (Liv. 8, 9, 6):«Jane, Juppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, diui Nouensiles, dii Indigetes, diui quorum est potestas nostrorum hostiumque, diique Manes, uos precor ueneror euniam peto feroque, uti populo Romano Quiritium uim uictoriamque prosperetis hostesque populi Romani Quiritium terrore formidine morte afficiatis. Sicut uerbis nuncupaui, ita pro republica Quiritium exercitu legionibus auxiliis populi Quiritium, legions auxiliaque hostim mecum diis Manibus Tellurique uoueo»[127].Этот текст особенно важен для изучения римской религии, так как он содержит свидетельство, выраженное в виде формул, о триаде богов, почитаемых фламинами высшего ранга: Юпитер, Марс, Квирин. Позже мы рассмотрим его с этой точки зрения и дадим интерпретацию того факта, что в обращении с мольбой они поименованы совместно все трое. Сейчас ограничимся констатацией того, что присутствие всех остальных богов очень легко обосновать. Так, Янус, согласно известному правилу, открывает воззвание, обращенное к нескольким богам; Беллона — на своем месте в решающий момент войны; Лары — покровители всякого куска земли, на котором осуществляется деятельность человека, причем здесь, скорее, речь идет не о Ларах Рима, а о Ларах поля битвы; Маны, вместе с Теллом, — адресаты пожертвований, а коллективные обозначения (Nouensiles, Indigetes) имеют в виду совокупность всех римских богов в одном случае и всех богов, покровительствующих обеим армиям — в другом случае. Что же касаетсямолитвы и обета (uti, etc.; sicut etc.), со всеми уточнениями, повторениями, с симметричной антитезой — противопоставлением того, что касается римлян, тому, что относится к их врагам, — то они соответствуют определенному типу, примеров которого немало у римлян, но его особенно хорошо иллюстрирует умбрский ритуал Iguvium[128], достоверность которого бесспорна. Ничто во всём этом не вызывает сомнений. Однако Латте усматривает две неудачные формулировки, которые якобы свидетельствуют о вымышленном характере текста. Во-первых, употребление venia в словосочетании veniam fero. Якобы venia здесь не обозначает «милость, благоволение», хотя это значение единственно возможное в религиозном языке. Это замечание, по-видимому, исходит из ошибочного истолкования fero, что вызвано, прежде всего, повреждением текста, в котором говорится не veniam fero, а veniam peto feroque[129]. Действительно, venia — божественный коррелят *venus, veneratio человека по отношению к богу — как убедительно доказал господин Роберт Шиллинг, обозначает только благорасположение бога к человеку, его милость. Но как раз здесь это слово не имеет другого значения. В этой экстраординарной, неистовой и поспешной церемонии, какой была devotio (обет), когда молящийся не хочет сомневаться в том, что боги исполнят его мольбу, когда, прежде всего, он не ждет другого знака их согласия, кроме своей скорой смерти, как бы выплачивая цену заранее в соглашении, которое не может, не должно быть сделкой одураченных, — он говорит не только: «Я прошу вашего, согласия, вашей милости», — но заявляет: «Я требую и уже получаю ваше согласие, вашу милость, я в этом уверен». Глагол ferre имеет здесь то значение, в каком он часто употребляется во все времена существования латинского языка: «получать, извлекать, принимать выгоду, преимущество, цену, пользу». В чрезвычайных обстоятельствах обет был единственным условием, при котором было возможно, чтобы такое требование сопровождало молитву: veniam peto feroque — здесь уместное и характерное выражение. Например, в призывании (Macr. 3, 9, 7) и молящийся, и боги не испытывают такого давления, и даруемое не носит того драматического характера, как в обете. Поэтому там не написано peto feroque: precor venerorque veniamque a vobis peto ut vos populum ciuitatemque Certhaginiensem deseratis[130]. Совместное упоминание divi Novensiles и dii Indigetes[131] не вызывает сомнений. Если подвергать сомнению всё, что засвидетельствовано в Риме только один раз, то исчезли бы очень многие подробности, которые необходимо сохранить по другим причинам, и которые действительно сохранены у всех авторов, включая Латте[132]. Что касается порядка, в котором они здесь появляются, то он, скорее, внушает доверие. Хотя истинный смысл этой классификации богов пока еще не прояснен, тем не менее, как говорит Латте, можно считать вполне достоверным, что Тит Ливий и его современники — великие эрудиты — выражались приблизительно, прибегали к каламбуру indigetes = indigenae[133] и признавали во втором слове лингвистически весьма маловероятное сочетание novus и insidere[134]. Если бы Тит Ливий или его предшественники-летописцы выдумали или подправили девоции, то почему бы они не начали с «местных» богов, поставив на второе место «натурализованных» богов? Напротив, порядок следования в формулировке devotio подтверждается независимо от значения слова novensiles, если indigetes — боги подчиненные, как подсказывает родство их названия с indigitamenta (названием списков мелких богов, не имевших отдельного жреца, представлявших собой как бы разменную монету или семью нескольких «великих богов»). Тит Ливий этого не сознавал, но, однако, он представляет богов в том порядке, в котором их называло древнее учение и который вступает в противоречие с его собственным учением. Может быть, дело в том, что он следует до мелочей списку, который копирует? Итак, Тит Ливий выходит с честью и из этих испытаний. Конечно, «филологическая критика материала» необходима, но нельзя допустить, чтобы она заранее была полна решимости разрушать.
X. РИМСКИЕ ЭРУДИТЫ
Интерпретация надписи, найденной на Форуме, вместе с изложенными выше размышлениями обязывают также не держать под постоянным подозрением историков древности (antiquaries), живших в эпоху конца Республики и начала Империи: т. е., прежде всего, — из-за отсутствия Катона и многих других, труды которых утрачены, — Варрона и Веррия Флакка (Verrius Flaccus). Ведь бóльшая часть информации, на которую опирается Овидий в Фастах, исходит от Варрона. И именно к труду Веррия Флакка отсылает нас краткое его изложение, которое осуществил Фест (Festus), а в отношении утраченных частей труда Феста — к резюме, которое сделал Павел Диакон на основе его краткого изложения. Не говоря уже о Дионисии Галикарнасском и о Плутархе, о Сервии (многословном комментаторе Вергилия), Авл Геллий, Макробий, Отцы церкви — все они зависят от этих историков древности, а также, как правило, и все эрудиты Рима эпохи Империи, и позднее эрудиты Византии. Сегодня модно недооценивать этих великих тружеников. Говорят, что якобы систематический «сабинизм» Варрона, его плохие этимологии, его греческая образованность и его философские интерпретации настолько портят его творчество, что делают его почти бесполезным. Это несправедливо. Все его недочеты имели весьма ограниченные последствия. Излишний «сабинизм» заметен лишь в нескольких отрывках его работы О латинском языке. Если же многие из предложенных им этимологий не могут быть приняты, то у него есть и немало правильных этимологий. Более того, всегда легко заметить и отклонить то, что опирается только на неверное толкование имен собственных или нарицательных существительных. Что касается его хорошего знания греческих учений и его стоицизма, то это влияние умеряется и неким образом контролируется границами, которые он определил для своего исследования. Квинт Муций Сцевола[135] — человек здравомыслящий, великий понтифик, который до своих страданий во время гражданских войн упорядочил религиозные представления, весьма смутные и дезорганизованные в то время. Из того, что дошло до нас из произведений Энния[136], мы видим, в какой восторг, а затем смятение повергло образованных римлян, настроенных патриотически и благочестиво, знакомство с греческой литературой — мифологией, философией, критикой. Сколько противоречий! В то время как Юпитер продолжал великолепно доказывать свое могущество и свою верность в прекрасных стихах первой национальной эпопеи, бесчисленные небылицы, нередко неприличные, касавшиеся его греческого двойника, проникали в Рим вместе с литературой, и плебс насмехался над делами, которыми он тщательно и долго занимался у полководца Амфитриона. В то же время, в своей эпопее Энний представляет Юпитера по Эвгемеру — как человека-бога, древнего обожествленного царя, а ученые-физики утверждали, что и он, и его похождения были образным выражением воздуха и атмосферных явлений. Эти взгляды на великого бога были несовместимы, однако каждая точка зрения имела что-то, говорящее в ее пользу: постоянный рост Рима сам по себе демонстрировал существование Капитолийца. Шарм и обилие мифов, связанных с ним, привлекали людей, обладающих хорошим вкусом, к царю Олимпа. Престиж науки, искусство диалектики вызывали у разумных людей колебания между скептицизмом и символическими интерпретациями. Как согласовать всё это? Обладавший от природы даром примирять, эмпирик, как и всякий добрый римлянин, а также знаток всего греческого, Муций Сцевола сумел оригинально использовать мысли стоиков о различных источниках познания богов. Он выделил таким образом классификацию, которая наилучшим образом подходила к его предмету. Он отделил то, что смешивалось вследствие слишком быстрого и бесконтрольного соединения, и в одной из ячеек этого разграничения спас оригинальность и достоинство собственно римской традиции. Как говорит св. Августин, он разграничил богов, введенных поэтами, богов, введенных философами, и богов, введенных политическими вождями (Ciu. D. 4, 27). Варрон усовершенствовал это удачное разграничение, которое отвечало потребностям времени. Так как одни и те же имена богов могли, впрочем, фигурировать во всех трех рубриках, он создал теологию мифов, которая подходила, например, театру, теологию природы, которая подходила мирозданию, и гражданскую теологию, которая подходила городу-государству. Определения, которые он дал, превосходны (Ibid., 6, 5). 1. В первом виде теологии встречается много вымышленных историй, оскорбляющих достоинство бессмертных богов и противоречащих их природе. Например, рождение божества, когда оно выходит из головы, из бедра или из капли крови, либо истории о богах-ворах, богах, участвующих в адюльтере, или о богах-рабах человека. В общем, богам приписываются всевозможные распутства, которые совершает человек, и даже самый презренный человек. 2. Второй вид теологии, который я выделил, послужил материалом для множества книг, в которых философы обсуждают определения богов, место их пребывания, их сущность и качества. Спорят о том, начали ли они существовать в какой-то определенный момент или они вечны? Происходят ли они от огня, как считает Гераклит, или от чисел, как полагает Пифагор, или они состоят из атомов, как утверждает Эпикур. Поднимаются и другие подобные вопросы, обсуждению которых больше подобает звучать в стенах школы, чем на Форуме. 3. Третий вид теологии — это тот, который граждане государств, и в первую очередь священнослужители, должны знать и которым они должны пользоваться в жизни. Т. е. этот вид теологии предполагает знание того, каким богам надо поклоняться публично, а также какие ритуалы каждый человек должен соблюдать и какие жертвоприношения он обязан делать. Трудно поверить, что человек, сформулировавший эти разграничения и так четко противопоставивший третий вид теологии двум первым, был неспособен выделить в сказанном им о Юпитере то, что исходит от Гомера или от Стои, или от Академии, и отличить это от того, что идет от традиции верховного жреца (tradition pontificale). Резкая критика св. Августина, которая будет изложена в следующих главах, изобличаемые им случаи смешения первого и третьего видов теологии или второго и третьего видов теологии — в большей степени являются проявлением враждебности, чем добросовестности. Приведем пример (6, 7):«…А сам Юпитер? Что думали о нем те, кто поместил его кормилицу на Капитолии? Разве они не подтвердили таким образом мнение Эвгемера, который, — как скрупулезный историк, а не как болтливый знаток мифологии, — утверждает, что первоначально все боги были людьми? И точно так же те, кто посадил богов Эпулонов, паразитов Юпитера, за его стол, разве они не превратили богослужение в шутовство? Если бы это шут посмел сказать, что за столом Юпитера сидели паразиты, то можно было бы подумать, что он хотел повеселить публику, но это говорит Варрон. А Варрон не хочет высмеивать богов, которых он почитает.».Когда возмущение спало, что остается от этих высказываний? Мы понимаем, что, говоря о храме на Капитолии, Варрон указывал, что — среди других освященных предметов искусства — там присутствовало изображение козы Амалфеи, а также, что он говорил (а как бы хотелось получить сведения, которые содержались в отрывке, ставшем предметом осуждения!) о трапезах в честь Юпитера (epula Jouis), о «божьих трапезах» (lectisternes), которые там совершались. Когда далее св. Августин упрекает Варрона в том, что он, излагая гражданскую теологию, касающуюся праздника Ларенталий, воспроизводит сказку, резюмированную нами выше, и говорит, что, по его мнению, самое большее, чего она достойна, — это войти в теологию, занимающуюся мифами, в частности в пересказ мифа о прекрасной ночи, которую Геркулес провел с куртизанкой Ларентией, — мы благодарны Варрону за то, что он отделил греческие выдумки — материал теологии, занимающейся мифами — от римских выдумок, относящихся к любым временам, выделив римские комментарии — старинные или нет, — объясняющие национальные праздники, а также за то, что он включил их в свою гражданскую теологию: разве не у него почерпнули эти сведения другие авторы, которых мы читаем, такие как Овидий и Плутарх? Само собой разумеется, что свидетельства Варрона необходимо взвесить, как все другие, и, как правило, это легко — благодаря самим основным чертам его системы. Однако следует также уметь согласиться с его точкой зрения, если нет причин для сомнений. Вспомним замечательное определение, которое он дает (Aug. Ciu. D. 7, 9) концептуальной противоположности между Янусом и Юпитером. Он не мог заимствовать это определение у греческих философов, так как римляне отказались от того, чтобы искать в Греции соответствие своему оригиналу Януса. С другой стороны, Варрон дал это определение для того, чтобы объяснить определенный момент ритуала, а именно то, что Юпитер упоминается вторым, после Януса. Почему?
«Дело в том, что Янус управляет тем, что является первым (prima), а Юпитер — тем, что является самым возвышенным (summa). Следовательно, справедливо считать Юпитера всеобщим царем, ибо хотя исполнение стоит на втором месте по времени, однако оно занимает первое место по значимости»[137].Предубеждение, присущее примитивистам, мешает многим современным авторам допустить, что в Риме ранней эпохи был бог нαчάл, которого определяет только его место среди всех prima. И тогда Янус либо становится непонятным, либо его навязывают, объясняя с помощью всяческих ухищрений. Зачем отказываться признать древним этот краткий и существенный кусок жреческого катехизиса, который проясняет всё? Если оставить в стороне знатоков старины, то всё, что было установлено в отношении надписи на Lapis Niger, долгое сохранение ритуала, который в ней упоминается, — не позволяет более оставлять без внимания технические компиляции, которые под названием трактатов de auspiciis, de religionibus и т. п., подготовили почву для трактатов de iure pontificio двух современников Августина — Antistius Labeo и Ateius Capito. Эти трактаты утрачены, но их очень часто цитировали, вплоть до эрудированного, но неумного византийца Иоанна Лида, и они ввели в обращение точные знания, которые — если бы не они — исчезли бы вместе со жречеством.
XI. ТАК НАЗЫВАЕМАЯ «РЕВОЛЮЦИЯ ВЕРХОВНЫХ ЖРЕЦОВ»
Выше мы неоднократно говорили о жреческой науке, о жреческой традиции. Но значение этих слов до сих пор трактуется по-разному. О каких понтификах идет речь или, вернее, о понтификах какого времени? Следует ли считать, что было (а если было, то в какие времена) то, что получило название революции? Была ли революция, которая, как говорит Латте, «сделала главой религиозной организации в Риме великого понтифика и подчиненную ему коллегию»? Латте, который в основу всей своей интерпретации древней римской религии кладет эту революцию, признает, что в летописях никаких ее следов не осталось, хотя летописцы выделили множество гораздо менее важных конфликтов. В этом умолчании Латте усматривает повод усомниться, но не в предполагаемой им революции, а в исторических «псевдо-преданиях», повествующих о древнем Риме. По аналогии с тем, что произошло в Греции, он предполагает, что rex, который естественно стоял во главе религии, по-видимому, в течение некоторого времени удерживал эту позицию, но после упразднения политического царствования оказался низведенным до роли священного царя (rex sacrorum), и что потребовались радикальные изменения, чтобы лишить его этой функции, передав ее понтифику. Что же произошло? «Невозможно полагать, что Царь Жертвоприношений (Roi des Sacrifices) в один прекрасный день мирно отказался от руководства религией в пользу Понтифика, тем более, что, по всей видимости, в полномочиях “пролагателей пути” ничто не предполагало центральной позиции, которую заняла коллегия верховного жреца. По-видимому, восторжествовала энергичная жажда власти людей, несших эти функции, после более или менее долгой борьбы» (с. 195–196). К какому времени отнести победоносное завершение этой борьбы, которая должна была спровоцировать какие-то движения в патрициате и в государстве, хотя в летописях, в которых так пространно описаны первые столкновения между плебсом и патрициатом, об этом нет ни слова? J. B. Carter, который занимался этими вопросами еще до Латте, счел возможным датировать эти события 260-м годом до н. э., но он опирался на малозначительное указание, на незначительный признак, к тому же неверно истолкованный, который теперь уже не принимается во внимание. Следовательно, опираться можно только на оценку обычаев: например, на рассмотрение порядка жрецов (ordo sacerdotum), который, по-видимому, был установлен во время этой победы понтифика над царем, хотя царь по-прежнему был на первом почетном месте. Отмечается, что этот порядок назначает — как пять верховных жрецов — сначала священного царя, затем (в порядке субординации) фламина Юпитера, фламина Марса, фламина Квирина, и пятым он назначает понтифика. Итак, было пятнадцать фламинов, из которых реформаторы могли выбирать. Они не остановились ни на одном из двенадцати фламинов, которые имели отношение к сельскому миру и считались второстепенными, а выделили только тех трех фламинов, которые «были важны для сообщества». Разве это не свидетельствует о том, что победа и реформа относятся к тому времени, когда уже установилось преобладание города над деревней? Вот еще более важный признак: среди отобранных таким образом фламинов фигурировал тот, который служил культу местного бога одного из холмов — Квирин, причем ничто не предвещало этой чести, пока он был всего лишь Квирин. «Из этого следует сделать вывод, что отождествление Квирина с основателем Рима уже произошло, а это нельзя отнести ко времени более раннему, чем вторая половина IV в.» (Латте, с. 196). Таким образом, мы имеем terminus a quo[138]: революция, выделившая понтифика, произошла после 350 г. Конечно, досадно, что об этом ничего не говорится в летописях, которые к этому времени уже стали настоящей историей и которые несколько позднее, в 300 г., не преминут отметить менее радикальные изменения, чем те, которые закон Огульния (lex Ogulnia) внесет в статус понтификов (увеличение их числа, открытие доступа к жречеству плебеям). Но факт есть факт: Квирин не мог снискать своему фламину такого повышения, пока сам не стал считаться основателем города. Такая неожиданная подача истории восхождения понтификов к власти и последствия этого объясняются предлагаемой Латте картиной длительных первых шагов римской религии. Избранный им план заставил его, как это часто с ним случалось, раздробить изложение, но здесь можно соединить его фрагменты. Приведем, прежде всего, следующий отрывок, который (как нам представляется) содержит намек на указанную революцию, где ее, однако, относят к более раннему времени:«По-видимому, реорганизация духовенства произошла очень рано, хотя от нее не осталось следов в летописях. Нет сомнения в том, что в древние времена царь должен был совершать религиозные обряды точно так же, как всякий римлянин делал это в своем доме. Судя по тому, что нам известно, в старину особые жрецы, служившие разным божествам по-отдельности, сосуществовали будучи слабо связанными друг с другом, и каждый имел свой собственный, четко определенный круг обязанностей. В историческое время этот вялый порядок был заменен строгой организацией, во главе которой стоял pontifex maximus[139]».Таким образом, мы получаем некоторое представление о начальном состоянии религии, весьма анархическом, но при этом, однако, остается неясным, что кроется за словами «судя по тому, что мы знаем». Несколько бóльшую ясность вносят, далее (с. 36–37), приведенные здесь слова «самый древний слой». Римский календарь праздников, восходящий к этрусскому, а еще более отдаленно — к греческому, был введен около 500 г., во всяком случае, незадолго до введения капитолийского культа, который в нем не фигурирует. Религия, свидетельством которой он является, уже далеко ушла от первоначальной формы. Некоторые боги были забыты, другие были добавлены. Это видно по списку пятнадцати фламинов: каждый из них служил отдельному богу, причем многие боги уже не фигурировали в ежедневных службах. Нам известны только двенадцать из этих пятнадцати фламинов — в той мере, в какой они встречались в текстах и в надписях (двенадцать, а не тринадцать, поскольку Латте из принципиальных соображений с недоверием отнесся к фламину Портуна). Назовем их. Это фламины Юпитера, Марса, Квирина, Вулкана, Карменты, Цереры, Вольтурна, Палатуи, Фуррины, Флоры, Фалацера, Помоны. Первоначально эти фламины не зависели друг от друга, как и их боги. Что же произошло потом? Чтобы не нанести ущерб мысли автора, я приведу его собственные слова:
«О последующей иерархии [фламинов], которая, возможно, была введена во время упорядочивания духовенства, — мы знаем только то, что [фламины] Юпитера, Марса и Квирина возглавляли список, а Помона занимала последнее место (Festus, 144 b). Положение первых объясняется тем, что в историческую эпоху только их имена были больше, чем ярлыком (так, Aug. C. D. 2, 15 упоминает только их), а также тем, что по этой причине только они были включены в коллегиум понтификов. Трех из пятнадцати мы не знаем даже по имени. То, что этот список божеств более древний, чем список для ежедневных служб, вытекает из того факта, что среди его известных членов Фалацер, Помона и Флора были теми, кто не входил в список ежедневных служб. И хотя отсутствие в этом списке Флоры и Помоны можно объяснить тем, что даты их праздников не были постоянными, а назначались в зависимости от цветения и созревания урожая, тем не менее, оставался Фалацер и три неизвестных члена списка. Воспоминание о Фуррине (Furrina; которая, впрочем, имела святилище около Сатрика, Cic. Quint. Fr. 3, 1, 4) практически только потому и сохранилось, что Гай Гракх погиб в ее священной роще (lucus). Уже в античности Вольтурн считался речным богом — по реке, носившей это название и протекавшей в Кампании, но о его празднике мы ничего не знаем, кроме названия Вольтурналии. В то время, когда Великий Понтифик возглавил публичное богослужение в Риме, эти жречества в большинстве случаев были столь незначительными, что их не стали включать в иерархию. Разумеется, никто не возьмет на себя ответственность, исходя из этого списка, нарисовать картину древнейшей общественной религии Рима, как никто не станет утверждать, что не входящие в этот список божества (такие, как, например, Янус, Гений, Теллус, Юнона, Лары, Пенаты) в это время еще принадлежали к личному культу. Однако ясно, что даже то, что засвидетельствовано в ежедневном богослужении, не может рассматриваться как изначальное в Риме, ни, тем более как нечто изначальное италийское».Такая точка зрения на истоки потребовала бы обсуждения множества подробностей, но я хочу сосредоточиться на главном, что можно свести к двум утверждениям: 1) государство, не связанное органично с исконной религией; 2) время и размах революции понтификов. Однако необходимо сделать два предварительных замечания. Мне кажется, что никто никогда не утверждал, будто боги трех главных фламинов и двенадцати младших фламинов исчерпывают древний пантеон. Тип жречества, каким был фламониум (flamonium), по-видимому, не мог подходить любому типу бога. Например, не имеют фламинов группы богов, которых трудно отделить друг от друга — такие, как Лары, Пенаты; бесконечное множество богов, по одному приходящихся на индивида: таких, как, Гений, или таких, действие которых очень конкретно и бесконечно повторяется при одинаковых повторяющихся обстоятельствах, таких как Янус — бог всех начал (deus omnium initiorum) — и, может быть, Юнона (учитывая, что она — богиня всех рождений), либо еще Карна (руководящая приемом пищи); Теллус неотделим от Цереры, которая имеет своего фламина; у Весты еще ее весталки, несовместимые со специальным жрецом-мужчиной. Таким образом, в каждом случае должна была быть причина, определяющая наличие или отсутствие такого духовного лица, но нам она не всегда понятна, так как у нас нет ясного представления о том, чем было звание фламина (flamonium) на первых этапах истории Рима, либо мы недостаточно хорошо знаем само божество. Как известно, позднее были введены отдельные фламины для каждого бога, но им нет места в исследовании о происхождении религии. В источниках также нет ничего, что наводило бы на мысль о существовании какой-либо классификации или единой иерархии, которые охватывали бы всех священнослужителей, а, через них — всех богов. Нам известен порядок пяти верховных жрецов (царь, три главных фламина и великий понтифик: Fest. 299–300 L2); и, с другой стороны, нам известны также разница авторитета, иерархия почтений между пятнадцатью фламина-ми, но лексикограф указывает лишь на крайних членов этой иерархии (фламин Юпитера, — за которым, конечно, следуют фламины Марса и Квирина; 15). По-видимому, Энний (Varro, L. L. 7, 45) следует именно этому порядку, перечисляя шесть последних (Volt., Pal., Furr., Flor., Fal., Pom.). Речь идет о двух независимых классификациях, в которых общей является лишь компактная группа, состоящая из трех старших (maiores). Эти уточнения позволяют лучше описать обе дискуссии. 1. Латте не допускает никакой разнородности между пятнадцатью фламинами, между главными и второстепенными. С другой стороны, он считает, что три главных фламина лишь довольно поздно — вследствие какой-то случайности в истории — были в царские времена поставлены в первые ряды священнослужителей. Однако объяснения, которые он дает этому факту, меняются в ходе изложения в его книге. Если фламины Юпитера, Марса и Квирина были так выделены понтификом, победившим царя[140] несколько позднее 350 г., то это, как говорилось выше, на с. 37, потому, что в то время только у них было больше одного звания (titulare Bedeutung), имевшего значение; на с. 295–296, 403 отмечается, что именно наличием этой значимости у одних и практической незначительностью других объясняются выражения flamines maiores и flamines minores. Впрочем, это разграничение, по мнению Латте, установилось окончательно (endgültig festgelegt) лишь в период августовской реставрации, т. е. три века спустя после предполагаемой победы понтифика и ее последствий — создания коллегии понтифика и порядка жрецов. Но, как говорится на с. 195, удача трех первых фламинов была связана с тем, что во второй половине IV в. город окончательно восторжествовал над деревней и что их боги были единственными интересовавшими общество, которое таким образом пришло в равновесие; начав весьма скромно, Юпитер и Марс уже в течение некоторого времени были главными богами государства, а бесцветный Квирин, только что выдернутый из небытия безвестности благодаря его идентификации с героем-основателем города, только что присоединился к ним на таком уровне. Как мы увидим позднее, если отвлечься от того, что касается Квирина, второе объяснение, конечно, было бы лучше, так как оно признает существование около 350 г. различий между fl amines maiores и flamines minores не только в жизнеспособности, но и в наличии социального фундамента, а также концептуальной значимости. Правда, Латте считает, что и это является следствием исторических случайностей. Фактически оба объяснения наталкиваются на серьезные трудности. Во-первых, в религиозной номенклатуре членение maiores — minores (там, где оно встречается) противопоставляет не только более важного и менее важного; оно сигнализирует о различии по природе или по статусу и указывает на иерархию, основанную на этом различии: магистратуры распределяются не по «важности», а в зависимости от того, имеют ли они право ауспиции maiora (maxima) или minora. Кроме цензуры, это разграничение охватывает разграничение между магистратурами с консулом, претором и без imperium (Gell. 13, 15, приводит договор «Об ауспициях» Мессалы; Fest. 274–275 L2)[141]; более того (Gell., ibid.,), — магистраты minors получали свою должность в результате голосования народного собрания по трибам (comitia tribute), а магистраты maiores — в результате голосования народного собрания по центуриям (comitia centuriata). Разграничение фламинов на старших и младших имеет отличительные черты, которые, наверняка, не относятся ни ко времени реставрации, осуществленной Августом, ни к IV в., и которые дают обоснование в ритуалах. Так, только от старших требуется, чтобы они были по рождению farreati[142] и состояли «в венчанном браке» конфарреации[143] (Gaius 1, 112). И только они — вместе с царем, авгурами и несколькими другими жрецами (понтификами, может быть, салиями)[144] — должны быть посвященными (inaugurati), ибо абсолютно ничто не подтверждает предположение, к которому присоединился Латте (с. 403), что все фламины должны были тоже быть посвященными[145]. Но авгурское право — консервативно, и авгуры во всяком случае остались независимыми от понтификов. Следовательно, совершенно неправдоподобно, чтобы по решению победившего понтифика, приблизительно в 350 г., начали проводить инаугурацию жрецов, которые до этого через нее не проходили, или же наоборот перестали бы проводить церемонию инаугурации жрецов, через которую они проходили прежде. Во-вторых, различия в типе компетенции, которые Латте отмечает на с. 196, — реальны, причем они не случайны, как он думает, а фундаментальны. Те из божеств, которым служат фламины младшие, если мы о них знаем что-то полезное (что исключает Фалацера и Фуррину), оказываются либо связанными с сельской жизнью и земледелием по своим функциям (Церера, Флора, Помона; частично также Волтурн и ветры), либо они связаны с неким типом места (Портун и двери), либо — с какой-то местностью (Палат и Палатинский холм; может быть, Фуррина и Яникул: ср. поздние Forrinae — датив мн. числа νυμφές Φορρίνες на этом холме). Наконец, если Carmentis сложнее, то его имя сводит совокупность его функций к мощному, но простому понятию carmen[146]. Однако, Юпитер, Марс, Квирин — это совсем другое дело: Юпитер с самого начала, судя по его фламину, — бог не только небесный, но еще и царственный, — «руководитель», как его называют другие италийские народы, а также гарант отношений между людьми. Марс стоит во главе целого мира: он ведает войной и людьми, когда они являются воинами, в период между месяцем, названным в его честь, и октябрем. Квирин, какой бы ни была его сфера влияния, которую мы исследуем позднее, носит, по крайней мере, имя, родственное Quirites и производное от *co-uirio- или *co-uiria-, что означает скопление людей. Следовательно, общим между этими тремя богами является социальный интерес: люди — подданные или воины, либо толпа как организованная группа. Но прежде всего, то, что мы заметили в отношении индоевропейского наследия в Риме и уровня этого наследия, не позволяет считать, что в центре пантеона и культа не было симметрии, членений, классификации: так же как нельзя полагать, что божества — индоиранские, германские, кельтские, а также божества Рима в его начальный период — жили в беспорядочной независимости. В частности, наверняка существовавшие отношения между священным царем и фламином Юпитера не могли быть созданы более или менее поздним решением понтифика: какой смысл — в историческом романе, героем которого его делают — имело бы для понтифика оказание священной поддержки сопернику, который препятствовал его стремлениям? Непонятно также, как в эпоху республики между этими двумя священнослужителями, которые были настоящими ископаемыми, закосневшими в своей причудливости, могла бы установиться какая-то новая связь. Следовательно, те отношения, которые мы констатируем, существовали ранее и относились к тем временам, когда rex был действительно политическими вождем, и это отсылает нас к моменту возникновения главенства фламина Юпитера — священного союзника царя — над всеми остальными: порядок (ordo) сохранил это для него, а не даровал. Точно так же, как бы мы ни понимали Марса и Квирина, фактом является то, что во все времена, когда религию можно заметить, и во всех формах, которые принимала концепция Квирина (каким бы ни было представление о Квирине), оба эти бога были тесно связаны. Даже если называть Квирина «Сабинским Марсом» и видеть в нем воинственного бога Квиринала, двойника воинственного бога Палатина, или же, если, напротив, переносить на них сочетание milites-Quirites (воины-квириты) и даже bellum-pax (война-мир), подсказываемое некоторыми текстами, — все равно остается фактом, что они оба и только они обладают оружием, дающим повод для ритуалов; и фактом является то, что только с этими двумя богами связаны совершенно одинаковые, насколько известно, коллегии салиев (Salii); наконец, фактом является то, что легенда, которая объявляет Ромула сыном Марса, представляет его также в виде бога Квирина. Мы постараемся ниже привести в порядок эти представления, но одно лишь постоянство особых отношений между этими двумя богами, указание на которое неизменно сохраняется, несмотря на многочисленные вариации изложения в источниках, в достаточной мере доказывает, что эта связь заложена в их природе: и это не историческая случайность, что фламин Квирина следует за фламином Марса, и оба они — за фламином Юпитера, что ими исчерпывается список старших фламинов. 2. Маловероятной делает предполагаемую Латте «революцию понтификов» не только полное молчание историков, которые не упоминают о столь важном событии во времена, когда история начала свое существование. Как представить себе функционирование религии в период между 500-м и 300-м годами во время долгой конкуренции между царем и понтификом, о которой говорит Латте? Я не знаю, как он себе представляет конец царских времен. Что касается меня, то я не думаю, что после устранения последнего этрусского царя Рима, каким бы образом оно ни произошло, было восстановлено латинское царство в Риме, чтобы вскоре исчезнуть в свою очередь. Видимо, уход этрусков стал, как на это указывают летописи, концом царствования, и реорганизация общественной власти, распределение наследия царя, по-видимому, были осуществлены в этот момент[147]. В чем заключалось это наследие? В политических функциях и в функциях религиозных. В политических функциях царя, возможно, сначала заменил iudex (судья) или претор — сначала пожизненно, а затем на определенный срок: во всяком случае, некий вариант патрицианского главы, что привело более или менее быстро к верховным магистратам республиканского государства — ежегодно сменяющимся консулам. Религиозные функции передать было труднее, поскольку это непосредственно затрагивало богов. Самое щекотливое заключалось в том, что эти функции предполагали священные церемонии. Одни действия: жертвоприношения, церемонии, объявление праздников текущего месяца — были как бы обрядовой рутиной, рутинными ритуалами, совершение которых было необходимым и самодостаточным; другие же, а именно ауспиции, вели к политической деятельности и к управлению. Было еще одно расчленение, плохо поддающееся определению: мистическое, но обязательное, когда rex был вместе с двумя августейшими священнослужителями, фламином Юпитера, а также с невинными девами-весталками. Наконец, существовало еще государственное руководство религиозной жизнью — от общего надзора и дисциплины культа до нейтрализации знамений и умиротворения разгневанных богов. В этих последних функциях царь сотрудничал — и его участие было больше «процедурным», чем мистическим — со священнослужителем-понтификом, или позднее великим понтификом, который был одновременно советником и помощником. Происхождение этого сана неясно, но такой служитель бога — в отличие от того, что требовалось от фламина Юпитера, — по-видимому, всегда имел свободу, инициативу, возможность передвижения. Эти типы священства уравновешивали друг друга в священном окружении царя. После последнего правящего царя (а такой наверняка был) эта обширная религиозная сфера могла быть только распределена: если всё в широком масштабе передать iudex, то это превратило бы его в rex под другим именем, что аннулировало бы реформу. Часть, которая меньше всего поддавалась отделению от политики, — ауспиции — перешла главным образом к магистрату. Дотошный консерватизм, который всегда был присущ религиозным обрядам в Риме (способствуя, скорее, тому, чтобы к ним что-то добавилось, но отнюдь не позволяя что-то изъять), привел к тому, что царь был сохранен, но его деятельность ограничивалась жертвоприношениями (sacra), и это отражено в его титуле. Таким образом, царь получил статус жреца, но самого главного, первостепенного в государстве, поскольку слово «sacra» имело смысл только на этой позиции, для этой позиции. А также царь сохранил (поскольку изменить это было невозможно) то, что было связано с ритуалами, в его отношениях с фламином Юпитера и с весталками: царь и царица, фламин и фламиния по-прежнему действовали вместе («от царя и фламина шерсть получает»[148]; Ov. F. 2, 21): вместе совершали жертвоприношения (ритуалы Регии), вместе раздавали знаки отличия и привилегии. Весталки продолжали раз в году (это единственный известный нам фрагмент более сложных отношений) подходить к царю со словами: «Не бодрствуешь, царь? Бодрствуй!» Оставалась активная часть религиозного статуса бывшего царя. Перешла ли она сначала к судье, которому понтифик, возможно, продолжал давать советы и помогать, а затем вернулась к этому понтифику только тогда, когда высшая магистратура сократилась до одного года, что несовместимо с обретением и использованием того, что уже стало трудной наукой? Или же понтифик был первым лицом, которому все досталось? Фактом остается то, что в ходе всей истории именно он, со своими коллегами или без них, сам не только дает советы и оказывает помощь Сенату и магистратам в делах религии и в культовых актах, но присутствует при избрании служителей (comita calata), а позднее руководит выборами жрецов (comices sacerdotaux), возглавляет бракосочетание (confarreatio), составляет календарь, назначает, а также в разных формах контролирует весталок и священнослужителей высшего ранга. Его компетенция, и даже его могущество, возрастет настолько, что Юлий Цезарь будет стремиться и сомнительным путем сумеет получить сан верховного понтифика, который Императоры, в конце концов, конфискуют в свою пользу. Такая точка зрения имеет несколько преимуществ: она логична, она связно объясняет факты, не оставляя ни затруднений, ни неясностей; она не заставляет воображать долгую борьбу и ожесточенную конкуренцию, которые якобы не оставили никаких следов в письменных источниках; наконец, — но это наименее важно, — она согласуется с летописной традицией, т. е., по-видимому, с позицией самих понтификов в этом вопросе. Значение этой реставрации очень велико. То, что Латте представляет как последствия своей версии «революции понтификов» — формализм, казуистика, развитие формул и вообще становление религии как науки, а также выработка кропотливых приемов, множество предсказаний и умилостивительных жертв (piacula), и т. д. — всё это не является чем-то новым, возникшим в конце IV в.: это характерные черты римской религии, присущие ей, по-видимому, с самого начала, даже если они впоследствии наверняка приняли более резкий характер и ужесточились. Я не думаю, что когда-либо первый из фламинов провел свою жизнь на открытом воздухе в священной роще (lucus) Юпитера, но я полагаю, что он жил в своей хижине на Палатинском холме, выполняя разнообразные обязанности, благодаря чему позднее он стал столь странной разновидностью святого человека, причем эти обязательства имели очень древнюю предысторию.
XII. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РИМСКОЙ РЕЛИГИИ
Латте совершенно прав, когда — в полном согласии с общепринятым мнением — говорит, что календарь праздников не отражает самую древнюю религию и даже не подытоживает культы и богов, которые были распространены в те времена, когда он был составлен. Изучение этого календаря стало, начиная с Моммзена, почти отдельным предметом исследования, однако оно не имеет решающего значения. Дар этрусков, которые в этом, как и во многом другом, были миссионерами для греков, календарь — это рамка, наложенная постфактум на религию, уже в значительной мере сформированную. Время введения календаря точно не известно. Так как в нем не упоминается капитолийский культ, многие полагают, что он относится к несколько более раннему времени. Это возможно. И даже естественно думать, что поскольку этрусская наука является его непосредственным источником, то он был занесен во время этрусского периода истории Рима. Но аргумент, основанный на отсутствии капитолийского культа, не играет решающей роли. «Привычка помечать освящение храмов, — справедливо указывает Jaen Bayet, — могла появиться довольно поздно, а политические вехи не должны были обязательно вписываться в список религиозных праздников»[149]. Могли быть и другие причины, которые от нас ускользнули: Юпитер не занимает в повседневных богослужениях то место, которое ожидалось бы в соответствии с его выдающимся положением в религии. Иды (в частности, сентябрьские иды), рождение капитолийского храма, к которым позднее будет приурочена торжественная трапеза в честь Юпитера — epulum Jovis, — а также многие другие праздники находятся под покровительством Юпитера (Regifugium: праздник изгнания царей 24-го февраля, — и Poplifugia: праздник, справлявшийся в июльские ноны в память спасения римлян от латинян, 5-го июля, — которые, по-видимому, сформировали политическую структуру религии; три праздника вина — 23 апреля, 19 августа и 11 октября; Терминалии — праздник межевых столбов 23 февраля). Все они объясняются аспектами теологии бога, и нет никаких оснований для того чтобы считать их чем-то второстепенным. Однако ни один из этих ритуалов, кроме самого скромного — ovis Ид как «вершина» месяца — не обращен к центру этой теологии. Юпитер, rex et summus, получает менее эффектное богослужение, чем Марс. Но введической Индии также разве не больше развит культ воинственного Индры (по распространенности, если не в глубину), чем культ Варуны и Митры — верховных владык? Почти все культы имеют фиксированное время в году, так что год усеян праздниками. Такая практика, которая продолжает существовать на современном западе, по-видимому, укоренилась раньше, чем был введен этрусско-греческий календарь, который, видимо, лишь закрепил ее. Хотя она кажется обычной тому, кто в первую очередь знаком с другой классической цивилизацией — греческой, она, тем не менее, самобытна, если ее сравнить с практикой индийцев, германцев, ирландцев, о которой известно с древнейших времен. Так, в Ирландии священная и даже мифическая деятельность сконцентрирована на четырех больших сезонных отрезках времени, и особенно на трех из них, переполненных обрядами, сопровождаемыми пояснительными рассказами. В ведической Индии самые важные церемонии также весьма сложны: это «комплексы», в которых, как кажется, нагромождены ритуалы разного происхождения. Но здесь (впрочем, за исключением праздников, связанных с определенным временем года, и праздников, посвященных Луне) ни рамки года, ни какие-нибудь другие периодические рамки не являются главными. В частности, здесь речь идет о царских ритуалах, которые распределены по ходу жизненного поприща царя. Они, в первую очередь, сосредоточены на моменте его посвящения, затем — на различных моментах, когда он хочет подтверждения своей власти или повышения ее общественной роли, усиления власти или большего почета в своем царстве, либо по отношению к другим царям. Некоторые времена года лучше, чем другие подходят для празднования или, по крайней мере, для начала «сессий», которые иногда растягиваются на недели, месяцы, годы. Но эти уточнения имеют второстепенное значение: обряды совершаются от случая к случаю, они не закреплены за каким-то определенным временем. Так как сравнение нескольких ритуальных праздников в Риме и в Индии очень многое проясняет (например, Октябрьский конь и aśvamedha, фордицидии и aṣṭāpadī, своветаврилии и sautrāmaṇī, и т. д.), то необходимо, прежде, чем к нему приступить, проникнуться этими различиями: нередко тому, что является ритуальной единицей, автономной церемонией в римских повседневных богослужениях, в ведических трактатах будет соответствовать что-то, что уже стало не более, чем эпизодом в обширном комплексе. С другой стороны, роль и преимущества rex в ритуальных действиях (по крайней мере, насколько мы их знаем) гораздо скромнее, чем у rā ́jan. Так, например, совершенно обычным явлением будет необходимость сравнивать римский сельский праздник с фрагментом — сельским — индийской церемонии посвящения в царский сан. Такая же раздробленность характеризует места богослужения, и здесь тоже нечто, что эллинисту покажется недостойным даже замечания, очень отличается от того, в какой обстановке проводится религиозное действо в ведических сообществах. Прежде чем, по примеру этрусков, а затем греков, украситься постоянными храмами, каждый из которых посвящен одному отдельному божеству, территория Рима была усеяна sacella — простейшими святилищами[150], рощами или священными пространствами; и, насколько можно углубиться в историю, культ всегда был локализован: невозможно представить себе бога, который не имел бы своего «места». В ведической Индии, напротив, в память о кочевых временах, культ не связывается с постоянными святилищами. Для любой церемонии выбирается место, подготавливается в соответствии с ритуалом, согласно правилам (которые, как мы увидим далее, находят значительные аналогии в Риме), но это оформление — временное и недифференцированное. То же самое следует отметить и в отношении служителей культа. Специализирован не только понтифик, но также различные фламины, закрепленные — каждый — за тем служением, для которого его предназначили, навсегда сохраняя отличия друг от друга, а также и авгуры, и салии, и арвалы, и луперки, все сообщества и все коллегии. В Риме было очень много жрецов, и каждая из основных групп была способна верно передавать из поколения в поколение приемы и знания, которые оправдывали их существование, однако нет и намека на общую готовность, которая создавала единство и силу у кельтов, на кооптационный (cooptatif) порядок у друидов, на эндогамию у индийских брахманов: один образованный ведический жрец был способен выполнять любую роль в любой группе, занимающейся жертвоприношениями, причем различия касались этих ролей, а не людей. Это единое, в сущности, понимание времени, места, святых людей, которое предстоит рассмотреть более детально, свидетельствует о том, что латинское общество, обосновавшееся вблизи от Тибра, в гораздо большей мере, чем ведические и кельтские сообщества, было отдалено (как реально, так и идеологически) от периода странствий, через который прошли их предки. Прежде чем сформировались легенды и домыслы о вечности Рима, о гарантиях, которые ему дали боги в отношении его постоянного местонахождения, прежде, например, чем упрямого Термина не эксавгурировали (exaugurer)[151], чтобы освободить место для Юпитера на Капитолии, римляне были больше привязаны к своей земле, чем любой народ из других индоевропейских провинций, которые были едины с римлянами во многих религиозных представлениях и обрядах. Поэтому нелишним будет — до начала этого рассмотрения — напомнить о нескольких других расхождениях в «идеологическом поле», являющихся результатом «укоренения», ранней и глубокой привязанности к своей земле, которые отличают Рим от Индии: их нельзя терять из виду, сравнивая в этих двух традициях факты гомологичные, но не одинаковые[152]. Римляне мыслят исторически, тогда как индийцы мыслят легендами. Любой рассказ, в любой стране, затрагивает отрезок прошлого, но чтобы вызвать интерес у римлян, надо говорить об относительно недавнем прошлом. Надо, чтобы его можно было отнести к определенному времени и определенному месту, а также необходимо, чтобы речь шла о людях, а не о каких-то воображаемых существах. Нужно, чтобы повествование как можно меньше говорило о силах и мотивах, чуждых повседневной жизни. Индийцы же, напротив, любят дали, очень долгие сроки и огромные расстояния. Они также любят неточность, преувеличения, громадность и обожают чудеса. Римляне мыслят в масштабах своего народа, а индийцы мыслят космически. Первые интересуются рассказом, только если он хоть как-то связан с Римом, если он подается как «римская история», если он обосновывает какую-нибудь особенность устройства города, какое-либо положительное или отрицательное правило жизни, какое-нибудь римское представление или предрассудок. Вторые, напротив, — по крайней мере, те индийцы, которые записывают и развивают мифы, — не интересуются эфемерной родиной. Их волнует возникновение, превратности судьбы и ритм великого Целого, их занимает Вселенная, а не человечество. Римляне мыслят практически, а индийцы — философски. Римляне не занимаются домыслами и спекуляциями. Если они в состоянии действовать, если им ясен объект и средства действия, они удовлетворены и не стремятся понять и вообразить что-то большее. Индийцы же живут в мире мыслей, пребывают в состоянии созерцания, они сознают неполноценность и опасность действий, влечений и самого существования. Римляне мыслят относительно, эмпирически, а индийцы мыслят абсолютно, догматически. Одни всегда чутко следят за развитием жизни, по-видимому, чтобы его затормозить, но также и для того, чтобы его узаконить и придать ему приемлемую форму; эдикт претора, голосование на собраниях, изощренные или бурные споры магистратов всегда обеспечивают надлежащее равновесие между бытием и становлением, между традицией и требованиями настоящего. Индия видит только неизменное, для нее изменение есть, в зависимости от предмета, иллюзия, несовершенство, святотатство. Следовательно, правила, регулирующие отношения между людьми, изменить невозможно, точно так же как неизменна любая организация общества, как неизменна любая законная организация, любая дхарма. Римляне мыслят политически, а индийцы мыслят морально. Так как наивысшей реальностью, доступной органам чувств, является Рим, поскольку жизнь Рима — это постоянно возникающая проблема, а сама религия — всего лишь часть общественного управления, то все размышления римлян, все их усилия направлены на res publica, и все обязанности, все правила, а, следовательно, все рассказы, составляющие сокровище римской мудрости, имеют острие, направленное в сторону политики, институций, процедур, казуистики консула или цензора, либо трибуна. С точки зрения индийцев, от самого высокопоставленного до самого скромного, всякий человек прежде всего имеет дело с богами, либо с великими понятиями, равноценными богам. Так как социальный порядок — не абсолютен или, вернее, получает свою абсолютную ценность только от соответствия самым общим законам мира, то всё, что его касается, — это всего лишь вторичное знание, извлеченное из высших истин, а отнюдь не искусство, непосредственно стимулируемое изучением его материи. Наконец, римляне мыслят юридически, а индийцы мыслят мистически. Первые очень рано выделили понятие личности, и именно в связи с ней, исходя из самостоятельности, стабильности и достоинства личностей, они построили свой идеал отношений между людьми — ius, — а боги участвовали лишь как свидетели и гаранты. Индия, напротив, гораздо более убеждена в том, что индивиды — это всего лишь обманчивая видимость, а существует только глубокое Единое; что поэтому, следовательно, истинные отношения между существами, человеческими и другими, — это, скорее, отношения причастности, взаимопроникновения, чем отношения противостояния и переговоров; что в любом деле, даже в самом временном, главным партнером является великое невидимое, в котором, по правде говоря, сходятся и растворяются видимые партнеры. Эти свойства воображения и ума римлян оказали большое влияние на религию. Многие из последствий этого мы уже встречали. А теперь изложим в самых общих чертах главные из оставшихся.XIII. РАВНОВЕСИЕ В РИМСКОЙ РЕЛИГИИ
Совокупность культовых отношений между людьми и богами разделяется на две части: приношения людей богам и предупреждения, которые боги посылают людям. Соотношение этих разделов — важный аспект любой религии. Богопочитание римлян отличается большой скрупулезностью в отношении sacra (священного), однако их внимание к signa (знакам) столь велико, что последние становятся направляющим смыслом их поведения. Будучи эмпириком, римлянин всегда стремится обнаружить знаки, позволяющие ему понять волю или чувства богов: прежде, чем действовать, или во время действий, он обращает внимание на являющиеся знаки, и даже добивается их. Правильное истолкование знаков — великая забота римлян. Поэтому столь важную роль в общественной и частной жизни играют ауспиции и искусство авгуров, а также знамения (omina) и чудеса с их умилостивительными жертвами (procuratio). О многом говорит и значение, которое получили в Риме слова, производные от субстантивной основы *auges-. В индоиранских языках имеется слово, не окрашенное религиозно, употребляемое в значении «материальная, физическая сила». Интересен оттенок его семантики: в отличие от других квазисинонимов, ведическое ójas означает именно «максимум силы», причем имеется в виду такая концентрация силы, которая ставит ее на грань осуществления в действии. Этимология здесь ясна: образованное от корня *aug-, имеющего значение «увеличивать», это производное с окончанием — s, выражает, как это часто бывает, накопленный результат действия, но главное здесь — не увеличение силы, а полнота. Аналогично этому лат. genus, греч. γένος означает не «порождение», а «род, племя»; греческое χλέος, ведическое śrávaḥ обозначают не «слушание», а «славу», и т. д. В римском лексиконе это слово принадлежало религиозной сфере идеологии, но в этой сфере augustus имеет значение, близкое к индийскому: как augusta характеризуется персона (лицо) или вещь, которым присущи полнота, максимальная нагрузка, сила, — но не материальная, а мистическая. Следовательно, по-видимому, от авгура ожидалось, чтобы его действия имели целью и результатом придание людям или вещам этой полноты. Может быть, некоторые древние auguria сохраняют это активное значение, но это, во всяком случае, пережитки прошлого. В основном деятельность авгура направлена не на совершение действий, не на придание полноты мистической силе, необходимой для успеха какого-то действия, а на то, чтобы констатировать ее наличие или отсутствие, либо, в лучшем случае, промежуточную позицию, на которую, как кажется, указывают некоторые факты, например, обращение к богам с просьбой, чтобы они соблаговолили вложить силу в вещи таким образом, чтобы ее можно было бы там обнаружить. Следовательно, искусство авгура заключается в советах, а не в действиях. Лексика отражает здесь резкий переход от сферы действий к сфере принятия, получения. Но знаки — везде. В исторические времена одной из главнейших обязанностей консула, вступающего в должность, был доклад Сенату de religione, т. е. в первую очередь о знамениях, о которых ему сообщили и по поводу которых он должен будет навести справки в Сивиллиных книгах — еще один продукт этой постоянной потребности в информации. Сам он не поедет в свою провинцию, пока не получит предзнаменования о цитадели. Затем он будет узнавать о воле богов по полету небесных птиц, по запертым в клетку цыплятам, по внутренностям жертв. Здесь не место для описания громадной информационной машины, созданной в Риме по отношению к невидимому. Однако необходимо сразу же отметить в связи с этим другую важную особенность этой религии. Римлянин — не только эмпирик; он, кроме того, рассудителен. При этом его стремление узнать волю и чувства богов близко к навязчивой идее. Легковерие в обществе и в критические времена, и в спокойные периоды, не только увеличивает число знамений в опасной степени, но тревожное ожидание плохих знамений (auspicia oblativa), готовность везде усматривать знаки — напоминают известные нарушения психики. Относится ли к сфере психиатрии религиозная жизнь частных лиц и государства? Вопрос отнюдь не праздный. Так, если судить по эпопее, то в Ирландии в дохристианские времена религиозная жизнь была дезорганизована другим понятием — не знаками, а запретами. Всякий человек — любой индивид, любой царь, любой воин — с самого рождения был опутан запретами и затем, в течение всей жизни, становился жертвой жребия, насылаемого на него могущественными людьми: сеть его гейсов[153] парализовала его. Чтобы победить доблестного, мужественного человека, надо было зажать его, как в клещи, между двумя запретами, несовместимыми друг с другом. Так, один из распространенных запретов заключался в следующем: если имя человека включало название собаки, он не должен был есть мясо собаки, но он также не имел права, будучи в пути, отказаться от предлагаемой ему пищи. Чтобы вызвать у него чувство голода, достаточно было колдуньям встретить его на дороге, и, сварив в котле собаку, предложить ему отведать этого мяса. И он решится поесть, рискуя погибнуть в сражении, которое ему предстоит. Если бы он не поел этого мяса, то другой гейс, в случае его нарушения, столь же неизбежно погубил бы его. У римлян знаки не достигли такой абсолютной власти. Их защищал здравый смысл, благодаря которому они находили выход из положения: казуистика давала им лазейки против опастностей. Встретился знак? Тогда тот, кто его заметил, обладая достаточным присутствием духа и достаточной изворотливостью, истолкует его как благоприятный знак, даже вопреки очевидности. Считается, что тот смысл, который он ему приписал, получает преимущество. Римлянин может просто отвергнуть этот знак (omen improbare, refutare). Либо он может отстранить его с помощью священной формулировки (abominari, omen exsecrari). Или же мистически перенести его на кого-то другого, как отбрасывают обратно на врага его метательное оружие. Наконец, римлянин может из нескольких представившихся ему знаков выбрать такой, какой ему подходит в его деле. Сколько всего услышал Луций Эмилий Павел Македонский, уходя из дома, чтобы возглавить армию и воевать против царя Македонии Персея! А он запомнил только одно: его внучка заплакала и сказала ему, что умерла ее собака, которую звали Persa (Cic. Diu. 1, 103). Против auspicia oblativa, нежелательных предзнаменований, которые в любой момент могут помешать уже начатым действиям, существует множество способов, позволяющих защититься. Во-первых, можно устроиться так, чтобы этих знаков не видеть: например, Марк Клавдий Марцелл, консул, передвигался на закрытых носилках. Можно также отвергнуть плохие знамения, как отвергались знаки (refutare, repudiare). Можно прибегнуть к более тонкому способу — сказать, что ничего не заметил (non observare). Этого достаточно, чтобы их обезвредить, сделать столь же безобидными, как метательный снаряд, отскочивший, не попав в цель. Какими бы наивными нам ни казались многочисленные знамения, занесенные в ежегодные списки, подобные списку Юлия Обсеквента, не следует забывать, что эти списки, по-видимому, подвергались «чистке» службами консулов, которые сообщали о них Сенату, и уже Сенат принимал решение, какие из них следовало принимать во внимание (suscipere): в противном случае магистратам и священнослужителям и целого года не хватило бы для того, чтобы обработать все продукты делирия. Шла ли речь о повеливающих знаках — imperativa, и о признательных консультантах? Они были во всеоружии — знали множество способов выйти из затруднений. Жан Байе прекрасно описывает это[154]:«Сами эти специалисты, верные склонностям латинского ума, становились все бóльшими знатоками знаков, действию которых они, как предполагалось, должны были подвергнуться. Предсказатель еще больше развивает традиционные вольности: своей изогнутой палкой (lituus) он очерчивает границы места для ауспиций, где будут иметь силу его пророчества, действием и словами указывая направление; он выбирает птиц, за полетом которых намерен наблюдать, и размещает их по две справа и слева; он всегда может игнорировать какой-нибудь знак, произнеся слова non consulto («не спрашиваю»); он даже может произнести название и, следовательно, вызвать существование невидимой вещи. Выбор момента (tempetas), разъединение процесса наблюдения и renuntiatio (формулирования), констатация «ошибок» (vitia) и возобновление на новой основе ошибочных ауспиций — все это увеличивает долю произвольного. Для случайности не остается почти никаких шансов в pullaria auguria (гадании по тому, как клюют цыплята): запертые в клетках священные птицы благодаря своему аппетиту не преминут дать авгуру те указания, которых он хочет».Эти ограничения, эти подделки, а также многие другие такого же рода факты, вызывают вопрос: в какой мере римлянин — светский человек или священнослужитель, — поступавший таким образом, был искренним? Отрицать то, что видел, декларировать то, чего не видел, всерьез признавать в качестве божественного знака то, что заранее подстроили, — разве все это не разрушительно для чувства священного, для страха и благоговения? Может ли человек так раздробляться, создавать внутри себя такие разграничения, чтобы, веря в богов, в то же время самому совершать те действия, которые он им приписывает? В период конца Республики существовало достаточно много примеров политически мотивированных злоупотреблений возможностями авгуров. Однако мы говорим не о чрезвычайных случаях, но о повседневной практике, о самóм принципе такого выставления напоказ. Конечно, невозможно с уверенностью ответить на этот вопрос, но мне кажется, что все это нанесло ущерб gravitas (строгости), с которой римлянин относился к религии. В области юриспруденции, в которой римлянин достиг великого мастерства, разве он не сохраняет глубокое и чистое представление о справедливости в то же самое время, когда, используя в максимальной степени возможности судебной процедуры, он добивается выгодного для себя решения в сомнительных случаях? В нем уживаются и ловкость, и искренность. С другой стороны, сталкиваясь с верованиями, наверняка весьма давними и, по-видимому, всеобщими, судебная практика показала римлянину могущество слова, доказала его силу не только в определениях и утверждениях, но и в творчестве: три знаменитых глагола, которые произносит судья, — do, dico, addico[155], — поистине создают ситуацию: они закрывают дебаты, узаконивают чьи-то требования. К тому же, судья может отказаться произнести эти слова. Выше я напоминал о той роли, какую играют предосторожность и предусмотрительность в юридической практике, а также о том, как это повлияло на подход римлян к божественному. Обратное явление: то ощущение власти (часто безоговорочной), которое дают завещателю, продавцу, человеку, отпускающему на волю раба, либо тому, кто вступает в брак, высказанные решающие слова, — также в какой-то мере воздействовало на другое право, на ситуацию, в которой партнер остается невидимым. Почему бы и здесь утверждение заинтересованного человека не могло создать законную ситуацию? Сама ложь допускается и даже требуется в некоторых ситуациях, касающихся прав человека: разве движущей силой в одном из древнейших способов передачи собственности — in iure cessio — не является притворное безразличие, молчание отчуждающего, когда перед магистратом получатель лживо требует имущество как принадлежащее ему? Когда молодой Клодий, влюбленный в Помпею, супругу Цезаря, был застигнут переодетым в женскую одежду в доме последнего во время женских праздников Благой Богини (Bona Dea), один из трибунов отдал его под суд как святотатца. Цезарь отверг Помпею, однако, когда он должен был выступить в суде против Клодия, то заявил, что ничего не знает, что ему неизвестны факты, выдвинутые в качестве обвинения. Тогда обвинитель спросил его, почему он отверг свою жену. На это Цезарь ответил: «Дело в том, что мою жену нельзя даже подозревать в чем-либо». В результате этого невероятного, но бесспорного свидетельства Клодий был объявлен невиновным (Plut. Caes. 10, 4). Сказать, что не заметил плохого знамения — не великая ложь, и это высказывание юридически аннулулирует факт. Эту смесь веры и хитрости следует признать искренней, не вызывающей каких-либо затруднений в сознании заинтересованных лиц, хотя в течение многих веков, разделяющих нас и Марцелла, было высказано немало критических и скептических мнений. Надо попытаться понять, что в сознании римлянина существовало равновесие между его верой в достоверность знаков и ухищрениями, уловками, к которым он прибегает, чтобы их не видеть. Эти соображения следует распространить на всю религию в целом, выйдя далеко за пределы теологии знаков. По всей вероятности выдуманная, но лестная история проясняет это состояние духа в другой сфере — ius fetiale — посольского, международного права. Так, после позорной капитуляции при битве в Клавдинском ущелье, один из побежденных консулов, Спурий Постумий Альбин, вернувшись в Рим, сам посоветовал Сенату торжественно послать его обратно к самнитам вместе с другими виновниками капитуляции за то, что они высказывались от имени римского народа, не имея на это права. Тогда фециалы снова привели их в лагерь самнитов. И в то время как неприкосновенный священнослужитель их им передавал, «Постумий сильно ударил фециала коленом в бедро, сказав громко, что сам он по национальности самнит, а фециал — посол; что он нарушил ius gentium[156] в отношении фециала; что, следовательно, и римляне будут отныне вести более законную войну, iustius bellum» (Liv., 9, 10, 10). Вождь самнитов стал возражать, воззвав к богам, но боги, по-видимому, сочли удар справедливым, поскольку вскоре самниты, в итоге, попали под власть Рима. Мы, в наше время, склонны сказать по этому поводу: кого обманывают? Кого надеются обмануть? Но так говорить нельзя, это неверно. Дело в том, что римлянин не обманывает богов. Он обращается с ними — как с юристами, которые в той же мере, что и он, убеждены в совершенстве формальной стороны дела; он приписывает им пристрастие к искусному использованию технических приемов: вспомним в связи с этим, как Юпитер «патентует» хитроумие Нумы, говоря: «о смертный, достойный беседы со мной». Такая непринужденность в общении с вышестоящими коллегами, такое «сообщничество» отнюдь не исключают веры, а, напротив, предполагают ее. Даже о временах увлечения всем греческим, когда философы и критики религии насторожили римлян, не следует высказываться безапелляционно, не учитывая оттенков, и говорить о свободомыслии, об атеизме. Конечно, религия в тот период обесценивается, приходит в упадок, «портится», как вообще все, но она продолжает существовать в умах даже самых смелых вольнодумцев в виде осознанного признания того, что чудесная судьба города оправдывает хотя бы обычаи, а, следовательно, обосновывает и существование богов в той мере, в какой эти обычаи требуют присутствия богов. Даже сегодня между верой угольщика и прагматизмом имеется множество промежуточных позиций, плохо совместимых с логикой, но вполне способных ужиться с чувствами верующих. И мы наблюдаем, как верующие великих религий, в процессе жизненных испытаний переживая долгие периоды безразличия или отрицания, переходят от одной точки опоры к другой. В Риме ситуация, по-видимому, была не проще. Хотя Энний был популяризатором Эвгемера, он, вероятно, отнюдь не был атеистом; и жертвоприношения, которые приносил бессмертным богам Юлий Цезарь, также не были во всех случаях политическим спектаклем. В других сферах, уже не в знаках, римская религия характеризуется такой же уравновешенностью, таким же смягчением одной склонности с помощью другой — противоположной. Во-первых, в сфере культа. Слишком часто повторяли, что в Риме культ — это коммерция. Это так, но за исключением мистических форм культа. Разве это не присуще всем религиям? Так, do ut des почти слово в слово читается в литургических книгах индийцев и вполне различимо в большинстве ведических гимнов, где, если отбросить приемы риторики и красóты поэзии, останется только элементарное рассуждение: «Я тебя восхваляю, а ты мне помоги», или: «Я несу тебе жертвоприношения, а ты одари меня (в ответ на это)». Несомненно, точно такое же рассуждение обосновывает надлежащее протекание sacra (священных обрядов), а также служит опорой для vota (жертвоприношений), с дополнительным оттенком условия и оплаты в некий срок: «Если ты мне дашь, я принесу тебе дары», причем тщательно уточняется, что именно будет включено в эти приношения. С другой стороны, procuratio prodigiorum[157]имеет еще один аспект: шантаж со стороны богов. Боги угрожают, но, как правило, остается непонятным — почему. Ищут сведений в Книгах, чтобы узнать, чего требуют боги, и человек платит. Но религия к этому не сводится, она не ограничивается тем, что происходит на алтаре. Существует общее и постоянное уважительное отношение, проявляется почтение. Имена богов произносятся серьезно. В самые древние времена существовала характеристика pater, mater, касавшаяся главных богов. Удачным побочным результатом развенчания мифов — вплоть до того момента, когда влияние Греции усложнило и испортило дело, — была чистота, было достоинство почти абстрактного представления о них (о pater и mater). Наконец, было еще понимание их величия (maiestas) и их главенствующей позиции в иерархии существ, в результате чего наилучшим видом соглашения с ними является позиция верного клиента, бесконечно и безоглядно преданного своему могущественному патрону (Horr. Carm. 3, 6, 5–6):
XIV. ЛЕКСИКА СВЯЩЕННОГО
Тридцать лет назад, в своей знаменитой книге «Das Heilige im Germanischen» господин Walter Baetke проследил на фоне развития германских языков судьбу слов, образованных от двух корней, которые обозначают два не противоположных, а комплементарных аспекта понятия в немецком: weihen (освящать, посвящать, приносить в жертву) и heilig (святой, священный). С одной стороны, существует священный аспект разграничения: в древнескандинавском языке как vé характеризуется то, что отрезано от обычного, обыденного, и принадлежит богу. С другой стороны, существует позитивное священное качество — неопределенное, необъяснимое, однако, очевидное в своих проявлениях качество, отличающее некоторых существ и некоторые вещи от обычного, обыденного. По отношению к первому человек ведет себя сдержанно, боязливо. Именно такого отношения требуют боги в этом аспекте. В данном случае набожность, почитание, проявляется главным образом в запретах: не прикасаться, не входить, либо делать это только в особых случаях и с особой предосторожностью. По отношению ко второму — отношение более нюансированное: почтение, прежде всего, проникнуто восхищением и не исключает доверия и даже некоторой непринужденности. В этом аспекте боги сами активны и доступны, проявляют и передают свою силу. Здесь почитание выражается в молитве, приношениях, практически оно проявляется во всем культе. Этот анализ, резюмированный здесь в общих чертах, выходит далеко за пределы материала германских языков, лежащего в его основе. В Риме также существуют слова для выражения этих двух аспектов: sacer, augustus. Но в том состоянии религии, которое мы можем наблюдать, эти два слова уже не уравновешивают друг друга. Я только что напомнил о том, что augustus относится к лицу (человеку) или предмету (вещи), наделенным «полновесной мистической силой», максимально наполненным мистической силой, что обозначало первоначально auges-. Однако рано оказавшись отделенным от названия авгуров и от их искусства эволюцией этих последних в сторону консультативной деятельности, это слово уже не принадлежит к языку религии и не играет никакой роли и в других сферах, как если бы боги держали его про запас на протяжении истории и литературы времен Республики, чтобы потом оно получило яркое, престижное употребление у Октавия. Напротив, sacer — это понятие религиозное и живое. К счастью, его можно увидеть в написании sakros на одной из древнейших сохранившихся надписей, в формулировочном значении, которое у него и останется. Является sacer все то, что по природе или по решению оказывается предназначенным и выделенным для богов[162]: для sacri-ficium животное, жертва — victima (это слово связано с корнем weihen) — извлечено из его обычного употребления и отдано невидимому адресату, даже если часть его тела возвращается к profanum (profanare) и должна быть потом съедена людьми. Нарушитель некоторых правил, или осквернитель некоторых мест, или нечистая Весталка, оказываются по собственной вине обреченными; sakros esed, sacer esto[163] — первоначально без указания на конкретного бога; по-видимому, здесь имеется в виду, что весь мир богов противостоял людям. Размышления священнослужителей внесли оттенки в понятие sacer, подобрали квази-синонимы к нему. Одно из этих разграничений весьма примечательно, так как оно основано на рядоположении трех понятий, на сопоставлении трех сфер — чисто божественной, военной и подземной (весьма, по-видимому, древней). Здесь мы находим разделение ius diuinum на res sacre, res sanctae, res religiosae. Установить, к какому времени относится это разделение, — невозможно. Несомненно, оно относится к более раннему времени, чем юрисконсульт Элий Галл (утверждающий, что оно достаточно известно), т. е. до Веррия Флакка, о котором автор сокращенного его изложения пишет:… inter sacrum autem et sanctum et religiosum differentias bellisime refert [Gallus]: sacrum aedificium, consecratum deo; sanctum murum, qui sit circa oppidum; religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut humatus sit[164].Это учение фигурирует в начале второго из Комментариев Институций (3–8) Гайя, но автор, по-видимому, смущен военным оттенком значения, приписываемого sanctus. Он различает, во-первых, два других эпитета, связывая их с двумя видами богов, и указывает, что вещи sacrae — это те, которые посвящены высшим богам, а вещи religiosae — это те, которые остаются малым божествам. Далее он добавляет: sanctae — это те вещи, как, например, стены и двери, которые в известной мере божественные по праву. Но эта доктрина — весьма устойчива: в Дигесте, 1, 8, 8, Марциан определяет sanctus с помощью двух военных терминов: sanctum — то, что защищает человека и укрепляет от несправедливости. За пределами такого технического употребления этот оттенок значения не встречается. До Августа sanctus характеризовал немногих богов (так, Невий говорит sanctus Pithius Apollo, а Энний говорит sancta Venus). Однако sancti viri (святые мужи), sanctissimi (святейшие) viri — выражения, принадлежащие к самому лучшему стилю речи, — приближают это слово к области augustus: священный, августовский. Другой основной термин религии — это fas. Об этом слове до сих пор продолжают спорить юристы, историки религии и лингвисты. Взаимосвязь между fas и ius существует с давних пор, хотя в латинском языке слово ius вышло из сферы религии. Не следует, вслед за некоторыми древними, понимать эту взаимосвязь как связь с неким «божественным правом», которое накладывается на «человеческое право». Мне кажется, что слово fas не связано с корнем fari (*bhā-), с которым его сближали древние. По-моему, оно связано с корнем facio (*dhē-) в его изначальном значении — «ставить, помещать», и я склонен усматривать между fas (*dhəs-) и ius отношение, сравнимое с тем, которое в ведическом языке можно заметить между двумя пониманиями всемирного Порядка — dhā́man и ṛtá: тогда fas могло бы быть мистической опорой, невидимой, но без которойius не может существовать, — такой опорой, которая поддерживает все видимые виды поведения и отношений, определяемых ius[165]. Fas — не материал для анализа или казуистики, а также не делится на части, не поддается подразделению, как ius; он есть или его нет: либо fas est, либо fas non est. Время или место оказываются fasti или nefasti в зависимости от того, дают ли они ту мистическую опору не религиозной деятельности человека, которая лежит в основе надежности и безопасности. Какой критерий позволял древним различать эти качества, как они определяли наличие или отсутствие «фундамента»? У нас нет никакой возможности узнать об этом. Однако само понятие наверняка имело большое значение. Выше мы видели, что оно, возможно, было связано с fetiales. В латинском языке нет слова для обозначения религии. Слова religio, caerimonia не охватывают всего поля понятия «религия». Оба слова часто употребляются во множественном числе. Самым общим термином является colere deos[166] (существительное cultus deorum неоднократно встречается у Цицерона), причем глагол употребляется банально, без какого-либо технического оттенка значения. Благочестивый (plus — набожный), набожность (pietas), которым предстояло великое будущее, начинали весьма скромно. Это слово известно и в других италийских языках, но иногда слишком поспешно делается вывод, что вольское pihom estu равнозначно латинской формуле fas est («есть высший закон»), и что в самой латыни piare (чтить), piaculum (умилостивительная жертва), expiare (очищать жертвами) сохраняют оттенок этого древнего значения. Однако «чтить» не означает «устранить проклятие», а означает «исправить нарушение естественного долга», а pihom estu должно звучать так же, т. е. оно не означает просто «можно действовать без риска мистического несчастного случая», а означает «можно действовать, не рискуя нарушить какое-нибудь обязательство». Оба разрешения сходятся весьма близко, однако их происхождение — различно. В общем, это понятие, пожалуй, ближе к ius, чем к fas; правда, оно имеет, скорее, моральную окраску, чем юридическую. Pietas заключается в том, чтобы с уважением придерживаться нормальных, традиционных, бесспорных отношений, поддерживать отношения, вытекающие из определения и из статуса взаимоотношений, которые существуют между людьми одной крови, одной общины (civitas), между соседями, между союзниками, между договаривающимися сторонами, либо без взаимности поддерживать отношения между индивидом и тем, что стоит выше его, т. е. отношения с родиной, богами и, в конечном счете, со всем человечеством. Рим воюет, ведет bellum pium et iustum (войну благочестивую и праведную), когда уже должным образом установлено, что противник нарушил право, а сам Рим соблюдал дух и букву закона. Слово Justus не исключает хитростей, и даже ловушек, во всяком случае, допускает ловкость, тогда как pius — однозначно. Это слово лишь частично сходит в сферу религиозных значений. Оно выявляет связи — достоверные, хотя и слабо выраженные, — между римской религией и естественной моралью. От богов ожидают прежде всего мира в обычном смысле слова, т. е. нормальных и, более того, доброжелательных отношений. Слово это древнее: умбрский ритуал Игувий требует от богов быть одновременно foner pacrer[167] (VI b, 61; в ед. числе fos pacer — воин, пастух, VI a, 23 etc.), т. е. fauentes (одобрять) и *pacri- (пасти). Это два квази-синонима, первый из которых, видимо, более активен, чем второй. В латинском языке корень paciscor не дал прилагательного. Поэтому желание, чтобы бог обратил внимание на человека, выражается образно: propitious (благосклонный) и praesens (лично присутствующий). Слово praesens используется как причастие adesse (присутствовать).
XV. ЗАМЫСЕЛ КНИГИ
Эта «Религия Рима» — не учебник, не книга для справок. Мы пытались не обойти ни одного важного вопроса, но мы оставили в стороне множество дискуссий, имеющих второстепенное значение. Эта книга также не содержит полного перечня римских культов. Например, по поводу персонифицированных абстракций, которых так много появилось, особенно начиная с III в., было обращено внимание только на самые основные, в которых наиболее ясно просматривается способ их создания. Главная цель, которую мы перед собой ставили, сводится к тому, чтобы выявить основные черты, характерные особенности религиозной мысли римлян, проследить важнейшие линии религиозной структуры, которая лежала в основе процесса роста и формирования Рима, выявить механизмы, способствовавшие тому, что эта структура сначала обогатилась, затем отяжелела, потом ослабла и, наконец, пришла в упадок и распалась, в то время как уже накапливались элементы нового равновесия. Вопреки моде того времени, теология сохраняла почетное место. «Предварительные замечания», которые вы только что прочитали, обосновывают этот выбор: с самого начала римская религия резюмировала и персонифицировала — в образах богов и в отношениях между богами — идеи, которые лежали в ее основе, и культ заключался главным образом в служении этим богам: он не был беспорядочным набором магических приемов. Я отказался от выбора между «систематическим изложением» и «историческим очерком». Эта классическая дилемма обманчива. Я намерен показать, что люди, создавшие Рим, пришли в эти места, уже владея значительным религиозным наследием: объяснять его их историей было бы ошибкой. Необходимо в первую очередь выявить именно эту древнюю основу, которая была уже в значительной мере структурирована. И не следует пытаться объяснять ее с помощью псевдо-истории, сфабрикованной целиком и полностью для этой цели. С этих позиций все является историей, в течение долгого времени остававшейся неясной, недостаточной, и с этим надо смириться, принять ее такой, какая она есть, учитывая, что она становится более устойчивой и более точной по мере приближения к III в. Поэтому в отношении раннего периода необходимы «системные» рамки, а для изложения событий последних веков подходит «исторический» метод. Однако внутри каждого раздела должен быть открыт доступ как для одного, так и для другого подхода. Например, при «систематической» трактовке докапитолийской триады, которая представляет собой то, что древнее всего, было бы искусственно и опасно под предлогом соблюдения хронологического порядка рассматривать только самый древний образ Юпитера, Марса и Квирина, каким его рисовали наверняка архаичные сведения, отложив до других глав позднейшую картину — то, какими Юпитер, Марс и Квирин предстали в дальнейшем. Поэтому, начиная с этой первой части, в процессе рассмотрения этих трех богов, всегда сохранявших большое значение, мы проследим их развитие, заранее проясняя таким образом материал следующих — «исторических» — глав. Такая гибкость изложения — отнюдь не бессвязность и непоследовательность. Этого требует материал. Такая гибкость позволяет нам избежать трудностей изложения, которые вскоре стали бы непреодолимыми, и в то же самое время она снижает риск ошибок и произвола в подаче материала, помогая охватить общим взглядом все части долгого пути — единого, несмотря ни на что. С другой стороны, мы не можем (по причинам, изложенным выше) рассматривать «Staatsreligion» (государственную религию) как второстепенный результат, как «продукт», наслоившийся сверху на «религию крестьян» или вышедший из нее. С самого начала общество, regnum, имело свои культы и своих богов. Частные лица извлекали иногда пользу из них, но они им не принадлежали. Следовательно, мы будем рассматривать главным образом общественную религию (religion publique), оставляя напоследок данные, — довольно скудные, — которые относятся к частным культам. Мы будем придерживаться следующего плана. Изучение трех богов, составляющих докапитолийскую триаду, и их компаньонов будет естественно дополнено изучением триады капитолийской, потому что в ней Юпитер обретает новую выразительность и значимость, хотя одно из двух божеств, в соседстве с которыми он оказывается, не характеризуется большим масштабом и даже подозревается в иностранном происхождении. Остальные теологические представления будут рассмотрены позднее в простом порядке: сначала — те, которые ставят религиозное мышление и религиозную деятельность в соответствующие культовые рамки и связывают их с определенным местом; затем — те, которые непосредственно касаются человека в этом земном мире и в мире потустороннем; и, наконец, те, которые лежат в основе великих процессов — экономических или иных, определяющих жизнь общества. Далее мы рассмотрим первые варианты расширения состава богов, стараясь в первую очередь проанализировать и проиллюстрировать примерами разнообразные способы, которые для этого используются: персонификация абстракций; заимствования у ближайших соседей; боги, к которым обращаются мысленно, и завоеванные боги; первые случаи натурализации на римской почве богов, привнесенных греками; греческие боги, «добытые» из более дальних регионов, а затем перенесенные из самой Греции. Затем мы попытаемся быстро и в общих чертах выявить хронологию всех этих «маневров», учитывая, что лишь последние из них имели место при полном историческом освещении. Затем мы будем наблюдать, как функционирует рассмотренная таким образом религия, действуя, в общем, в пользу интересов и непосредственных потребностей Рима во время ужасного кризиса, каким была война с Ганнибалом. Мы также обратим внимание на то, как трансформировалась религия, проникаясь эллинизмом, который оказывал одновременно оплодотворяющее и разрушающее влияние и от которого консерваторы неловко и тщетно пытались религию защитить. Времена гражданских войн ускорили эту эволюцию: мы увидим это, наблюдая за сменяющими тогда друг друга властителями Рима — вплоть до того момента, когда воцарилась великая смута, и Рим был уже готов к деятельности нового Ромула. Возвращаясь назад, в своеобразном приложении, мы рассмотрим средства, способы действия и восприятия, с помощью которых римское общество поддерживало постоянные отношения с божественными силами: жертвоприношения, церемонии, организация священнослужения, толкование знаков. Наконец, за пределами общественного культа, мы опишем некоторые элементы приватного культа — наиболее известные и наиболее характерные. Это исследование не принадлежит ни к какой школе, оно не использует никакой заранее выдуманной доктрины, т. е. не опирается ни на какое сфабрикованное заранее учение. Если нам встретится «примитивное», «сельское» или «солнечное», мы его признаем. Вопреки постоянно повторяющимся обвинениям со стороны торопливых критиков, мы укажем, что здесь нет никакого «индоевропейского империализма», что индоевропейская «трехчленность» не выступает по всякому поводу и неуместно. Однако, в тех случаях, когда индоевропейские аналогии будут напрашиваться, мы их тоже примем: не наша вина, если сравнение с фактами ведического языка часто оказывается возможным и приносит больше пользы, чем обращение только к одной Греции. Примечания сведены к минимуму. Читатель всегда с легкостью найдет для любого частного случая дополнительные сведения и материалы, обратившись к соответствующим рубрикам больших словарей, каждый из которых имеет свой стиль и свои достоинства: «Словарь древностей», который составили Daremberg, Saglio, Pottier и др.; «Подробный словарь греческой и римской мифологии» авторства Roscher; «Реальная энциклопедия классической науки, исследующей старину», которую составили Паули, Виссова и др. Кроме того, к услугам читателя имеются учебники. Прежде всего, это учебник, написанный Виссовой. Достоинствами этого учебника являются ясный план и прекрасный указатель. Менее доступен учебник Латте, но он даст читателю дополнительные, часто весьма важные сведения по эпиграфической документации. Чтобы лучше разобраться в учении, читатель сравнит написанное в этих книгах с тем, что предлагается в моей книге. В соответствии с этим я принял два решения[168]. Примечания отсылают к этим пяти учебникам или словарям только в тех случаях, когда надо специально привлечь к ним внимание. Во всех остальных случаях пусть читатель считает, что ему предлагается постоянно использовать их богатства. Однако он найдет в примечаниях достаточно указаний, чтобы составить себе библиографию к большинству тем для начального этапа их изучения. Дискуссиям также уделено весьма небольшое место. Исключение составляют такие существенные вопросы, как теория Марса или Квирина[169]. Такая сдержанность, которая отнюдь не всегда объясняется незнанием, никогда не предполагала пренебрежения к другим мнениям. Но когда речь идет о сфере, привлекающей столь многих исследователей, какой является религия древнего Рима, то для того чтобы достойно провести даже небольшую дискуссию, потребовалось бы такое количество страниц, какого не допустили бы условия издания книги. Впрочем, я собираюсь в книге, которая скоро выйдет, рассмотреть историю исследования, начиная с первых лет XX в., поскольку многие авторы излагают материал субъективно.Часть I ВЕЛИКИЕ БОГИ АРХАИЧЕСКОЙ ТРИАДЫ

Глава I АРХАИЧЕСКАЯ ТРИАДА: ДАННЫЕ
На предшествующих страницах неоднократно упоминалась одна из древнейших структур, которые можно выявить в римской религии: это объединение в некоторых обстоятельствах Юпитера, Марса и Квирина. В исторические времена эта триада в значительной степени утрачивает свою жизнеспособность, и свидетельства о ней сохранились лишь в нескольких явно архаических церемониях, обрядах и жречествах. Тем не менее, это доступный для нас остаток первоначального состояния теологии, и в этом качестве он требует нашего рассмотрения. Более того, сами Юпитер и Марс всегда были важнейшими фигурами пантеона, тогда как в отношении Квирина возникает сложная проблема, решение которой влечет за собой многочисленные вопросы. От выбора решения зависит не только интерпретация триады, но также интерпретация многочисленных божеств, которая получает различные направления. Несмотря на то, что Георг Виссова не извлек из этого большой пользы, его заслугой является то, что уже в самом начале своей книги он привлек внимание к существованию докапитолийской триады. Вот как он излагает этот материал во втором издании книги (с. 23): «Трое старших фламинов осуществляют службу Юпитеру, Марсу и Квирину, и эта триада (“dieser Dreiverein”) богов предстает как главная, доминирующая в самых различных священных формулировках, относящихся к древнейшим временам. Та же самая концепция лежит в основе порядка старшинства высших священнослужителей, их места по рангу. Этот порядок был еще в силе в конце эпохи Республики, и в соответствии с ним священный царь стоял выше всех остальных жрецов, а за ним друг за другом следовали фламины Юпитера, Марса, Квирина, в то время как на последнем месте был великий понтифик (Fest. c.185[170]). И чем меньше это соответствует реальному соотношению по могуществу и значимости этих различных священнослужителей в поздние времена, тем больше вероятность того, что эта картина отражает древнейшую иерархию богов, которых представляли эти жрецы». В примечании следующим образом перечислены формулировочные амплуа, упомянутые в первой фразе: «В ритуале салиев, Serv. Aen. 8, 663; во время заключения договоров фециалами, Pol. 3, 25, 6; в формуле обета, Liv. 8, 9, 6; во время освящения доспехов, снятых с неприятельского полководца, Fest. c. 189[171], Plut. Marc. 8; Serv. Aen. 6, 860 (когда в последней формуле Фест говорит «Янус Квирин» вместо «Квирин», то другие свидетельства доказывают, что это была оплошность, оговорка по небрежности. Аналогичная триада, по-видимому, была помещена во главе теологической структуры умбров, ибо в Таблицах Игувия Юпитер, Марс и Вофион имеют общее, отличающие их от других богов имя — Грабовий (Grabovius)». Этот обзор, дополненный еще на страницах 133–134 одной подробностью культа Фидеи, несколько краток, носит обобщенный характер и нуждается в некоторых поправках, однако он существует. И можно только удивляться тому, что его автор, написавший по поводу Игувия важные слова — «теологическая структура» («Götter-system»), затем стал изучать трех римских богов по отдельности, беспорядочно, не задумываясь над тем, в каких отношениях друг с другом они были, и каким было значение угаданной им «системы» в Риме и в Игувии. Начиная с 1912 г., комментаторы римской религии также не уделили достаточного внимания этому аспекту. И только в наши дни появились две совершенно противоположные концепции триады, которые отразились — одна в серии исследований, которым я дал общее название «Юпитер, Марс, Квирин» (1941–1949), а другая — как реакция различных авторов, прежде чем она приняла самую примечательную форму в работе Курта Латте (1960) «История римской религии», предназначенной для того, чтобы заменить книгу Виссовы «Handbuch der Altertumswissenschaft». Короче говоря, в то время как мне представляется, что для понимания древнейшей римской религии следует отталкиваться от этой триады, Латте усматривает в ней лишь относящееся к поздним временам объединение, возникшее случайно и недостаточно достоверно установленное. Тщетно стали бы мы искать в его учебнике обсуждение проблемы в целом. На умбрскую параллель нет никаких указаний. Другие детали материала разбросаны по примечаниям. Каждый факт рассматривается отдельно, сам по себе, как если бы других фактов вовсе не было. Эти разрозненные комментарии помещены в тексты, где речь идет о чем-то другом. Ссылок на триаду нет. Каждый комментарий, за исключением одного случая, оказывается изолированным, из-за чего утрачивается его значимость, а в целом свидетельство обесценивается и фактически устраняется. Следовательно, прежде чем размышлять о значении триады, мы должны филологически проверить документы, которые обосновывают ее существование и которые намерена уничтожить недавняя критика. Два из этих документов были уже достаточно проанализированы в «Предварительных замечаниях» вследствие методических проблем, которые они создают. 1) В отношении порядка жрецов, который Латте рассматривает на страницах 37, 195 своей книги, мы показали, что невозможно относить его установление ко второй половине IV в., а также нельзя объяснять случайностями истории того времени «отбор» трех фламинов, называемых maiores. Я, следовательно, ограничусь здесь тем, что процитирую текст Феста там, где он изложен (с. 299–300 L2):«Самым важным (из этих жрецов) считается царь. Затем идет фламин Юпитера, за ним — фламин Марса, на четвертом месте — фламин Квирина, на пятом — великий понтифик. Поэтому во время трапезы царь сидит один, над всеми священнослужителями; фламин Юпитера сидит выше, чем фламины Марса и Квирина, причем фламин Марса занимает место над этим последним, и все они сидят выше, чем понтифик: царь — потому что он самый могущественный; фламин Юпитера — потому что он жрец вселенной, которую называют небом[172]; фламин Марса — потому что Марс является отцом основателя Рима; фламин Квирина — потому что Квирина призвали из Куров, чтобы он присоединился к Римской империи; великий понтифик — потому что он — судья и арбитр божественных и человеческих дел».Нас здесь занимает только факт иерархии, а не причины, которыми Фест ее обосновывает (объяснение третьего и четвертого места опирается на предание, рассказывающее «историю» основания Рима). Добавим только, что для того чтобы уменьшить значимость этого свидетельства, Латте подчеркнул, что старшинство пяти жрецов отмечается лишь в связи с пирами. Но разве не является неправдоподобным предположение, что старшинство, соблюдавшееся на пирах, отличается от того, что соблюдалось на других собраниях? Впрочем, здесь указывается не столько на порядок фламинов, сколько на порядок богов, а этот порядок одинаков во всех свидетельствах. 2) Формулировка обета богам (Liv. 8, 9, 8), в которой после Януса сначала призываются боги главных фламинов, выше была приведена полностью. Было показано, что две причины, приведенные Латте (с. 5, прим. 1 в его книге), по которым следует усматривать здесь подделку, не доказывают его тезис: в выражении veniam peto feroque[173] слово fero[174] не имеет того значения, которое он ему приписывает, а порядок перечисления divi Novensiles сначала, а dii Indigetes потом, противоречащий смыслу, который в то время придавался этим двум словам, скорее, подтверждает предположение, что историк точно скопировал подлинную формулировку. 3) Из двух конкурирующих преданий, касающихся доспехов, доставшихся в качестве трофея, — то, которое признано как самое древнее, указывает в качестве адресатов: Юпитера (для первого), Марса (для второго), Квирина (для третьего). Именно так пишут Варрон, Фест. c. 302 L2 и Сервий Aen. 6, 859. Только это указание было признано слишком придирчивыми критиками. Оно даст позднее важные элементы для интерпретации триады. 4) Один раз в году «фламины» совершали жертвоприношения в часовне Фидеи в особых условиях. Тит Ливий, приписывая введение обрядов Нуме, который, по общему мнению, был тем, кто учредил все sacra (священные обряды), описывает их следующим образом: «Он решил, что фламины отправятся в эту часовню в закрытой колеснице, в которую будут запряжены два коня, и что они будут совершать жертвоприношение правой рукой, закутанной до самых пальцев». До последнего времени, учитывая контекст, здесь предполагали, что слово фламины указывает на трех старших фламинов, т. е. на фламинов Юпитера, Марса и Квирина. Указание Тита Ливия действительно входит в текст, в котором он перечисляет религиозные институты легендарного царя Нумы (1, 20–21). Раньше говорилось о введении должности жреца. Первыми жрецами, причем действующими совместно, стали три старших фламина (20, 1–2), за ними следовали весталки, затем салии и, наконец, понтифики (20, 3–7). После размышлений о действенности этих институтов, об их благоприятном воздействии на римлян (21, 1–2) и после упоминания о легендарной их вдохновительнице нимфе Эгерии (21, 3) историк переходит к жертвоприношениям и церемониям, придуманным Нумой (21, 4–5), причем начинает он с жертвоприношения Fides (Фидее). Следовательно, вполне естественно будет предположить, что в этом тексте, где все точно и технично, флами-ны, которые действуют в 21, 4 — это те, и только те, о которых до этого как раз шла речь, т. е. те, которые названы в 20, 1–2, а именно трое старших. Таково всеобщее мнение. Например, так говорит Отто в статье «Fides» в RE. VI, 1909, col. 2292, 1. 5—14: «Из культа Fides до нас дошел один обряд — древний и весьма примечательный… Три великих фламина отправлялись к этому святилищу на закрытой повозке, запряженной двумя конями». Такого же мнения придерживается Виссова (1902. С. 123; 1912. С. 133–134): «Фактически, сам культ — более древний, конечно, чем основание храма [Фидеи около 250 г. на Капитолии], поскольку нам известно, что каждый год три главных фламина один раз отправлялись к святилищу Fides (к тому, которое существовало до капитолийского храма) в закрытой повозке и совершали жертвоприношение.». В примечании 4 на с. 237 своей книги, не упоминая общепризнанного мнения, Латте дает, как само собой разумеющееся, другое истолкование слова фламины, целью которого было уничтожение свидетельства: «Тит Ливий употребляет слово fl amines, в соответствии с тем, что принято в языке в его время, без технического значения, в смысле жрецов; из этого не следует, что у Fides был свой особый фламин». Если заключительное замечание наверняка справедливо (но кто же предполагал наличие фламина у Фидеи?), то предшествующее ему указание вдвойне неправдоподобно. Мы только что видели, что замысел и стиль глав 20–21 историка отнюдь не дают повода для предположения, что употребление слова фламин было «untechnisch» (такое употребление не встречается у Тита Ливия, насколько мне известно[175]). Кроме того, мы заметили, что четкий план этих самых глав побуждает, напротив, объяснять 21, 4 через 20, 1–2. С другой стороны, если понимать слово так, как предлагает Латте, то не оправдывается множественное число фламинов в 21, 4. У Тита Ливия не было никаких причин подчеркивать в этой фразе преемственность из века в век кого-то, всегда одного, имеющего сан священнослужителя, специально для Фидеи[176]. Только в таком случае употребление множественного числа соответствовало бы принятой норме[177], и «фламины» должно обозначать здесь группу священнослужителей, одновременно присутствующих и действующих совместно. Стоит ли предполагать, что у Фидеи было жречество? 5) Сервий, Aen. 8, 663, говорит, что салии — священники, использующие в проводимых ими церемониях ancilia (щит), упавший с неба и его одиннадцать неразличимых имитаций, — находятся под под защитой Юпитера, Марса и Квирина (in tutelia Jous Martis Quirini). Это заявление не зависит от текста Вергилия, к которому оно примыкает, и не подсказано им. Следовательно, Сервий поставил здесь метку, независимую, но нисколько не удивительную, так как действительно каждый из трех богов имел личные отношения с салиями: если Юпитер сделал так, что с неба падает щит, как повествует легенда об основании Рима, то именно Марс и Квирин покровительствуют, соответственно, двум коллегиям священников в ходе истории. Форма, в которой мы знаем легенду об основании Рима, конечно, поздняя, и она отмечена греческим влиянием, но щиты — древние, правда, не в значении гарантий власти; ничто, однако, не мешает им играть роль талисманов, обеспечивающих из года в год безопасность. Какому другому богу, кроме Юпитера, было дано право предоставлять обществу такие талисманы? Что касается того, что одну коллегию салиев приписывали Марсу, а другую — Квирину, что бы это ни означало, это достоверно. Никто не отвергает первую, а вторая так же хорошо засвидетельствована, невзирая на то, что пишет Латте (с. 113, прим. 3): «Свидетельство недостаточно веское: одна речь у Тита Ливия, 5, 52, 7 и одно несколько вычурное выражение у Статия (Stace), Silv. 5, 2, 129». Не говоря уже о тексте поэта, который, конечно, заслуживает внимания[178], непонятно, почему тот факт, что слово, встреченное у историка, можно прочесть в «речи», а не в «повествовании», снижает его достоверность: contio или narratio[179] — все, что есть в тексте Тита Ливия, — принадлежит Титу Ливию и опирается на информацию Тита Ливия. Более того, не верно, что у нас нет других свидетельств. Когда Дионисий Галикарнасский, зная, что Салии Палатинские[180] принадлежат только Марсу (fragm. 14, 2, 2: χαλίας τις Āρεος, указывает также и на священных салиев на Палатинском холме, ср. Val. Max. 1, 8, 11), то берется (2, 70, 2) представить вместе салиев Палатинских и салиев Агональных, или салиев Холма, характеризуя их как «танцоров и певцов вооруженных богов (των ένοπλίων θεών)». Эти «вооруженные боги», во множественном числе, очевидно, подразумевают не одного Марса, но Марса и Квирина — двух богов, которых тот же самый историк объединяет в другом месте (2, 48, 2) обобщающими словами «воинственные божества» (δαιμόνων πολεμιστών) в недостаточной, но обычной для того времени интерпретации Квирина. Таким образом, вне какой-либо интерпретации, рассматривая только римские данные, мы видим, что приговор, высказанный Латте в последних словах примечания 3 на странице 113, — произволен: «Serv. Aen. 8, 663, Салиев, которые под защитой Юпитера, Марса, Квирина, — это, конечно, неверное утверждение». Как бы ни понимать слово tutela (охрана, защита), все равно, обряды и инструменты салиев связаны действительно с этими тремя богами[181]. Следовательно, триада Юпитер — Марс — Квирин отнюдь не иллюзорна. Свидетельства — документы, материалы, которые это подтверждают, — действительны[182], имеют полную силу. Как их интерпретировать?

Глава II ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: ТРИ ФУНКЦИИ
С тех пор, как ее стали обсуждать, эта докапитолийская триада, как правило, рассматривалась как результат ранней истории Рима. Весьма вольно толкуя классические легенды о происхождении города, учитывая в первую очередь идею синойкизма, слияния двух этнических групп населения — латинян и сабинян, — некоторые сочли, что, как говорится в одном из двух вариантов легенды, Квирин был богом сабинской составляющей, своего рода сабинским Марсом, который был поставлен рядом с латинским Марсом, и что Юпитер, которого почитали оба народа, дипломатично был помещен во главе этого компромисса. Слабость этого сабинского тезиса была подчеркнута в «Предварительных замечаниях». Здесь достаточно добавить, что вариант, приписывающий Квирина сабинянам, опирается, совершенно очевидно, на приблизительную трактовку этимологии, основанную на весьма неточных сопоставлениях, так что лингвисты не могли бы подтвердить его сходство с названием сабинского города Куры. Другие, отказываясь от сабинской составляющей и вообще от соображений этнического порядка, утверждают, что двойственность была исконной. Они опираются на топографию: население холма Квиринал, каким бы оно ни было и откуда бы оно ни пришло, якобы почитало как главного бога — Квирина, а население Палатина почитало Марса. Объединение жителей, первоначально независимых друг от друга, в единый город-государство повлекло за собой то, что, Квирин и Марс, бывшие ранее местными богами, были помещены рядом — в один пантеон. Но в одном из наших «Предварительных замечаний» мы напомнили, что хотя название collis Quirinalis действительно означает «холм Квирина», нет никаких доказательств, что оно возникло до объединения, — скажем более осторожно, до того, как холм был поглощен городом, — и что вполне могло быть так, что культ «палатинского» бога Квирина оказался перенесенным на этот северный придаток, подобно тому, как «палатинский» Юпитер получил в свое владение Капитолий. На самом деле свободный выбор между теоретически возможными утверждениями не существует. Интерпретация Квирина как бога первоначально местного, наталкивается на тяжеловесный факт, который вместе с ней отвергает всякую попытку объяснить триаду соображениями, исходящими из истории Рима или земель, на которых он расположен, и, следовательно, инициаторы таких попыток остерегаются говорить об этом. Этот факт заключается в том, что умбры имеют Игувий, пантеон которого в какой-то мере известен нам из знаменитых Таблиц, а в нем существует похожая триада. Там тоже обнаруживаются три бога, объединение которых в органичную структуру вытекает из их общего и принадлежащего только им эпитета Grabouio- и из трехчастного обряда, в котором они присутствуют. Эти боги следуют друг за другом в определенном порядке: Jou-, Mart- и Vofiono-, причем порядок их следования отражает иерархию. Об этом свидетельствует важная подробность: если каждый из этих богов в качестве жертвоприношения, сопровождаемого одинаковым церемониалом, получает трех быков (причем в отношении третьего быка уточняется, что он должен иметь белый лоб, а остальное — другого цвета), то, в отличие от них, боги младшие, сопровождающие каждого из них, получают разные жертвоприношения. Это — соответственно, три целых туши свиньи, три молочных поросенка, три ягненка. Примечательно, что в Риме в теории освящения оставшихся после умершего трофейных доспехов единственная особенность литургии, сведения о которой до нас дошли, — это указание на то, что жертвоприношения Юпитеру, Марсу и Квирину были различными, причем Квирин получал agnus mas (ягненок; в отличие от Юпитера, получавшего жертвоприношение свиньи, овцы и быка). Наконец, при сравнении трех имен богов Игувия и трех имен римских богов выявляется интересный факт: если Jou- и Mart- встречаются в обоих списках и есть имена существительные, то третьего бога и там, и тут называют с помощью прилагательного, имеющего суффикс —no, — образованного от основы имени существительного[183]. Этих фактов достаточно, чтобы убедиться в том, что эти списки неотделимы друг от друга. Констатация этого влечет за собой важные последствия. Ни та, ни другая форма объединения богов не может быть результатом случайности или неожиданного поворота событий. Так, например, неправдоподобно, чтобы слияние жителей в единое целое при неизбежно различных обстоятельствах и при весьма различных составляющих — дважды (причем независимо друг от друга) привело к религиозному компромиссу, отразившемуся в двух столь похожих друг на друга иерархиях богов. Следовательно, здесь, несомненно, дело в существовании объединения богов, относящегося к временам, предшествовавшим как созданию Игувия, так и основанию Рима. Оно было принесено и сохранено обеими группами основателей и восходит к их общему прошлому. Если объяснение объединения богов не связано ни с местом, ни с историей, то оно может быть связано только с чем-то другим. Объединение богов многозначительно и показательно. Оно очерчивает — благодаря соединению трех различных типов божества, связанных иерархией, — трехуровневую религиозную концепцию. Короче говоря, таким образом создается теологическая структура, как говорил Виссова, «Göttersistem», а не просто собрание богов (Götterversammlung). И эту структуру необходимо выявить. Наконец, поскольку речь идет о структуре до-римской и до-умбрской, которая, следовательно, по времени ближе к индоевропейскому единству, надо будет ее сравнить с тем, что нам известно о древнейших теологических структурах других индоевропейских народов. Отказ от такой поддержки (а такую позицию занимают многие специалисты) невозможно оправдать никакими аргументами — ни ссылаясь на факты, ни опираясь на принципы. В «Предварительных замечаниях» к данной книге было достаточно убедительно показано, что такое сравнение и возможно, и полезно. Но, разумеется, интерпретация должна основываться на римских данных, а сравнение должно быть вспомогательным средством и способом контроля в сложных случаях. Оно также должно показать подлинный масштаб явления в целом. Какие римские данные следует использовать в этом исследовании? Постепенно мы должны будем включить в него всю теологию трех богов и их историю. Ибо они имеют историю. Так, если Марс почти не эволюционировал, то капитолиец Юпитер, культ которого установился в условиях соединения regnum и libertas (царской власти и вольности), представляет собой в некоторых отношениях новый тип. Что касается Квирина, то его отождествление с Ромулом в повествовании о возникновении Рима, конечно, изменило к худшему и усложнило его определение. Однако не следует преувеличивать эти изменения. Мы увидим, что Капитолиец многое сохранил. А так как отождествление Квирина с Ромулом не могло быть полностью произвольным, то сами изменения, которые оно вызвало, могут выявить древние черты этого персонажа. Однако в отношении той совершенно определенной проблемы, к рассмотрению которой мы приступаем, нам необходимо быть требовательными и поначалу ограничиваться тем, о чем свидетельствует поведение трех фламинов. С одной стороны, эти старшие священнослужители действительно представляют собой, как я уже не раз говорил, настоящие ископаемые, они противники развития. В исторические времена ни одному из них никогда не поручали никаких новых форм богослужения. Их число никогда не менялось. Их архаичность очевидна (строгие правила фламина Юпитера; фламина Марса и жертвоприношения Октябрьского коня). С другой стороны, они сами образуют человеческую триаду, определенный порядок (ordo), в культе Фидеи. Отличительные черты членов этой человеческой триады, по-видимому, были не слишком далеки от особенностей, конституирующих триаду божественную. К этому первому обрядовому свидетельству можно добавить еще несколько фактов из социальной жизни и политики царских времен. Статус фламина Юпитера и его жены, фламинии, известен лучше, чем статус остальных двух. В его уставе много странных пунктов, и это всегда интересовало знатоков старины и летописцев[184]. Некоторое число этих пунктов предназначено лишь для обеспечения постоянного присутствия священнослужителя в Риме, его физической связи с землей Рима (он не может выезжать из Рима; ножки его кровати покрыты легким слоем грязи, и он не имеет права провести три дня, не ложась в эту кровать). Остальные пункты характеризуют черты, присущие его богу. В некоторых пунктах говорится о небе, они свидетельствуют о связи Юпитера с небом: например, фламин Юпитера снимает нижнюю тунику только в закрытом помещении, чтобы не оказаться нагим под открытым небом — «как будто перед глазами Юпитера». Или же ему не разрешается снимать sub duo (под открытым небом) ту часть облачения, которая отличает его от других, — apex (заостренный наконечник) его колпака. Кроме того, следует признать, что небесный бог всегда был громовержцем, и хотя в том, что нам известно о поведении диала (жреца Юпитера), никаких соответствий этому нет, поведение его жены восполняет этот пробел: увидев молнию, «жена диала праздновала, не работала, до тех пор, пока она не умиротворит богов» (Macr. I, 16, 8). Но существует не только этот натуралистический аспект. Отношения между фламином Юпитера и царем (rex), о которых уже упоминалось, — достоверны, и их возникновение не может восходить к эпохе Республики. Тит Ливий объясняет их суть, по-видимому, руководствуясь учением понтификов, в главе о том, что якобы учредил Нума. Тит Ливий прекрасно изложил главное в каждом жречестве (I, 20, 1–2):«Затем Нума занялся назначением жрецов, хотя многие священнодействия совершал сам — особенно те, что ныне в ведении Юпитерова фламина. Но так как в воинственном государстве, думалось ему, больше будет царей, подобных Ромулу, нежели Нуме, и они будут сами ходить на войну, то, чтобы не оставались в пренебрежении связанные с царским саном священнодействия, он поставил безотлучного жреца — фламина Юпитера, отличив его особым убором и царским курульным креслом. К нему он присоединил еще двух фламинов: одного для служения Марсу, другого — Квирину»[185].Курульное кресло было не единственным знаком мистической связи с властью: только фламин Юпитера — один из всех жрецов — вместе с весталками шел за ликтором (Plut. Q. R. 113), и только он один имел право заседать в Сенате (Liv. 27, 8, 8)[186]. В свете этих определений и символов просматривается особенность, характеризующая древнейшего Юпитера: он сам был царь, и он покровительствовал царю (rex) людей. Даже во времена Республики, когда этот титул стал подозрительным и одиозным, по-прежнему будет fas (закон) именовать таким образом Юпитера, и только его (Cic. Rep. 1, 50; Liv. 3, 39, 4). Другие правила фламина Юпитера (главным образом Gell., l. c.) наиболее правдоподобно интерпретируются как распространение на жреца качеств его бога: Юпитер предстает как владыка клятвы, владыка права. Он абсолютно свободен. Единственный из всех римлян фламин Юпитера освобожден от клятвы: всегда есть закон, чтобы диал (жрец Юпитера) никогда не клялся. Ему свойственно приостанавливать исполнение наказаний: если закованный в цепи человек входит в его дом, его должны освободить, его оковы следует отнести на крышу дома и оттуда сбросить на улицу; если приводят человека для наказания розгами, а он бросается к ногам диала, то бичевать его в этот день считается святотатством. Личный символизм придает ценность свободе, отсутствию оков: фламин Юпитера не имеет узлов ни на колпаке, ни на поясе, ни где бы то ни было еще. Даже кольцо он может носит только полое и ажурное. Другие правила, определяющие его отличия, четко отграничивают его от военной сферы человеческой деятельности: он не должен видеть армию, classem procintam (флот, готовый к бою), если она собралась за пределами pomerium[187]. Ему абсолютно противопоказан конь: он не имеет права ездить верхом. Наконец, еще одна группа правил делает диала чистым и священным существом в полном смысле слова, воплощением святости. Он — «ежедневно празднующий», т. е. для него никакой день не может быть мирским. И днем, и ночью он носит на себе что-нибудь из одежды, указывающее на его должность. Из его дома нельзя выносить никакого огня, кроме священного. У спинок его кровати всегда должна находиться шкатулка со священными пирогами, strues et ferctum. Самая священная форма заключения брака — confarreatio — которая предписывается ему и его родственникам, требует его присутствия. Он избегает соприкосновения со всем, что может загрязнить, и, в первую очередь, он не должен касаться ничего мертвого или напоминающего о смерти: трупов, погребальных костров, сырого мяса. Таким образом, выделяется во главе триады индивидуализированный бог, образ которого уже сложен: фигура небесная и мечущая молнии, но также царственная; действующая в сфере власти и права, но не в сфере сражений (которая, как и конь, отведена Марсу). Это самая священная фигура из всех, и к тому же — способная быть источником священного. Искусственной была бы попытка внести хронологию между элементами этого логичного описания, и особенно искусственным было бы желание удержать в памяти только крестьянского Юпитера, управляющего хорошей и плохой погодой, дарителя дождя, и придерживаться мнения, что все остальное добавлено дополнительно. Как мы видели, regnum (царская власть) — явление столь же древнее, как и Рим, и даже еще более древнее, а функциональная пара «царь — фламин Юпитера» находит соответствия также в Ирландии и Индии. Фрэзер слишком сузил функции латинского царя, сведя их к задачам магико-сельско-хозяйственным, к роли гаранта плодородия. А он был главным во всем: во-первых, в сфере политики, а в прошлом, видимо, и в религии. Именно этим сторонам царской власти покровительствовал Юпитер в сфере видимого, а в сфере невидимого он эти функции исполнял сам. Мы мало знаем о фламине Марса: он не жил, какфламин Юпитера, в сети строгих запретов и обязательств, — конечно, по-видимому, не вследствие некоего расслабления, а, скорее, структурно: он не выполнил бы свою подлинную миссию, если бы был порабощен правилами, которые имели бы смысл только в теории Юпитера[188]. У нас нет прямых свидетельств о каких-либо его функциях в богослужении. Однако весьма вероятно, что он участвовал в каком-нибудь ритуале, относящемся к более древним временам, например, в обряде, характеризующем древнейшего Марса — жертвоприношении коня, приносимого в дар этому богу 15-го октября на Марсовом поле. Немногие сведения, которыми мы располагаем в отношении Октябрьского коня, не уточняют, какой именно служитель культа совершал обряд. Тем не менее, мрачная его имитация, проведенная во времена Цезаря, когда вместо коня участвовали два мятежных солдата, — уточняет Дион Кассий (43, 24, 4), — была исполнена «понтификами и жрецом Марса». Позднее мы детально рассмотрим эту церемонию или, по крайней мере, то, как ее описывают источники[189]. Здесь же нам важен лишь характер ритуального действия, в котором участвовал фламин Марса, а действие носило четко выраженный военный характер. Жертвой был «боевой конь», �ππος πολεµιστής, который, кроме того, только что был «победителем» в скачках, ό νιχήσας δεξίος, и жертву убивали не ножом, а метательным копьем, χαταχοντίζειν (Pol. 12, 4 b). Роль, приписываемая Марсу в легендах о царях, позволяет догадаться, каким было тогда его место в идеологии, как он включался в общественное устройство. Хотя Марс был отцом близнецов — основателей города, он нигде не выступает в связи с царствованием. Не с ним, а с Юпитером его сын Ромул связывает свою деятельность. Если говорят, что Нума создал своего фламина и свою коллегию салиев, то дело здесь отнюдь не в близости, а в том, что этому царю приписывалось создание всех великих жречеств. В царские времена о нем и речи не было, но затем, после свержения Тарквиниев и установления республики, его вдруг стали очень почитать. Несмотря на то, что клятва обычно принадлежит к сфере Юпитера, в летописях говорится, что Брут, начальник всадников — глава армии — взывает к Марсу, когда клянется свергнуть царей, чтобы отомстить за покушение на Лукрецию. И именно Марсу посвящена земля вдоль Тибра, земля павшего царя, Марсово поле (campus Martius). Создается впечатление, что в этом восстании латинской военной аристократии против этрусских царей и вообще против царской власти, Марс идеологически противостоит традиционному Юпитеру, которого освящение храма на Капитолии еще не примирило, на определенных условиях, с libertas (свободой). Мы видим, что в отношении двух первых богов триады собрание самых древних фактов уже задает общий тон для того, чем они будут на протяжении всей истории Рима, несмотря на неизбежное приспособление к постоянно изменяющимся обстоятельствам. Даже когда Юпитер возьмет на себя военные функции на Капитолии, небесный громовержец будет для консулов, для государства, таким же господином и опорой, каким он был для царя, и в образе Зевса он останется высшим из всех божеств. Марс всегда будет покровительствовать физической силе и неистовой силе души, главным применением которых является война, а главным результатом — победа. Карьера Квирина не была столь прямолинейной. Чему же учит наблюдение над его жрецом? Мы знаем только три обстоятельства, при которых фламин Квирина участвовал в ритуале: во время Консуалий, летом (21 августа), во время Робигалий (25 апреля) и, видимо, во время Ларенталий (23 декабря). До недавнего времени это не подвергалось сомнению. Виссова, который обычно высказывался более удачно, только предположил, что эти праздники были второстепенными (с. 155): так как значение и функции этого бога были забыты, его жрец якобы был свободным, и, чтобы чем-то занять этого безработного, ему якобы дали новые функции, не связанные с теми, которые он исполнял когда-то, и которые также были забыты. С этим невозможно согласиться. Никогда римляне так не обращались с традиционными священнослужителями и, в частности, с другими старшими фламинами. Когда смысл какого-то жреческого сана стирался вместе с исчезновением идеологии, на которую он опирался, они оставляли его, давая ему зачахнуть, но сохраняли за ним все его почести. Для новых потребностей они вводили новых жрецов. Более того, несколько божеств, которым служил фламин Квирина, относятся к самым архаичным: имя Конс, среди прочих, несет на себе печать глубокой древности. Наконец, трудно себе представить в римской действительности резкое изменение, крутой поворот, — который предполагает Виссова, — переход нескольких древних культов, не имевших служителей, к старому жрецу, не имевшему функций богослужения. Но, по крайней мере, Виссова не оспаривал основных данных этой проблемы. Однако это сделал Латте. Рассмотрим же их поочередно, оставив, однако, в стороне до другого раза случай с Ларенталиями, который связан с особыми трудностями, но который (если придать ему то значение, какого он, по-видимому, достоин) лишь подтвердит остальные данные. В календаре есть два праздника Конса (Consus) — бога зерна, оставленного про запас (condere — воздвигать, сооружать, прятать): 21 августа и 15 декабря. За обоими следуют, с одинаковым интервалом, два праздника богини Опы, олицетворяющей изобилие, конечно, в первую очередь изобилие сельскохозяйственное (25 августа и 19 декабря). Такое расположение праздников в календаре свидетельствует о связи между этими двумя божествами, которая нисколько не удивительна и которую подтверждает эпитет, характеризующий Опу в августовском культе: Консивия[190]. Как это часто бывает, у нас мало сведений о деталях самого ритуала. Что касается Опиконсивии 25 августа, то можно думать, что великий понтифик и девы-весталки проводили свои церемонии, но это лишь предположение. Все, что говорится об Опе Консивии в единственном тексте (Варрон, L. L. 6, 21), где о ней идет речь, это то, что у нее была часовня в Регии на Форуме, и что эта часовня была настолько священна, что входить в нее могли только весталки и великий понтифик, которого, как это было принято, называли sacerdos publicus (государственный жрец). Что касается Консуалий 21-го августа, то единственный, опять же, текст содержит ясное сообщение (Tert., Spect. 5). В нем говорится, что в этот день фламин Квирина и девы-весталки совершали жертвоприношение на подземном алтаре Конса, находившемся в Цирке. Если две весталки участвуют в обеих церемониях — в Консуалии и в празднике Опы Консивии, — то это объясняется тем, что оба божества тесно связаны друг с другом, и близость жриц в одной церемонии ведет к их близости также и во второй. Однако Латте без всяких колебаний отвергает свидетельство Тертуллиана под тем предлогом, что якобы Тертуллиан что-то «напутал» по поводу Конса, хотя на самом деле он никакой путаницы не создал. Далее, христианский ученый якобы делал ошибку за ошибкой и, зная только день опиконсивии 25 августа, якобы заменил в своих указаниях 25 августа на 21 августа; Форум и Регию он якобы заменил на Цирк, а также, вместо Опы говорит о Консе. Наконец, — не понятно, как и зачем, — великого понтифика заменил фламином Кривина: совершенно ясно указанный в тексте обряд 21 августа исчезает и заменен ритуалом 25 августа. Если только не хотеть заранее уничтожить — документ за документом — весь материал о фламине Квирина, то разве не разумнее было бы не подвергать сомнениям не вызывающее подозрений, и продолжать считать, что 21 августа, праздник Конса, имел свои обряды, которые совершались на алтаре Конса, что 25 августа, праздник Опы, имел свои ритуалы, проводившиеся в ее часовне, и что именно фламин Квирина совершал обряды в первом случае? Робигалии включают жертвоприношение собаки и овцы Робигу (Robigus), олицетворявшему болезнь зерновых — «ржавчину». Это редкий случай, когда силе зла посвящен культ. Праздник отмечается согласно календарю Пренесты (CIL. I2, c. 316–317) около пятого камня, отмечающего тысячу шагов дороги Клавдия Августа. Овидий в качестве поэтической вольности называет это божество Робигом, как само бедствие, и только он говорит о lucus — роще, посвященной этому духу. Овидий говорит, что он встретил священнослужителей, совершающих ритуал в честь этого праздника, когда он возвращался из Номента. Это совершенно не согласуется с указанием места праздника в календаре, так как возвращающийся из Номента в Рим путешественник следует по Номентантской дороге, а не по via Claudia (дорога Клавдия Августа). От Моммзена (который цитирует Ov. Pont. 1, 8, 43–44) до Франца Бёмера (Fast. II, c. 287) предлагались различные приемлемые способы уладить это недоразумение, но, в конце концов, возможно, что Овидий здесь допустил неточность. Однако совершенно невозможно, чтобы он ошибся в том, что характерно для этой церемонии: с одной стороны, в выборе жертвенного животного, одно из которых — собака — встречается редко, и, с другой стороны, в том, какой священник проводит церемонию и совершает жертвоприношение. Но этот жрец — фламин Квирина, в уста которого поэт вкладывает долгую молитву, соответствующую такому пониманию Квирина, которое особенно поддерживалось августовой пропагандой (о ней речь пойдет позднее): это Квирин миролюбивый. Кажется, Латте не вполне уверен в своих суждениях. На с. 67 он не оспаривает присутствие жреца. Он пишет: «Около пятого камня, отмечающего тысячу шагов дороги Клавдия Августа, фламин Квирина приносит в жертву овцу и собаку». Но на с. 114 в примечании 1 мы видим противоположное высказывание: Латте здесь выражает мнение, что неточность Овидия в отношении имени (Robigo вместо Robigus) и трудности пути, на которые указывает упоминание Номента, лишают всякой ценности его свидетельство в отношении священнослужителя. В этом суждении Латте смешивает второстепенное — одна или две вольности, допущенные поэтом, — и главное — то, в чем он не мог ошибиться, не сведя на нет интерес и пользу от всего отрывка. Хотя присутствие его фламина не декларируется, все же здесь следует вспомнить о празднике Квирина — Квириналиях, — который отмечался 17-го февраля. Этот праздник относится к самому древнему известному нам циклу ежегодных церемоний. И вот, единственный ритуал, приуроченный к этому дню, называется stultorum feriae (праздники дураков) — последняя часть праздника Форнакалий (Ov. F. 2, 513–532). Форнакалии, — праздник обжарки зерна, — отмечался в каждой из тридцати курий отдельно, но не имел точной даты, чем объясняется отсутствие его названия в календарях. Каждый год Curio Maximus (Главный Курион) назначал дату и вывешивал объявление на Форуме. Но бывали опоздавшие — stulti, — пропустившие по незнанию или по небрежности день, намеченный для праздника в их курии. Для этих людей 17-е число было днем «наверстывания упущенного», когда они должны были все вместе «исправиться», выполнив то, что положено. Каковы взаимоотношения между «Праздником дураков» и Квириналиями? Простое совпадение в один день двух независимых ритуалов? Или идентичность? Последнего мнения категорически придерживался Фест, c. 412 (ср. 361) L2, а также эту точку зрения транслирует 89-й Римский вопрос Плутарха. На это есть две причины: во-первых, тот факт, что если Квириналии — не «праздник дураков», то, значит, ни один писатель, ни один римский знаток старины не дал ни малейшего указания относительно их содержания; но в Риме ритуалы не исчезают так бесследно и радикально. Напротив, они выживают, нередко утрачивая даже свое теологическое обоснование; во-вторых, — но это станет интересным лишь после предстоящих ниже рассуждений о самом значении имени Квирин — тот факт, что «праздник дураков» завершает церемонии, которые, под руководством главного куриона, полностью вводят в действие структуру курий. Следовательно, я не думаю, что Латте прав, когда он пишет (с. 113): «Праздник Квириналий 17-го февраля позднее был настолько забыт, что стало возможным назначить на этот день заключительную церемонию Форнакалий — праздника дураков». Утверждать это — означает приписать лицам, игравшим в Риме руководящую роль в сфере теологии и особенно в области культа, бóльшую свободу, чем ту, на которую они считали себя вправе претендовать. Кроме того, как понимать здесь слово «позднее»? Разве Форнакалии и их заключительная часть — самим своим материалом и своей организацией по куриям — не дают нам гарантию своей древности? Впрочем, соображений здравого смысла вполне достаточно для того, чтобы показать, насколько маловероятно исключение из материалов, связанных с Квирином, деятельности его фламина и содержания празднества (хотя такие попытки предпринимаются): если служба фламина Квирина во время Консуалий и Робигалий в одном случае — ошибка Тертуллиана, а в другом — выдумки Овидия, если совпадение Квириналий и последнего действия праздника Форнакалий — это случайность, то благодаря какому чуду эти три якобы непредвиденных обстоятельства привели к совпадающему результату — заинтересовали Квирина одним и тем же — зерном — в три важных момента в судьбе зерна как продукта питания: когда хлеба еще стоят в поле, и здесь им угрожает заболевание («ржавчина»), затем, когда зерно сложено впрок в подземных амбарах, и, наконец, когда римляне, организованные в курии, продлевают сроки хранения зерна, подвергая его обжарке? Если не поддаваться предвзятому мнению, то из этого совпадения вытекают два вывода: в определение Квирина — в отличие от Юпитера и от Марса — входит сотрудничество с другими божествами, причем настолько тесное, что он предоставляет — «одалживает» — им своего фламина. И это сотрудничество касается зерна как собранного урожая, из которого римляне извлекают свою выгоду. Что касается общественной сферы, которой интересуется этот бог, то указание Квириналий подтверждает то, что подсказывает наиболее вероятная этимология[191]. Начиная с Пауля Кречмера, всеми было признано, что Quirinus — производное слово с суффиксом — no- (типа dominus — от domo-), образованное от древнего слова *co-uirio-, которое якобы обозначало сообщество uiri или даже было именем собственным их жилища («Quirium»). По-видимому, упрощая эту этимологию, следует отказаться от воображаемого существительного среднего рода *couirio- и от не менее выдуманного холма *Quirium, и удовлетвориться словом женского рода *couiria-, которое вполне живо в форме curia, обозначающей самое маленькое «подразделение» каждого из первоначальных трех племен[192]. Возможно, Квирин — это не бог каждой curia и ее curiales, а бог всей организации из курий, бог всего народа в целом, и не в качестве некоей неясной moles, а в ее основных подразделениях. Знаменательна судьба другого слова, неотделимого от этих слов — Quirites, — образованного от *co-uirites, — которое служило наименованием римлян, когда они рассматривались в аспекте их общественной и политической организации; и, конечно, не случайно то, что одно из абстрактных слов женского рода, которое церковная наука считала вторичной к Квирину, — это множественное число Virites (ср. viritim), которое можно было бы перевести как «индивидуальности»[193]: то есть материал, объект объединения (co-virites), который возглавляет Квирин мужского рода. Таким образом, занимая место ниже небесного, царственного и священного Юпитера, а также ниже воинственного Марса, самый древний Квирин, по-видимому, покровительствовал римскому народу и сам, либо через своего фламина, находившегося на службе у специальных божеств, следил в первую очередь за обеспечением его зерном. Религиозная, концептуальная структура, которая проявляется в членах этой иерархически организованной триады, теперь известна всем занимающимся индоевропеистикой: это структура, которая — с особенностями, присущими каждому из обществ, — соблюдается как у индийцев и иранцев, так и у древних скандинавов, с большими изменениями или искажениями у кельтов, а также, судя по нескольким «свидетельствам», сохранившимся, несмотря на раннее преобразование традиций, та структура, которая была известна также и неоднократно «наплывавшим волнами» греческим захватчикам — ахейцам, ионийцам. Я предложил для краткости называть эту структуру «идеологией трех функций». Основные элементы и механизмы мира и общества в ней распределяются между тремя гармонично соединенными сферами. Это — в порядке убывания значимости и достоинства — верховная власть с присущими ей магическими и юридическими особенностями с со своеобразным максимальным выражением священного; это также физическая сила и доблесть, самым ярким проявлением которых является победоносная война; затем — плодородие и процветание, с разнообразными условиями и последствиями, которые почти всегда тщательно анализируются и представляются в образе большого числа родственных друг другу, но различных божеств, среди которых то одно, то другое резюмирует всю совокупность в виде перечислений богов, имеющих значение формулировок. Группировка «Юпитер — Марс — Квирин» с присущими Риму нюансами, соответствует типовым спискам, которые встречаются в Скандинавии и в ведической и до-ведической Индии: Один, Тор, Фрейр; Митра-Варуна, Индра, Насатья. За последние четверть века были опубликованы многочисленные исследования (как всей совокупности, так и отдельных частей), посвященные этой теме. Здесь есть и мои работы, и исследования ученых, более компетентных, чем я, в деле всестороннего изучения материала: в немецкой серии исследований, в которую первоначально должна была войти и моя нынешняя «Римская религия», следует назвать книги, которые господа Geo Windengren, Jan de Vries и Werner Betz посвятили иранской, кельтской, германской религиям. Эти книги основаны или будут основаны на признании этой структуры. В отношении ведической Индии я могу лишь отослать к недавно вышедшему исследованию «Три функции в Ригведе и индийские боги Митанни», опубликованному в «Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, Class des Lettres et des Sciences Morales et Politiques», 47, 1961. С. 265–298, а также к фундаментальным трудам господина Stig Wikander. Рациональный предварительный анализ всего того, что было предложено до этих пор, был опубликован под названием «Трехчастная идеология индоевропейцев», Collection Latomus, vol. XXIV, 1956. Однако исследование продолжает развиваться. Оно двигается вперед, т. е. одновременно дополняется и корректируется, а постоянно возобновляющиеся споры и обсуждения, в которых приходится участвовать, с великой пользой способствуют прояснению проблем. Параллельно этому идет более медленное исследование, которое стремится установить, каким обществам в мире, кроме обществ индоевропейцев, удалось прояснить и удержать в центре своего мышления три потребности, являющиеся на самом деле важнейшими повсюду, но которые, однако, в большей части человеческих сообществ просто удовлетворяются без каких-либо размышлений или теорий: священная власть и священное знание, нападение и оборона, жизнь и всеобщее благоденствие. Во всех древних индоевропейских обществах, где она, таким образом, существует как идеология, оказывается весьма трудно понять, проявляется ли структура трех функций также в реальной структуре общества, и, если это так, то в какой мере это сказывается. Ибо совсем не одно и то же — эксплицитно признать эти три потребности и создать практически соответствующее им разделение общественного труда, поскольку люди более или менее исчерпывающе распределены по функциональным категориям — Stände: Lehrstand (обучающее сословие), Wehrstand (военное сословие), Nährstand (кормящее сословие). Так иногда говорили, употребляя слова созвучные, но недостаточные. Особенно это относится к первому слову. По-видимому, действительно быстрый успех, который сопутствовал колоннам индоевропейских завоевателей, был связан с тем, что у них были военные специалисты, особенно специалисты по изготовлению колесниц — таких, как индоиранские màrya, о которых сохранились полные страха воспоминания в египетских и вавилонских хрониках. Удивительное сходство, отмеченное между друидами и брахманами, а также между ирландским ri и ведическим rajan, по-видимому, также указывает на то, что по крайней мере в части индоевропейского мира, несмотря на длительные миграции, сохранились древние типы администраторов, правителей, руководивших сферой священного, и хранителей политико-религиозной власти. Так, две верховных функции должны были исполняться группами, отграниченными от массы, нередко включавшей покоренных представителей исконного населения. На долю этой массы выпало исполнение третьей функции. Однако несомненно также и то, что, завершив эти великие путешествия, большинство групп, говоривших на индоевропейских языках, более или менее рано, а иногда очень рано, на практике от этих рамок отказалось, так что они остались только в сфере идеологии — как способ анализировать и понимать мир. Что же касается организации общества, то здесь эти рамки в лучшем случае создавали идеал, которым дорожили философы, а также питали легенду о возникновении города. Свет истории застает Грецию в момент, когда изменения почти везде уже завершились, так что функциональная значимость ионийских племен стала лишь мифическим фактором. Среди самих индоиранцев только Индия эволюционировала в обратную сторону, ужесточив это архаичное разделение в своей системе трех арийских варн — брахманов, кшатриев, вайш, — доминирующей над четвертой, не арийской системой — шудр. Если Авеста и маздеистские книги, которые от нее зависят, много говорят о трех кастах (или о четырех, причем четвертая каста, как в Ионии, — это сословие ремесленников), то все же нам известно, что ни в ахеменидской империи, ни в других иранских обществах Ближнего Востока никогда «человеческий материал» не разделялся так реально — по крайней мере, не настолько исчерпывающим и устойчивым образом. Следовательно, этот вопрос надо поставить также и в отношении Рима. Однако здесь мы сталкиваемся с более или менее безнадежными условиями, поскольку слишком много веков разделяют возникновение города и описание его в летописях, чтобы можно было ожидать достоверных сведений о самой древней социальной организации, о древнейшем общественном укладе. Если даже какая-нибудь информация сохранилась в VIII в. о разделении общества на три сословия, которые исполняли, соответственно, три функции, то эти последние следы быстро исчезли, во всяком случае, до конца царских времен. Господство этрусков, по-видимому, завершило ее уничтожение. В «Предварительных замечаниях» я подчеркнул, что легенда о войне и о последующем слиянии латинян Ромула с сабинянами Тита Татия следовала — в своем развертывании, в значении эпизодов — такому типу повествования, которому соответствуют у скандинавов (война асов и ванов) и у индийцев (конфликт, а потом тесное объединение верховных богов и Насатьи) легенды, рассказывающие о том, как полное общество богов сформировалось на основе своих будущих составляющих, которые первоначально существовали отдельно друг от друга и враждовали: с одной стороны боги, представляющие первую и вторую функцию, — магическое могущество и военную силу, а, с другой стороны — боги плодородия, здоровья, богатства, и т. д. Точно так же Ромул, сын бога и адресат обещаний Юпитера, возможно, со своим союзником — этруском Лукумоном, искушенным в военном деле, сначала противостоит Титу Татию — вождю богатых сабинян и владыке всех сабинян, а затем создает вместе с ним завершенное и жизнеспособное общество. И вот эта легенда, в изложении которой три вождя со своими соответственными группами хорошо охарактеризованы каждый по одной из функций, — перечитайте первую Римскую элегию Проперция, — предназначена для того, чтобы обосновать самую старинную форму разделения, какая нам известна: три племени, эпонимами которых они являются, причем компаньоны Ромула переименовываются в рамнов, соратники Лукумона получают имя люцеры, а сторонники Тита Татия именуются тиции. Можно ли в таком случае предположить, что три исконных племени (названия которых, кстати, имеют этрусское звучание и, следовательно, были либо изменены, либо, по крайней мере, ретушированы в период последних царствований) действительно были определены функционально, причем ramnes руководили политикой и культом (как и спутники «Рема» у Проперция, 4, 1, 9—26), luceres были военными специалистами (как Лукумон в том же тексте Проперция, 26–29), а тиции имели множество овец (как Татий у Проперция, 30)? Вопрос остается открытым: я привел довольно много причин для положительного ответа, но ни одна из этих причин не является определяющей. В IV и III вв. составители римской истории имели весьма смутное представление о племенах времен до Сервия, и вполне возможно, что рамны, люцеры и тиции получили функциональную окраску только в «легенде о возникновении», восходящей к индоевропейской летописной традиции, вследствие чего здесь господствует структура трех функций. Однако для нашего исследования, посвященного анализу упорно сохранявшихся представлений без погони за недоступными фактами, эта неопределенность не столь важна. Для нас гораздо важнее выявить имплицитную философию, теорию мироздания и представления об обществе, на которые опираются легенды о возникновении Рима, чем пытаться «выкроить» то, что в них выпадает на долю истории. Интерпретация архаичной триады богов позволяет лучше понять причины, которые ведут к ее проявлению в бóльшей части формулировок, а также в перечисленных выше ритуалах. Вообще, везде, где эти три бога появляются вместе, оказывается затронутым все общество в целом и его структура, развертывается вся энергия, наполняющая действия богов и людей. Fides, Добрая Вера, покровительствует всем отношениям между отдельными людьми и между группами людей. Без нее ничто невозможно ни на каком уровне; от нее зависят согласие и взаимное доверие римлян, гармония между правами и обязанностями всех, где бы они ни родились или возвысились, не говоря уже об устойчивом мире или справедливой войне с иноземцами или же о сделках между людьми и богами. Следовательно, понятно, что три главных фламина участвуют в посвященном ей культе и олицетворяют доброе согласие и гармонию всего, что они представляют, проезжая через город все вместе в одной повозке и вместе совершая жертвоприношения. Риск, от которого обет богам должен обезопасить армию, populus Romanus Quiritium, как говорится в формуле, тем не менее всеобъемлющ. И поэтому вполне естественно, что до общего, никого не различающего в отдельности упоминания «divi Novensiles, dii Indigetes», затем «divi quorum est potestas nostrorum hostiumque[194]», ведущий церемонию — перед лицом вводящего бога и в присутствии специалистов по ведению военных действий и по местам, где эти действия происходят, — обращается к триаде богов, которая господствует над всеми тремя составляющими частями жизни общества. Ancile — священный двудольный щит, упавший с неба, и одиннадцать остальных, неразличимых, сделанных по его подобию, и, следовательно, перенявших его святость, представляют собой одну из главных групп талисманов Рима. Их число, по-видимому, является намеком на все время года с точки зрения его деления на части, но их доблесть защищает другую совокупность — всех римлян. Когда мы будем в более полном объеме рассматривать по отдельности Марса и Квирина, мы попытаемся понять, что означает одновременное участие двух коллегий салиев в весенних обрядах и в осенних ритуалах. Однако уже сейчас мы можем констатировать, что многие другие индоевропейские народы также имели талисманы, упавшие с неба: например, золотые предметы, которым скифы поклонялись каждый год (Геродот, 4, 5); три камня, которым поклонялись в Охромене, называя их Харитами (Paus. 9, 38, 1). Эти талисманы ясно и четко отсылали к трем функциям: для Харит это вытекает из воззвания к четырнадцатой обитательнице Олимпа (3–7), которую правильно истолковал комментатор (мудрость, красота, доблесть)[195]; в отношении скифских талисманов это следует из самого их перечисления (культовый кубок, боевой топор, плуг с ярмом). В случае салиев — tutela Jouis Martis Quirini (защита Юпитера, Марса и Квирина) — по-другому выражает то же трифункциональное значение, т. е. полное, всеобъемлющее значение талисманов, которыми они управляют[196]. Здесь будет уместно вернуться к старой теории в отношении военных доспехов, доставшихся в качестве трофеев, — единственному ритуальному свидетельству о триаде, которое пощадил Латте. Эта теория известна в двух вариантах. Согласно одному варианту легенды, считается, что opima (добыча полководца) — это только доспехи, которые вождь римского народа снял с вождя врагов, и все они приносятся в дар Юпитеру Феретрию (Подателю добычи). При этом отмечается, что такой подвиг встречается редко. Действительно, только три римских вождя, согласно легенде, смогли его совершить: сам Ромул, победивший царя Caenina — Акрона и считавшийся основателем этого культа; затем Косс, победивший царя города Вейи Ларса Толумния (428 г.); наконец, Марцелл, победивший вождя галлов инсубров (Gaulois Insubres) Виридомара (222 г.). Второй вариант, более нюансированный и наиболее подробно изложенный Фестом (c. 302 L2), опирается на Книги понтификов через свидетельство Варрона. В нем приводится (из того же источника) «закон Нумы Помпилия». Текст содержит несколько искаженных слов и имеет несколько пробелов, которые можно надежно восстановить или восполнить, но и здесь есть некоторая путаница, которую прояснить можно только с помощью интерпретации, предлагающей более связное учение. Spolia optima (доспехи, снятые с неприятельского полководца) появляются каждый раз, когда побежденным оказывается вождь врагов, даже если победитель — не римский вождь лично. Так же, как в предыдущем варианте, их имеется три вида, но это число уже не просто результат случайных исторических обстоятельств, оно входит в определение: первые должны быть пожертвованы Юпитеру Феретрию, вторые — Марсу, третьи — «Янусу Квирину». В первом случае в жертву приносится бык, причем от имени государства. Во втором случае это солитаврилия[197]. В третьем случае — ягненок. Кроме того, тот, кто непосредственно снял доспехи с поверженного вождя врагов, одолев его, получает в первом случае 300 монет; по-видимому, во втором случае — двести, а в третьем случае — только сто. В этом варианте, точно так же, как и в другом, прилагательные prima, secunda, tertia (первый, второй, третий) трактовались обычно в соответствии с денежным курсом того времени[198], и Сервий (Aen. 6, 859), не колеблясь, пишет, смешивая оба варианта легенды, что Ромул (в соответствии с законом его преемника Нумы!) пожертвовал первые optima spolia Юпитеру Феретрию, вторые Косс даровал Марсу, а Марцелл пожертвовал третьи Квирину. Такое толкование возможно, так как речь идет о легенде, а легенда выдерживает все, что угодно, но все же оно кажется странным: здесь Нуме приписывается не только распоряжение, но и пророчество, согласно которому во всей римской истории будет только три повода для совершения этого ритуала, причем указываются следующие друг за другом его варианты. Поэтому Латте предпочитает, дополнив и гармонизировав текст Феста, предложить другую интерпретацию, действительно более приемлемую, но в которой он усматривает (я не знаю почему) свидетельство «влияния понтификов на систематизацию римской религии», тогда как казуистика существует с незапамятных времен. «Таким образом, — говорит он, — посвящение Юпитеру оружия вражеского вождя было связано с условием, чтобы римлянин, убивший его, осуществлял командование по своему усмотрению. В том же смысле существовали вторые и третьи доспехи в зависимости от того, совершил ли подвиг руководитель римского войска без независимых ауспиций или простой солдат. В двух последних случаях жертвы следовало приносить не Юпитеру Феретрию, а одни дары — Марсу, другие Янусу Квирину». Т. е. здесь первые, вторые, третьи понимаются уже не в соответствии со временем, а в соответствии с уровнем статуса — в зависимости от его значимости. Если такое толкование обосновано, то распределение трех видов доспехов с неприятельского плеча между богами поразительно согласуется с трифункциональным объяснением триады: Юпитер получает доспехи из рук царя (rex) или от «главнокомандующего», замещающего царя, которому — в момент получения им ауспиции — он дал небесные знаки. Марс получает доспехи, завоеванные офицером в качестве просто военного специалиста, без личных ауспиций, которые, впрочем, так же, как в первом случае, придали бы ему религиозную значимость[199]. Наконец, Квирин получает доспехи, завоеванные рядовым солдатом, ничем не выделяющимся из этой организованной массы людей, которая отражается в его имени *Couirīnus[200]. Не проявляется ли здесь функциональное различие трех богов, приспособленное к обстоятельствам, связанным с войной, и заставляющее их характеризовать «своих людей» в соответствии с одним и тем же воинским поступком, что оставляет последнему из названных — Квирину — незначительную, но подлинную часть его определения? Мы только что мимоходом упомянули, что у других индоевропейских народов, в противоположность малому числу покровителей верховной власти и единственности покровителя военной силы, «третья функция» нередко дробится, распределяясь среди целой толпы богов-покровителей. Это легко объясняется: за исключением, может быть, наших обществ атомной эры, руководить, молиться, сражаться — довольно простые виды поведения по сравнению с бесконечным множеством отдельных видов поведения в частных случаях, которых постоянно требуют возделывание различных почв, скотоводство, управление богатствами, принимающими все более разнообразные формы, наблюдение за здоровьем, за плодородием, и даже опыт чувственных наслаждений. Так, например, в ведической Индии, на этом уровне рядом с многообразно доброжелательными Ашвинами (Aivin) группируются такие богини, как Сарасвати — олицетворенная река, Вóды — богини-специалистки по размножению, а также Пушан — владыка стад, Дравинода — даритель богатств, и многие другие. В Риме подобная ситуация, как мы видели, выявлена благодаря замечательной таблице видов деятельности фламина Квирина. В то время как фламины Юпитера и Марса, как кажется, строго привязаны к культу своих богов, фламин Квирина действует на службе сельскохозяйственного Конса — мужского соответствия Опы, совершает умилостивительное жертвоприношение Робигу («ржавчине» зерновых) и, по-видимому, участвует в parentatio (почитании усопших предков) загадочной Ларенты, сказочно богатой и щедрой благодетельницы римского народа. Это разнообразие, — из которого Виссова сделал вывод, что жрец Квирина был лишен своего прежнего предназначения, связанного именно с Квирином, и получил, с грехом пополам, новые обязанности впоследствии, — напротив, вполне соответствует природе этого бога, если понимать его так, как мы предложили. Однако легенда о возникновении Рима поразительным образом формулирует содержание и развитие этой теологемы. Когда Ромул и Тит Татий — персонажи, которые в этой эпической сцене воплощают и иллюстрируют первую и третью функции, — прекращают войну и создают завершенное римское общество, они занимаются также и религиозными делами, они учреждают культы, соответствующие функции каждого из них. И вот, в то время как Ромул учреждает только один культ — культ Юпитера, предполагается, что Тит Татий вводит в Риме целый ряд культов, список которых приводит Варрон (L. L. 5, 74): дал обет Опис, Флоре, Вейовису и Сатурну, Солнцу, Луне, Вулкану и Суманну, а также Ларе, Терминусу, Квирину, Вер-тумну, Ларам, Диане и Луцине[201]. Конечно, этот список разнороден и частично анахроничен, поскольку в него входят такие божества, как Диана, Солнце, Луна, которые, по-видимому, не относятся к древнейшему римскому фонду, и такие, как Юпитер Статор, приписываемый Ромулу. Этот список несет на себе печать того века, в котором работали первые летописцы. Тем не менее, в отношении смысла, в отношении уровня богов, он весьма гомогенен и соответствует тому, что эти летописцы все еще сознавали и чувствовали, и какой смысл они вкладывали в воображаемую «сабинскую составляющую». Из четырнадцати божеств, которые, таким образом, сопровождали Квирина, семь различными путями связаны с земледелием и сельской жизнью (Опа — календарная спутница бога Консуалий; Флора, Сатурн, Термин, Вертумн; Вулкан, которому приносят жертвоприношения 23 августа одновременно с Опой и Квирином, весьма вероятно, чтобы обезопаситься от пожаров, уничтожавших урожаи; Лары — покровители участков земли и перекрестков); два божества благоприятствуют рождениям (Луцина, Диана); два бога (Солнце и Луна) — это светила, которым в римской религии отводится лишь роль регуляторов времен года и последовательности месяцев. Один или, возможно, два бога (Ведий, Ларунда — по-видимому, вариант имени той, в честь которой праздновались Ларенталии) имели отношение (или слыли имеющими отношение) к подземному миру. Короче говоря — и почти неизвестный Сумман этому не противоречит, — эти боги распределяют между собой участки, угодья, плодородные земли, и Квирин — лишь один из членов этой большой семьи. Одним из результатов раздробления третьей функции — в Риме, как и в других местах — стало то, что ни один из богов, бывший частичным покровителем, не мог ее представлять адекватно в схематичных списках, резюмировавших трехчастную структуру. Даже тот, кого обычно принято ставить во главе «канонического списка», не может быть совершенным. Причина его предпочтения всем другим часто вполне ясна. Например, у ведических индийцев я уже поминал выше список Митра-Варуна, Индра, Насатья, который подтверждается у пара-индийцев Евфрата открытием миттано-хеттского договора XIV в. до н. э… В третьем члене триады два близнеца Насатья или Ашвин — спасители во всем, как греческие Диоскуры (по преимуществу — врачи). Кроме того, один конкретный факт наводит на мысль, что сначала они были покровителями скотоводов, причем один из них покровительствовал разведению лошадей, а другой — разведению быков, т. е. они покровительствовали двум видам животных, в которых были заинтересованы люди в древних индоиранских сообществах. Наконец, тот факт, что они близнецы, создает символические отношения между ними и плодородием, плодовитостью вообще. Это не мешает тому, что в других формах списка они уступают свои полномочия в третьей функции водным богиням, либо еще в других списках — Пушану: специалисту, более сведущему в скотоводстве, чем они сами; а в некоторых списках они уступают собирательному понятию Víśve Devā́ḥ, которое в этом случае получает значение «организованного множества богов», т. е. всей совокупности богов в их тройственном разделении, без учета их особенностей. Эта последняя детализация богов напоминает существующих в земном мире вайш — третий из социальных слоев. Это члены víśaḥ, «кланов», определяемых окружающей социальной средой, тогда как два первых класса названы брахманы, кшатрии. Эти наименования образованы от названий их принципов: bráhman — это «святой, священный принцип», независимо от его точного значения, а kṣatrá означает «могущество, сила». В Риме, в имени Квирин подчеркивается как раз понятие «организованного множества»[202], которое включено в канонический список. Однако Квирин сам по себе в столь малой степени представляет «третью функцию» в целом, что напрашивается мысль, не удостоен ли он этой чести лишь для того, чтобы его фламин мог заниматься более материальными аспектами того же уровня: забота о зерне, о подземелье. Сам праздник Квирина отличается двойственностью, неоднозначностью: в нем сочетаются обработка зерна и уважение к народу, распределенному по куриям (curiae) под надзором главного куриона. В связи с этим понятно, что в особых обстоятельствах канонический список «Юпитер, Марс, Квирин» стал восприниматься как недостаточный или даже неподходящий, и что третий член в нем был заменен другим божеством третьей функции — тем, что можно назвать, следуя за легендой, «богами Тита Татия». Следует отметить еще одно обстоятельство, касающееся царя[203]. Во времена республики, Регия на Форуме, «дом царя», была центром религиозных дел. Именно в ее стенах проходили совещания понтификов, и там же находилась администрация главного понтифика. И хотя это не было храмом в собственном смысле слова, все же, по крайней мере, там хранились священные предметы, а также в этой обстановке совершались культовые церемонии. И предметы, и церемонии (явно архаичные) сохранялись — так же, как сам царь — вне процесса развития идеологии. Там неоднократно случались пожары, после которых надо было все восстанавливать. Раскопки выявили очень простой план, соответствующий тому, что из других источников известно о тогдашних обычаях. Вполне вероятно, что прежде чем спуститься в долину, в то самое время, когда их владения ограничивались Палатином, цари (reges) имели Регию такой формы[204]. В той Регии, которая находилась на Форуме и имела весьма небольшие размеры, главное строение представляло собой трапецию почти прямоугольной формы, которая была разделена на три помещения, следовавшие одно за другим. В одном помещении — бóльшем по размеру, чем другие — находился очаг. Два других — меньших — помещения были почти равными по размеру. Вне рамок правления понтификов религиозные действия, которые там совершались, были весьма различны по характеру. О двух из этих церемоний в текстах специально говорится, что они совершались в двух отдельных sacraria — часовнях, которые весьма соблазнительно отождествить с двумя меньшими помещениями, считая, что другие действия осуществлялись в главном помещении, в дополнительных помещениях и во дворе[205]. 1. Некоторые церемонии проводились священными лицами высшего ранга — царь, царица, а также фламиния Юпитера: во все рыночные дни нундины она приносит в жертву барана в честь Юпитера (Macr. 1, 16, 30); 9-го января, — в агоний — первый новогодний праздник — Янусу, богу «января»и богу всех начал; царь, первый среди общины приносит в жертву барана, первого от стада (Ov. F. 1, 318; Varron L. L. 6, 12)[206]; во все календы священная царица (regina sacrorum) приносит в жертву Юноне либо свинью, либо молодую овцу. Если Янус и Юнона, которым служит царская чета, здесь рассматриваются как регуляторы времени в самом широком смысле слова (начало каждого года, начало каждого месяца), то жертвоприношения в рыночные дни (nundinae), которые совершает в честь Юпитера фламиния Юпитера, носят, по-видимому, политический характер. В самом деле, легенда приписывает введение ежемесячного празднования этого для Сервию Туллию, причем здесь указывается цель: «для того, чтобы приходило множество людей из сельской местности в город для урегулирования дел между деревней и городом» (Cassius, в Macr. 1, 16, 33); «для того, чтобы люди прибывали из деревни в город заключать сделки и знакомиться с законами; чтобы законы, принимаемые вождями и Сенатом, доводились до сведения более многочисленных собраний, и чтобы благодаря их сообщению в три рыночных дня (nundinae) подряд, они легко стали известными всем и каждому» (Rutilius, ibid. 34). В общем, все эти культы относятся к первой функции — управление миром и государством. 2. В святилище Марса в Регии находятся военные талисманы Рима, которые подробно рассмотрены в «Предварительных замечаниях»: именно там находятся hastae Martis, содрогание которых считается угрожающим предзнаменованием; и именно там после объявления войны полководец, который назначен ее вести, шевелил (commouebat) щиты, а затем «копье статуи», произнося: «Марс, бодрствуй!» (Serv. Aen. 8, 3: 7, 603). По-видимому, в этом святилище совершалось также жертвоприношение, осуществляемое в Регии салийскими девами, вырядившимися в одежду салиев, с апексами[207], одетых в военные плащи, о чем говорил Цинций (в Fest. c. 419 L2). 3. Наконец, второе святилище (sacrarium), куда нас только что привело другое обсуждение, это святилище Опы Кон-сивии — богини изобилия, родственной Консу. Оно известно из указания Варрона (L. L. 6, 21) и из заметки Феста (c. 354 L2). Первый говорит, что эта часовня была настолько священна, что туда входить могли только девы Весталки и sacerdos publicus, т. е. великий понтифик. Второй говорит о сосуде особого типа (преферикул), «который используется для жертвоприношения в таинствах Опы Консивы». Таким образом, «дом царя» объединяет (или, скорее, располагает рядом и разделяет по трем местам) культы, относящиеся совершенно очевидно к верховному божеству, к войне, и к изобилию. Вполне естественно, что царь всего общества, несмотря на особую близость к первой функции, не может не интересоваться двумя остальными функциями. Однако польза от такого объединения заключается в том, что Опа — другое божество из «группы Тита Татия» — получает ту представительную роль, которую канонический список главных фламинов предназначал Квирину: таким образом, Регия помещает третью функцию не в сферу народа-потребителя, а прямо в сферу продукта питания[208]. Как мы видим, предварительное рассмотрение триады не было бесполезным. Намеренно ограниченное тем, что вытекает из положения или деятельности трех старших фламинов, а также из некоторых связанных с ними данных, это рассмотрение не исчерпывает, конечно, в полной мере Юпитера, Марса или Квирина эпохи царствования, однако оно дает надежный и точный итог, несколько определенных и согласующихся друг с другом тезисов, опираясь на которые можно постепенно исследовать все материалы о трех богах. Именно к этому расширенному исследованию мы сейчас и приступим, стремясь в каждом случае достигнуть двух целей: обогатить исконный образ, который сформировался сначала, а также проследить судьбу этих представлений на протяжении всей их истории. Однако необходимо напомнить одно методическое правило, которое часто забывают, что приводит к риску создания большой путаницы. В описании божества характеристика того, как оно действует, гораздо более показательна, чем список мест, где оно проявляется, обстоятельств, которыми это сопровождается, и поводов, вызвавших его вмешательство. Важное божество неизбежно является объектом обращения к нему с просьбами всех, везде и по любым вопросам. Иногда это касается неожиданных областей, далеких от его основной сферы. Тем не менее, божество здесь действует, и если ограничиться указанием на необычное место, где случилось его вмешательство, то этот момент может оказаться присоединенным без разбора к другим — главным — его проявлениям, из чего может быть сделан вывод, что это божество не поддается ограничительному описанию, что оно «неопределенно» или «многозначно». Напротив, если наблюдать не за тем, где, а за тем, как оно действует, то почти всегда можно констатировать, что во всех своих, даже самых странных, действиях оно сохраняет постоянный образ действий и постоянные приемы. Целью данного исследования является выявление этих способов действия. Крестьянин будет взывать к воинственному богу, моля о том, чтобы он оберегал его поле. Бог в этом случае не будет «сельским», как это приписывается Церере, а останется воинственным. Полководец будет просить верховное божество об удачном исходе войны, которую он ведет. При этом бог будет не столько воинственным, сколько главенствующим. И Юпитер, и Марс послужат хорошей иллюстрацией к этому правилу.


Глава III ЮПИТЕР
Само имя Juppiter — по крайней мере, корень Jou- (*Diou-) — является общим для всех народов Италии: а в более или менее хорошо сохранившихся формах его можно обнаружить и в оскском, и в умбрском языках, и в латинских наречиях. Более того, образование его ясно, и никто не оспаривает его индоевропейского происхождения: оно присутствует в языке Вед — Dyáuḥ (Div-), в греческом — Ζεύς (∆ιf-). Его буквальный смысл сохранился в ведическом, где это слово служит одновременно названием бога и звательным падежом. Оно означает «небо». Этимология подсказывает семантический оттенок: «светящееся небо». Однако здесь очень часто допускают первую ошибку. Поскольку и древность, и прозрачность слова являлись общепризнанными, был сделан вывод, что исконный Юпитер сводился к тому, что означало его имя. При этом исходили из значения ведического названия бога, звучавшего так же и означавшего только «небо». В этом слове содержалось указание на универсальное отцовство, что присутствовало также в выражении Dyáu pitā[209]. Считалось, что именно это (и только это) предки римлян нашли в своем наследии. Однако это рассуждение, показавшееся многим авторам столь убедительным, что они даже не стали его формулировать, игнорирует два факта. Один из этих фактов хорошо известен всякому, кто изучал пантеоны народов, называемых полуцивилизованными: не существует исключительной взаимосвязи между именем бога и его определением, между этимологией и пониманием божественного концепта. Другой факт известен тем, кто занимается сравнением религий родственных народов: боги, имеющие разные имена, могут в параллельных структурах занимать равнозначные места. И наоборот, боги, имеющие одно и то же имя, могут «пострадать» и соскользнуть на различные места. Ни один скандинавский бог не носит имени, присутствующего в ведической мифологии, однако отношения между Одином, Тором, Фрейром (или отношения между Ньёрдом и Фрейром), нередко перечисляемыми именно в этом порядке, соответствуют отношениям между Варуной, Индрой и Насатьей в самом старом трифункциональном списке, известном у индийцев. И наоборот, при зороастрийской реформе Митра получил атрибуты и функции Индры, изгнанного и отброшенного к демонам. Омонимия Юпитера и Dyàuh Pitä не позволяет даже делать вывод об их гомологии. Такой вывод недопустим еще и потому, что греческий Зевс обладает сложностью, подобной той, которая присуща Юпитеру, и отдаляет его от простоты и незначительности Дьяуса. Единственное, на что наталкивает этимология, — это то, что действительно во времена далеких истоков (причем не в эпоху римских и греческих истоков, а во времена индоевропейской предыстории) *Dyeu-, в соответствии со своим именем, был всего лишь тем, чем продолжал оставаться Dyauh. Однако уже в некоторых местах индоевропейского пространства, а затем на промежуточных этапах, вклинившихся между этим единством и появлением италийцев и эллинов, водворившихся в своих соответственных областях, могли иметь место изменения, которые продвинули этого бога — не имевшего большого масштаба и как бы запутавшегося в своем огромном, но пассивном, натуралистическом значении — на активные позиции, которые уже в самых ранних свидетельствах характеризуют как Юпитера, так и Зевса[210]. И Зевс, и Юпитер остаются небесными богами, но они также являются, с одной стороны, верховными богами, а с другой стороны — громовержцами. Ни в одной из этих характеристик их ведический гомолог не омонимичен им; ведь в Ригведе верховными богами являются Варуна и Митра, а громовержцем — Индра. Даже в качестве небесного бога (бога-неба) Юпитер отличается от Дьяуса. Пока они не подпали под влияние греков, римляне, по-видимому, не слишком интересовались тем, какими могли быть во вселенной отдаленные перспективы, и какие там могли быть знамения. В их религии даже Солнце и Луна почти не фигурируют, а звезды и вовсе не играют никакой роли, как и небосвод. Для латинского Города небесный свод и то, что находится за синевой, чередующейся с темнотой, имеет не большее значение, чем то, что находится за океаном. Дьяус был всем этим: ведическая космография различает внизу — землю, pṛthivī, с ее подземельем, а наверху — отдаленное небо, dyáuḥ, которое иногда имеет что-то запредельное. В промежутке между ними находится antárikṣam, что приблизительно соответствует атмосфере. Такая отдаленность Дьяуса влечет за собой соответствующую теологию — неактуальную, лишенную действия, если не вовсе пассивную. Греческий Зевс — внук и наследник Неба, Урана, более сравнимого с ведический Небом, — остается целиком в пределах неба, однако захватывает атмосферу и действует главным образом в атмосфере: вершина его Олимпа находится в «промежуточном пространстве». Римский Юпитер спустился на целый этаж: хотя его первые святилища располагались на весьма скромных возвышенностях Города, он (так же, как они) близок к равнине. Результатом такого развития стало (как в Греции, так и в Риме) то, что, по-видимому, еще с доисторических времен, и Зевсу, и Юпитеру дано орудие скорее атмосферное, чем небесное, — гром и молния. Действительно, в своем «природном» аспекте Юпитер владеет не спокойным светом или теплом, а громом и молнией, сопровождающимися в качестве видимых проявлений грозой и дождем. Даже такой эпитет, как Lucetius, известный также оскам, который на первый взгляд кажется относящимся непосредственно к свету и который эллинизированные римляне именно так и понимали (Serv. Aen. 9, 570; etc.), — на самом деле указывает на полыхание молнии или грозового разряда. В достопочтенной поэме салиев употреблен звательный падеж в форме Leucesie в контексте, где речь идет о громе. И Юпитер не стал дожидаться ни примера Зевса, ни ухищрений этрусских Книг о молниях — для того, чтобы общаться с людьми с помощью этого знака, к которому фламиния Юпитера проявляла великое религиозное чувство. И если другой эпитет — Elicius — не имеет в виду грозовой разряд, как полагали некоторые древние эрудиты и как предполагается в легенде о возникновении Рима, где речь идет о том, что Юпитер поразил громом царя Тулла Гостилия, и не к месту упомянут Elicius (Громовержец), то, очевидно, этот эпитет относится (как думают многие современные авторы) к отпиранию хранилищ воды, содержащих дождь[211]. И хотя нет полной уверенности в том, что именно Юпитер был адресатом ритуала, носившего, скорее, магический характер, — обряда lapis manalis, когда через ворота Капены вносился камень, который носили по всему городу во время засухи (Fest., c. 255 L2, ect.), — тем не менее Юпитер так ясно осмыслялся как владыка дождя, что сравнительно поздние церемонии, такие как Nudipedalia[212], также проводившиеся с целью вызвать дождь, естественно связывались с ним (Petr. 44, ect.). Наконец, будучи богом близкого неба, он демонстрирует на нем ауспиции — знаки, которые в качестве верховного бога он подает правителям Рима с помощью птиц, а авгуры — истолкователи Юпитера О. М., как их назовет Цицерон (Leg. 2, 20), — наблюдают их в очерченной воображением части неба. Уже некоторые стороны теории молний, особенно теория auspicia, выходят за пределы «природного» аспекта Юпитера; они относятся к его аспекту как верховного бога. Как rex, коллега и небесный наставник земного царя, Юпитер именно в этом качестве обретает свой статус и свой авторитет. И, конечно, именно в связи с этим он в наибольшей мере поддался воздействию медленной эволюции и резких изменений, которые преобразовали политическую жизнь римлян. Хотя свидетельства о главенстве Юпитера становятся все более многочисленными, особенно после его водворения на Капитолии, тем не менее, его верховная власть, несомненно, существовала с самых древних времен. Основные факты были отмечены в описании самого древнего Юпитера, в частности, это проявляется в комплементарности его фламина и царя, а также в покровительстве, которое он оказывал царским договорам и политическим сделкам царей, какими являлись нундины. К этому можно добавить не вполне понятный праздник Poplifugia[213], характеризуемый как «праздник Юпитера», о котором ничего не известно, но который, по-видимому, составляет пару с Regifugium[214], что указывает на взаимосвязь populus ~ rex, которую можно понимать только в политическом смысле. Политика и право, могущество и правосудие — сходятся (по крайней мере, в идеале) во многих отношениях; другим элементом престижа Юпитера (как и Зевса, а также верховных богов ведической Индии — Варуны и Митры) является его роль свидетеля, гаранта, мстителя в клятвах и договорах, в жизни частной и в жизни общественной, в торговых отношениях между гражданами Рима или между ними и иностранцами. В классической поэзии хорошо известен несколько «грекоподобный» образ бога, который «санкционирует» обязательства сторон, заключающих договор, ударом грома. Архаические ритуалы, менее зрелищные, как раз основываются на этой склонности бога. Например, обряд фециалов — священников, которые требуют от народа, потенциально настроенного враждебно, исправления несправедливости, а затем объявляют ему войну в благочестивой форме, после чего заключают с ним мир. Юпитер Лапис, называемый так в определенных обстоятельствах по камню, который фециал бросает, произнося проклятие, по-видимому, неотделим от очень древнего Юпитера Феретрия, малюсенький храм которого на Капитолии служил хранилищем этого камня. Клятва связана с Юпитером, но также и с Дием Фидием, причем отношения между ними являются предметом дискуссий: был ли Дий Фидий первоначально богом верховного уровня, близким к Юпитеру, но не зависевшим от него? Ведал ли он клятвой, как на это указывает слово fides, входящее в его имя, и управлял ли он всей сферой верности, оставляя Юпитеру верховенство в политико-религиозной сфере, царской власти и ауспициях? Или же, напротив, Дий Фидий представлял лишь один аспект, будучи специальным именем Юпитера, а затем обрел некоторую автономность? Если действительно здесь имеются два различных божества, то, во всяком случае, они взаимопроникаемы: Юпитер тоже следит за клятвами, а Дий Фидий тоже испускает молнии. Его храм имеет отверстие, направленное к небу, а его именем клянутся только под открытым небом. Решению этой проблемы (по правде говоря, не слишком важной) не способствуют ни отношения Дия Фидия с очень плохо известным персонажем по имени Семо Санк, ни сходство его имени с именем умбрского бога, покровителя крепости в Таблицах Игувия (дательный падеж Fisie Sansie, и т. д.). Значимость этого свойства, признаваемого только у Юпитера в иды каждого месяца, также оспаривается. Однако это отношение важно в любом случае: в иды торжественная процессия поднималась по Священной дороге, сопровождая фла-мина Юпитера, который вел белого ягненка на Капитолий и там приносил его в жертву. С другой стороны, dies natalis (день рождения) храмов Юпитера обычно падает на один из дней Ид. Некоторые римские знатоки древности объясняли этот факт небесными и лучезарными особенностями Юпитера (Macr. 1, 15, 14). По их мнению, иды, в принципе связанные с полнолунием, были самым ярким моментом месяца, поскольку за сиянием солнца следовало сияние другого светила. Это хитроумное объяснение недостаточно убедительно, хотя некоторые современные ученые его признают. Дело в том, что Юпитер почти не проявляет себя как собственно бог света, а его предполагаемая связь с луной также ничем не подтверждена. Я лично предпочитаю рассматривать этот вопрос в совокупности с «особыми днями» месяца, принимая во внимание календы — день, противостоящий идам, — которые также имеют своего покровителя — Януса. Причина этого последнего покровительства ясна: Янус — бог всех начал, бог первого (prima), а календы — это первый день месяца. Разве право Юпитера на иды: вершину месяца — сочленение прибывающего двухнедельного срока и убывающих двух недель — не основано на симметричной причине, поскольку (согласно формулировке Варрона) Юпитер владеет высшей должностью (summa)? Календы и иды принадлежат соответственно обоим богам — так же, как по тем же причинам им принадлежат на местности холмы: Янусу — холм-порог Яникул, а Юпитеру — холм-крепость Капитолий. В отношении января, месяца Януса, Фасты Овидия используют весьма настойчиво эту философию двух превосходных степеней: говоря о Календах, Овидий неоднократно ссылается на то, что Янус является первым (стихи 64, 163, 166, 172, 179–180). Затем, 13-го числа месяца, т. е. в первые иды, которые встречаются в поэме, он использует другие вариации: на этот раз в отношении «величия», magnus (587), и даже по поводу ряда слов magnus maior maximus (603–606), ловко присоединенного к титулу Augustus, достигая кульминации в summus (608: summos cum Joue) — это слова самого Варрона. Это понятие весьма важно, поскольку оно подчеркивает, на Капитолии, второй эпитет Юпитера — Jupiter O. M., тогда как первый отмечает его доброту или великодушие, щедрость. Короче говоря, Юпитер стоит на вершине порядка богов и даже порядка мироздания, которые осмысляются как пирамиды святости: он — summus, maximus. Это — удачное выражение его качества как верховного главы[215]. До сих пор фигура Юпитера оставалась отличающейся от всех и сохраняла тот образ, который создавали для Юпитера исконной триады служба его фламина и его место в мировоззрении легенд о царях. Даже если некоторые его черты усилились, а другие добавились, — все они подходят богу всемогущему по существу, живущему в небе, близком к людям. Но сводится ли он к этому? Действительно ли вносит ограничения его описание по его первой функции? Разве он не всемогущий бог, действующий в равной мере и в двух других сферах: войне и плодовитости? Многие латинисты придерживались такой точки зрения. В самом деле, было бы удивительно, если бы ему было отказано в такой деятельности: верховная власть — это нечто sui generis[216]. Если можно так сказать, только она одна из всех «специализаций» богов по своей природе имеет право надзирать над остальными, следить за всем, иначе она не была бы верховной властью. Более того, имея дело с дождем, как мог бы царь небесный не быть связанным с земледелием? Однако здесь необходимо соблюдать осторожность в двух отношениях. Во-первых, следует хорошо уточнить и проанализировать факты, подлежащие рассмотрению. Нельзя ограничиваться общим взглядом на них и непродуманно «наклеивать ярлыки». Это привело бы к тому, что факты утратили бы свое своеобразие. Кроме того, необходимо (учитывая то, что было сказано в предыдущей главе) внимательно присмотреться к обстоятельствам, в которых Юпитер представляется связанным с земледелием или с войной, важно выявить, какими способами он проявляется. В отношении земледелия приводимые факты немногочисленны. Прежде всего вспоминают несколько эпитетов. Назвать их связанными с культом не решаются. Они взяты из набора из одиннадцати слов, собранных св. Августином в Граде Божием, 7, 11 и 12. Однако Ruminus — эпитет, который христианский полемист высмеивает больше других (половина главы 11 посвящена насмешкам над полом бога), — по-видимому, не имеет того значения, которое ему приписывает Августин («кормящий молоком животных»). Видимо, в ряде слов: Румина, Руминальская смоковница, Юпитер Румин — присутствует само имя Рима — Rome — с этрусскими гласными (ср. напр. Ruma% — «римлянин»), тщательно сохраняемое в священном языке. Два других эпитета — Юпитер Альмус (Благотворный), Юпитер Пекуния (Денежный), которому св. Августин посвятил всю обвинительную речь в главе 12, — требуют уточнений в отношении обстоятельств, в которых они были употреблены, или даже вообще подтверждения. Эпитет frugifer (плодоносный), встречающийся у Апулея и в одной поздней надписи, кажется литературным и не дает аргументов для обоснования происхождения. Наконец, в сочетании Юпитер Фарреус (Полбенный[217]), эпитет не имеет в виду обычную связь Юпитера с пшеницей, а относится только к ритуалу высшей формы бракосочетания — конфарреации, название которой объясняется тем, что новобрачные во время церемонии держали пшеничный пирог. Краткий эпитет указывает лишь на то, что бог, выступая в обычной для него роли гаранта обязательств, возглавляет символические действия этого обряда, в котором должен участвовать его фламин и который он сам может прервать ударом грома (Serv. Aen. 4, 339). Что касается ритуала, то главное сводится к следующему. Прежде всего, в сельской религии (Cato Agr. 132) — это пиршество, daps, — практически мясо, жаренное на огне, и бокал вина — culigna, urna vini[218], — предлагаемые Юпитеру перед зимним или весенним севом (Fest. c. 177–178 L2), откуда происходит слово Dapalis (трапезный). Понятно, что крестьянин в этот момент своих трудов обращается с мольбой к богу, который может вызвать грозу или задержать ее. Однако в формулировке, которую приводит Катон, речь идет только о приношении, никакая просьба не упоминается, и ничто не наводит на мысль о ней. Если у крестьянина и есть такая мысль, то он держит ее в глубине души. Употребленные здесь слова — daps, pollucere — подразумевают другое: Юпитера угощают (это и светское, и религиозное значение слова pollucere, обращенного, по-видимому, к ненасытному Геркулесу) во время пира, который, по крайней мере символически, обилен и великолепен — amplum ac magnificum, как говорит Фест по поводу производного слова dapaticum (величественный). Короче говоря, два раза в году римский крестьянин угощает Юпитера, как это делает у Овидия греческий крестьянин, бедняк Гирией, который предлагает в качестве трапезы посетившему его богу сначала скудные овощи, а затем вино и единственного быка, которым он владеет (Ov. F. 5, 522). Ясно, что Овидий приукрашивает здесь греческую легенду, излагая ее в стихах согласно римским правилам ритуала. Это проливает свет на римский обряд: это церемония типа потлач, причем крестьянин про себя рассчитывает на возмещение расходов, но ничего об этом не говорит, никак свои мысли не проявляет и ни о чем не просит. Он принимает Юпитера как знатного гостя, как если бы тот попросил его о гостеприимстве. Иначе говоря, с окраской, характерной для сельских дел, Юпитеру оказывается почтение как высшему. Такая интерпретация подтверждается родственной церемонией — epulum Jovis[219]. Это — городской обряд, не подвергшийся сельскому влиянию, из которого Юпитер получает прозвище, параллельное имени Dapalis (Трапезный), — эпиграфически засвидетельствованное Epulo (Устроитель пира). В городе или в сельской местности, на Капитолии или на вилле, Юпитер требует, как господин, чтобы его почтили едой. Эти почести сводятся к мясу, зажаренному на огне, и бокалу вина — символическому угощению у экономного крестьянина, но горожане устраивают настоящее пиршество, сопровождающееся игрой флейтистов. Во втором случае мы видим, что доказательство существования «сельского» Юпитера, связанного с земледелием, усматривали в том, что ему определенно посвящали два празднества Виналий: летнее — Виналии деревенские (19 августа) — и весеннее — Виналии ранние (23 апреля); а также, по-видимому, несмотря на высказанные недавно возражения, праздник Медитриналии (11 октября). Это посвящение чаще всего объясняют натуралистически — его статусом громовержца. Уже Плиний, повторяя Варрона, говорил об этом (конечно, имея в виду августовский праздник): «Праздник этот был установлен в отвращение бурь»[220] (18, 89), — и далее (18, 284), объединяя замысел трех праздников: «Они боялись за урожай в течение трех периодов, почему и установили дни, Робигалии (25 августа), Флоралии (29 апреля), Виналии» (конечно, праздник 19 августа). Стих 419 сближали со второй песней Георгик, и это здесь весьма уместно, потому что он не был написан для обоснования праздника: «…и хоть созрел виноград, Юпитера все же страшатся». Это объяснение, приемлемое для летних Виналий накануне сбора урожая, следует строго ограничить. Более двух веков назад W. Warde Fowler писал: «Приношение вина естественно может быть предназначено великому богу воздуха, света и тепла». Нет, во фразах Плиния и в стихах Вергилия речь идет только об ущербе (metuebant; metuendus; tempestatibus leniendis), который Юпитер, властитель грома, молнии и грозы, может нанести почти созревшему винограду. Именно от этого его просят воздержаться. Ни у Плиния, ни в тех немногих сведениях об обрядах, которые до нас дошли, нет и речи о каком-либо позитивном участии Юпитера в созревании плодов, а только это могло бы сблизить его с богами, называемыми сельскими и связанными с земледелием. Однако имеются два затруднения. Погода, Wetter[221], — дождь и ведро, в зависимости от момента, — не менее важна и для других культур, кроме винограда: ведь поля и сады тоже могут быть опустошены засухой или бурями. Почему же просьбы или благодарность людей адресуются Юпитеру только по поводу винограда? С другой стороны, даже для винограда это объяснение недостаточно убедительно; выражение благодарности людей Юпитеру выходит за пределы тех конкретных обстоятельств, когда Юпитер, властитель гроз, вмешался или, вернее, воздержался. Существуют не только Виналии во время сбора винограда, но и другие праздники вина: в частности, Виналии 23 апреля, когда первины молодого вина преподносятся богу до того, как начнется какое-либо светское потребление вина. И вот, — говорит Плиний (18, 287), — здесь речь идет уже не о винограде, а о виноградном соке, искусно обработанном человеком: Vinalia priora… sunt VIIIKal. Mai. degustandis uinis instituta, nihil ad fructus attinent. («первые Виналии. в VIII день майских календ проводятся дегустацией вина, плоды не важны».) Следовательно, не оспаривая того, что римляне заботились также о защите своих виноградников от громогласных причуд Юпитера, — почему не воспользоваться всем, что может дать тот бог, к которому обращены просьбы? — представляется, что покровительство Юпитера объясняется иначе и шире. В самом деле, его не интересует, как растут гроздья винограда, но его интересует, как их используют, что из них делают, т. е. его интересует продукт — вино. В самом деле: первое проявление интереса Юпитера начинается с первой созревшей гроздью винограда — которую, в промежутке, имеющем место во время священной службы (inter exta caesa et porrecta), — должен срезать фламин Юпитера, как бы завладевая ею от имени бога. Второе проявление интереса Юпитера, очевидно, относится к молодому вину, которое поспевает несколькими неделями позже. Третье проявление его интереса — во всяком случае, главное — имеет место следующей весной и относится к уже готовому вину. И связь здесь имеется не «сельская» — не связь между Юпитером и растением, а связь между Юпитером и вином. И именно эту особую связь между этим богом и этим продуктом, именно этот обычай необходимо понять[222]. В мифе о Виналиях (гораздо менее искусственном, чем иногда утверждают, а скорее — просто «омоложенном» его включением в миф об Энее) действует только Юпитер — верховный властитель. Согласно самому распространенному варианту легенды (хотя во всех вариантах сохраняется главный мотив), в ответ на щедрое обещание Энея, который предлагает Юпитеру все вино Лация, он дает Троянцу преимущество над его нечестивым противником, желавшим иметь это вино для себя: он отдает в его власть Лаций. В этом, по-видимому, заключается решение проблемы. Вино — не такой продукт, как хлеб и зелень. Оно не питает, оно опьяняет. Оно обладает чудесным могуществом. Опьянение — это отнюдь не только плебейский разгул. В состоянии опьянения — впадая в иллюзию, более сильную, чем реальность, — человек превосходит самого себя. Так обстоит дело с сильными опьяняющими напитками, и, естественным образом, нередко их требуют, получают или крадут боги высших уровней: главный вор и потребитель сомы — это не божество, покровительствующее растениям, а Индра, бог-воин, который совершает свои подвиги в состоянии опьянения; вор и обладатель лучшего медового напитка — это не один из ванов, богов плодовитости животных и плодородия полей, а Óдин, верховный властитель и волшебник, царь богов; а опьянение, которое он черпает в напитке, приносит с собой знание и поэзию. В конечном счете, признанное за Юпитером право на этот опьяняющий напиток, epulum (торжественный пир), который ему подают на Капитолии, и daps (трапезу), которой его угощает крестьянин и которая частично состоит из вина, — восходит к одной и той же концепции: это почести, оказываемые верховному небесному властителю, а вовсе не сделки с неким сельским богом. Что же касается интереса Юпитера к войне или к воинам как таковым, то единственный древний ритуал, который можно было бы привести в пример, — это ритуал, связанный с доспехами, доставшимися в качестве трофеев. Но здесь интерес бога определен и ограничен условием, доказывающим, что и в этом случае он остается в пределах сферы верховной власти. Согласно одному из вариантов, все доспехи вражеского вождя, доставшиеся в качестве трофеев, посвящены Феретрию (Feretrius). Согласно другому варианту, — если толкование Латте верно, как я думаю, — все доспехи, доставшиеся в качестве трофеев, также считаются принадлежащими вражескому вождю, но они делятся на три вида в зависимости от того, был ли победитель полководцем из Рима, воевавшим от своего имени, либо офицером, либо простым солдатом. Только в первом случае они отправляются к Юпитеру, а остальные, соответственно, идут к Марсу и Квирину. Совершенно ясно, что главным здесь является понятие римского полководца и верховного вождя. Посвящение, которое Тит Ливий, придерживавшийся первого варианта легенды, вкладывает в уста Ромула, одержавшего победу над Акроном, царем Ценины, прекрасно выражает это уточнение (1, 10, 6): «Юпитер Феретрий, я принес тебе это оружие [побежденого мной] царя. Его принес тебе я, Ромул, царь, победитель». Здесь дело происходит между людьми и богом — между царями. Летописи приписали Ромулу учреждение второго культа, связывавшего Юпитера с войной, — культа Юпитера Статора. Они сделали это с помощью указания на гораздо более позднее событие: освящение у подножия Палатина храма в честь этого бога — согласно обету Атилия Регула в 294 г. Хотя невозможно извлечь никаких выводов об истоках, но сам эпизод, по крайней мере, показывает, чего ожидали от Юпитера на полях сражений в то время, когда составлялся этот рассказ. Победа, о которой Ромул просит Юпитера и которую получает, не является результатом хорошо начатого сражения, это — настоящее чудо: поворот в ходе боевых действий. Без вмешательства бога это сражение, наоборот, закончилось бы поражением римлян. У Тита Ливия Ромул говорит (1, 12, 4–6), подняв свое оружие к небу, когда толпа его солдат, спасающихся бегством, уже дотащила его до ворот Палатина: «Юпитер, это по велению твоих птиц я заложил здесь, на Палатинском холме, первый фундамент города… О, отец богов и людей, отведи хотя бы отсюда врагов, избавь от страха римлян и останови их позорное бегство». И это не поступок «бога войны» или «бога-воина» среди военных действий. Для чуда используются средства иного рода, чем физическая сила и даже чем непоколебимое мужество: с помощью неожиданного и необъяснимого изменения в сердцах воинов Юпитер превращает беглецов в героев и без всяких причин дает им преимущество, которого они не заслуживали. Что таковы были смысл культа и значение имени Статор, — вытекает из события 294 г. и из обета консула, который был, несомненно, историческим фактом. Тит Ливий говорит (10, 36, 11): «Он дает обет посвятить Юпитеру храм, если тот остановит бегство римской армии и если при возобновлении сражения легионы самнитов будут победоносно разгромлены». Результат проявился немедленно. Всеобщим усилием ситуация была восстановлена и произошло очевидное чудо: «Казалось, что сами боги выступили на стороне римлян, настолько легко была одержана победа…», — продолжает Тит Ливий. А в 207 г. Гасдрубал собирался перейти через Альпы, чтобы присоединиться к своему брату Ганнибалу в Италии; может быть, именно на это воспоминание полагались понтифики, признавая за богом способность совершать переворот в безнадежных ситуациях, когда избрали храм Юпитера Статора в качестве репетиционного зала для хора девушек, которые должны были пройти по всему городу, распевая гимн Ливию Андронику (Liv. 27, 37, 7)[223]. Мы видим, что отношения, даже легендарные, между Юпитером и войной не только в царские времена, но и в начале III в., весьма отличаются от тех, которые были бы присущи богу-воину: и здесь снова способ действий больше характеризует его, чем обстоятельства. Отметим в качестве контрдоказательства в другой части преданий о царях открытую враждебность Юпитера по отношению к самому технически оснащенному из четырех до-этрусских царей — Туллу Гостилию, которого он, в конце концов, поразил молнией[224]. Так древний верховный небесный властитель оказывается описанным полнее и более связно. Хотелось бы иметь возможность наблюдать за ним во время великих исторических кризисов, но в отношении первых кризисов (по-видимому, самых важных) слишком ненадежны те сведения о событиях, которые содержатся в преданиях. Что произошло с культом во время господства этрусков? Под именем Tinia (Тиния) этруски чтили бога, которого они уподобили Зевсу. Как и римляне, они чувствовали его родство с Юпитером. Может быть, в легенде об авгуре Атте Навии — а авгуры, истолкователи Юпитера, имели прочные традиции, причем именно этот авгур считался лучшим из них всех — сохранилось воспоминание о конкуренции между национальной концепцией и концепцией оккупанта. Тарквинию приписывается честь создания плана храма на Капитолии. Однако ему приписываются и другие идеи нововведений: он хотел изменить систему первоначальных трех центурий всадников (и, судя по их этрусским именам — Ramnes, Luceres, Titienses, — действительно была проведена некая реформа в этом отношении). Самый известный в то время римский авгур Атт Навий утверждал, что нельзя было ничего предпринять в этих делах, не пронаблюдав за птицами, т. е. не спросив совета у Юпитера, находившегося у себя в небе. Или же, согласно другому мнению, когда царь задал ему вопрос, он заявил, что птицы были против. Разгневавшись и стремясь высмеять мешавшее ему искусство, Тарквиний сказал ему: «Ну что же, прорицатель, делай свои наблюдения (inaugura) и скажи мне, возможно ли то, что я задумал». Навий взял свой жезл — оставшийся (после жезла Ромула) вторым знаменитым жезлом римской легенды, — посмотрел на небо и ответил утвердительно. Царь расхохотался и вытащил из-под своего плаща бритву и точильный камень. Затем он сказал: «Я собирался попросить тебя разрезать этот камень этой бритвой!» Навий невозмутимо взял в руки оба предмета, и бог совершил чудо: бритва разрезала камень. Тогда Тарквиний отказался от своего плана (Liv. I, 36, 2–4). Невозможно выяснить, какие намерения в отношении религии имели этрусские цари при возведении храма на Капитолии. Между прочим, что касается Юпитера, то, по-видимому, речь шла о том, чтобы «этрускизировать» верховного бога латинян, которому, конечно, не только корпус авгуров доверял свою стойкость и свои надежды. Изгнание Тарквиниев остановило этот процесс, однако, в то же время, отмена царской власти и замена монархии аристократической республикой, затем обострившийся конфликт между патрициями и плебеями — повлияли на представление освободившихся римлян об их боге, хотя серьезных изменений в нем не произошло. Одна из следующих глав будет посвящена всему, что было создано на Капитолийском холме. Сам же Юпитер, по-видимому, следующим образом вышел из этрусского кризиса. В отношении третьего лица древней триады «Юпитер— Марс — Квирин» возникла неясность вследствие нового социального расслоения общества, связанного с именем Сервия Туллия, но это окончательно потеряло свою актуальность. Неясность сохраняется еще в отношении некоторых обрядов, но выражаемая ими концептуальная структура устарела. Трое старших фламинов по-прежнему на почетном месте, как и священный царь, стоящий над ними. Однако религиозная деятельность и могущество в сфере религии находятся в руках понтификов. Верховный бог, которого новые союзницы-женщины ни в чем не ограничивают, отныне легко становится «великим богом», он отнюдь не остается теперь просто первым из великих богов государства. Его величие еще возрастает вследствие того, что теперь, после исчезновения его земного коллеги, он является единственным реальным rex Рима, единственным, кто сохранился от ушедших времен и утраченной идеологии. В самом деле, хотя в летописях бывшие цари иногда описывались наподобие магистратов (возможно, коллегиальность Ромула и Тита Татия была подсказана двойным консульством), тем не менее, различные причины наводят на мысль, что оба эти человеческих типа коренным образом отличаются друг от друга, и что первые цари были более авторитетными, и они были ближе к верховному богу, чем самые высокопоставленные деятели Республики и Империи в более поздние времена. Именно тогда Юпитер стал Optimus Maximus: звание, для которого нет никаких оснований искать греческие истоки и которое вполне соответствует именно римским юридическим формулировкам. В заключительной части речи О своем доме Цицерон совершенно четко говорит, что бог был назван Optimus благодаря милости и Maximus благодаря силе[225]. Но это ставит Капитолийского Юпитера в неловкое положение: минуя Республику, он продлевает существование свергнутого режима. Минуя временных магистратов, которые проявляют к нему уважение и которых он соглашается инаугурировать, он остается образцом того, что потеряло право на существование, того, что официально является предметом ненависти, того, что честолюбивые люди иногда мечтают восстановить. Иногда кажется, что он их поощряет, но в конце концов он отказывается от них, будучи одновременно и царем, и Юпитер Либер, Юпитер Либертас: эти имена засвидетельствованы в надписях и, по-видимому, их следует интерпретировать в политическом смысле. В период «ненадежной» истории в V и IV вв., правда, невозможно точно проследить ход событий, однако идеология, поддерживающая знаменитые повествования, тем не менее, в какой-то мере проливает свет на это и показывает, чем был Юпитер в глазах людей того времени. Один из поводов для нареканий, который Камилл (Camille), победитель в Вейентской войне, дал своим хулителям, — это то, что он праздновал свой триумф на белых конях, которые считались привилегией Юпитера (Liv. 5, 23, 6), и Камиллу пришлось отправиться в изгнание. Его современник Манлий (Manlius) — самый известный из тех, кто хотел стать царем, — доходит до того, что принимает себя за капитолийского бога, которого он спас от галлов. Когда он оказывается в тюрьме, его друзья упрекают граждан, говоря: «Он, которого они почти сделали богом, и который — по крайней мере, по прозвищу — был равным капитолийскому Юпитеру, влачит жалкую жизнь в темнице, во власти палача, а они допускают это» (Liv. 6, 17, 5). И не случайно за affectatio regni (горячее желание власти) — так же, как и за преступления против республики и за государственную измену — полагалось нести наказание у Тарпейской Скалы. В ходе истории создалась ассоциация Юпитера О. М. с миссией господства и завоеваний, которую Рим для себя открыл: управление народом (regere populos)[226]. Первой идеей такого рода, по-видимому, стало предсказание, связанное с головой — caput humanum, — найденной землекопами при закладке фундамента храма. Для начала оно обещало Риму власть над Италией. Позднее мы увидим, какую пользу извлекли из этого предания в связи с войной с Ганнибалом. Борьба между патрициями и плебеями в самые важные моменты была отягощена вымыслами и анахронизмами: страсти и тщеславие не благоприятствуют спокойному ходу истории. В отношении активного и пассивного участия концепции Юпитера, из этих рассказов все же можно выделить некоторые константы. Имеются две противоположные тенденции, но — поскольку Риму необходимо жить, — то в конце концов этот конфликт улаживается. С одной стороны, как бог традиции, Юпитер отнюдь не благосклонен к успехам плебса. Он замедляет это развитие, выражает свое недовольство. С другой стороны, будучи богом государства, он не углубляется в конфликт, оставаясь верховным богом обеих сторон, и так же, как патриции, уступает «ходу истории». Решающим этапом стал доступ плебеев к исполнению должности консула — менее, чем через четверть века после галльской катастрофы (367 г.). Конечно, есть доля правды в аргументах, которые (по словам историков) выдвигали великие люди того времени. Согласится ли Юпитер, которому уже пришлось смириться с тем, что царя сменили консулы, дать знамения новым людям, т. е. людям ничтожным?Высмеяв с человеческой точки зрения наглость плебеев, сенатор Аппий Клавдий Красс, ярый противник этих планов, формулирует чрезвычайно важную возникающую религиозную проблему (Liv. 6, 40–41):«Всем управляют знамения — во время войн или в мирное время, внутри страны или вне ее — это всем известно. Но, согласно обычаям наших предков, в чьих руках находятся ауспиции? Мне кажется, что в руках патрициев, ибо к ауспициям не прибегают, когда надо назначить магистратом плебея. И ауспиции принадлежат нам настолько, что не только народ, назначая магистратов-патрициев, может сделать это лишь опираясь на знамения, но даже мы сами, имея знамения, назначаем интеррекса[227], не нуждаясь в избирательных голосах народа… Разве не будет это уничтожением ауспиций в нашем государстве, если отнять их у патрициев, которые одни только имеют право обладать ими, и назначать консулами плебеев?»Опасения сенатора были обоснованными. Когда по настоянию Камилла патриции в конце концов пошли на компромисс, город опустошила чума, от которой умер Камилл: это было явным знаком недовольства бога, дающего знамения. Тревожных сигналов становится все больше, так что для восстановления равновесия понадобится чудо озера Курция (lacus Curtius), когда весьма ясный знак подала богиня Земля, близость которой к плебеям известна: на Форуме разверзлась огромная пропасть. Когда же навели справки в Книгах, то узнали, что Земля снова сомкнется, если получит то, что представляет наибольшую ценность для римского народа, и тогда в будущем она будет производить в изобилии то, что будет ею получено. Каждый стал бросать в пропасть священный пироги, деньги, но это не помогло. Наконец, один из знатных юношей, Марк Курций, знаменитый своими военными подвигами, а также своей мудростью, попросил, чтобы его допустили в Сенат. Он объяснил, что нужнее всего римскому городу-государству доблесть его мужчин, и что если среди них найдется кто-то, кто пожертвует собой добровольно ради родины, то Земля будет поставлять множество смелых людей. И тогда, во всеоружии и верхом на своем боевом коне, воззвав к богам, он бросился в пропасть. Вслед за ним толпа стала бросать жертвенных животных, зерно, деньги, дорогие ткани, а также предметы, характеризующие все ремесла, и тут земля сомкнулась (Dion. fragm. 14, 11; Liv. 7, 6, 1–6, etc.). Какую идею несет эта легенда? Политико-религиозному кризису, тревожащему римлян, близкая к плебсу Земля — с согласия остальных богов — предлагает решение. Предмет раздоров — ауспиции — отходит на второй план ради другого обещания. На первом плане появляется типичный воин, увлекая за собой всю воинскую молодежь. Пока он себя не проявил, не помогло ничто из того, что считали драгоценным и бросали в пропасть. А он сам бросился в пропасть, став красноречивым символом воинской деятельности. После него, вслед за ним, опираясь на него как на фундамент, — обрели смысл религиозные жертвоприношения и экономические затраты всего народа, стала реальной польза от них. И после такого преобразования иерархии, в результате которого на первое место вышла вторая функция, — прокладывая дорогу как первой функции, так и третьей, — довольная тем, что ее поняли, Земля положила конец чуду-загадке, от которого исходила лишь кажущаяся угроза. А остался ли доволен Юпитер? Не вполне. Легендарное и, следовательно, важное событие не замедлило произойти и санкционировать наставление Земли (Tellus). Однако Юпитер не преминул снова проявить свое недовольство. Действительно, вскоре после этого консул-плебей впервые повел легионы против врага и потерпел поражение. Ему пришла на помощь другая армия. Но ей тоже не помогла «область священного», хотя ее и возглавлял консул-патриций: auspicia были неблагоприятны все утро — эта задержка не позволила добиться решающего успеха. Однако все спасает жертвенный порыв конницы, молодых equites, мистическим предшественником которых был Марк Курций. Эти всадники вмешиваются в битву в самый трудный ее момент, и история римлян продолжается под покровительством смирившегося Юпитера. Однако в разгар исторической эпохи, в 215 г., когда впервые, как кажется, без конфликтов, и даже с одобрения Сената (Liv. 23, 31, 7–8), были избраны два консула-плебея, бог еще раз разразился громом (ibid., 12–24):
«Когда Марцелл вернулся из армии, были созваны выборы, чтобы назначить консула вместо Луция Постумия. Почти единогласно (ingenti consensu) был избран Марцелл, который должен был сразу вступить в должность. Но именно в этот момент раздался гром. Призванные в связи с этим авгуры заявили, что, видимо, это избрание недействительно (uitio creatum uideri), и патриции стали везде повторять, что боги недовольны, поскольку впервые были избраны консулами два плебея. Марцелл отрекся, и его заменили Фабием Максимом на третий срок консульства».В 215 г., сразу после битвы при Каннах, этот знак свыше — августейший гром — еще не стал предметом хитрости и обмана, как это произошло вскоре, и поэтому можно считать, что все — патриции, плебеи, авгуры, избиратели, и будущий победитель Архимеда[228] — действительно поверили, что этот удар грома реально произошел. Это было последним проявлением настроенности верховного бога против плебеев. Впрочем, на три четверти века раньше патрицианские боги, как и боги плебейские (Юпитер и Марс с омоложенным Квирином — с одной стороны, и Церера и Теллус — с другой) ярко продемонстрировали, что они не соперничают и намерены сотрудничать, используя каждый свои средства, и действовать во благо Рима. В 296 г., через четыре года после того, как в силу закона Огульния (Lex Ogulnia) плебеи были введены в коллегию понтификов и в коллегию авгуров, каждый из двух лагерей — за счет конфискаций — принес крупные дары различным богам, с которыми они были связаны. Благодарность богов последовала немедленно: уже в 295 г. в тяжелом сражении они все поочередно себя проявили, помогая римлянам в зависимости от ситуации. Еще до начала сражения появился волк, который, погнав белку на врагов, направился к римской армии. Один из антесигнатов[229] крикнул, что это victor Martius lupus[230] — знак, посланный Марсом и основателем города Ромулом. Затем на левом фланге консул-плебей Публий Деций Мус, выступая против галлов, неудачно начал бой, проявив больше ярости, чем умения. Тогда он посвятил себя и вражескую армию богине Земли (Телле), неотлучной спутнице Цереры, и Манам (Manes). Сразу же положение исправилось, и великий понтифик смог воскликнуть: vicisse Romanos, defunctos consulis fato[231]. Наконец, на правом фланге консул-патриций Квинт Фабий, изнурив своих противников самнитов, посвятил храм и останки врагов Юпитеру Победителю (Jupiter Victor) и без труда завладел станом врагов после того, как их полководец погиб в последней отчаянной атаке. Прекрасное содействие богов «виктории» римлян! Наконец, хотя патриции с великой охотой хвастливо аннексировали Юпитера, плебеи, наверняка, никогда не считали его богом, настроенным к ним враждебно. Они, скорее, считали его арбитром, которого необходимо убедить, привлечь на свою сторону: если плебеи не ошибались, то как мог бог права и справедливости их осуждать? Самое лучшее, что я могу сделать — это процитировать блестящую работу господина Henri Le Bonniec[232]. Здесь речь идет о зарождении соперничества двух частей общества, о его начальном этапе, о leges sacratae[233] (494, 449), предназначенных для обеспечения охраны вождей плебеев — трибунов и эдилов — в то время, пока они еще не признаны как магистраты государства. Согласно этим законам, всякий, кто дурно обойдется с трибуном из плебеев, убьет его или закажет его убийство, будет проклят, и его можно безнаказанно убить. Между формулировками Дионисия Галикарнасского (6, 89, 3) в отношении первого закона и Тита Ливия (3, 55, 6–7) в отношении второго закона можно заметить следующее интересное различие. Господин J. Bayet сравнил тексты этих двух историков: священный закон Дионисия «выносит против виновного посвящение (sacratio), не уточняя, о каком божестве идет речь, и не упоминая о конфискации имущества в пользу Цереры»; закон Тита Ливия «приносит в жертву Юпитеру голову виновного, а его имущество отдает Церере, Либеру и Либере». Наверняка первая формулировка — более древняя. «Во второй формулировке соблазнительно усматривать следы подлинного договора между двумя частями населения Рима, ибо Юпитер — бог патрициев, а Церера — богиня плебса. Не следует, однако, забывать, что, как говорят, именно Юпитеру плебс посвятил Священную гору, покинув ее для того, чтобы вернуться в Рим после первого отделения». Эта оговорка, по нашему мнению, весьма важна, поскольку она удачно сглаживает слишком схематичную формулировку, в которой Юпитер характеризуется как «бог патрициев»[234]. Даже если допустить, что это посвящение Священной горы Юпитеру «было позднейшим добавлением к летописям», — это точно не доказано. Тем не менее, достоверно известно, что Плебейские Игры проводились в честь Юпитера и что они, очевидно, гораздо древнее, чем обычно считают. Более того, ритуал epulum Jouis, «по-видимому, первоначально был неотъемлемой частью плебейских игр, а отнюдь не частью больших сентябрьских игр». Таким образом, возникает предположение, что и плебеи изначально тоже поклонялись Юпитеру, что, впрочем, вполне нормально, поскольку у народов Италии великий индоевропейский бог имел большое распространение: невозможно утверждать, что плебсу были известны только хтонические боги, даже если в его религии эти боги играли первостепенную роль. Следовательно, мы полагаем, что в той формулировке священного закона, которую приводит Тит Ливий, Юпитер занимает первое место потому, что он является верховным гарантом, которого сообща признавали и плебс, и патрициат. Плебейская триада удовлетворяется материальной компенсацией, и виновный ей в жертву не приносится. Плебс согласился на этот компромисс, так как его собственная богиня могла достойно уступить Юпитеру — верховному богу всего сообщества[235]. Является ли введение культа Юпитера Виктора в 295 г. на поле битвы при Сентинуме свидетельством расширения сферы влияния этого бога на область войны? Это возможно. Однако ситуация эта имеет сходство с той, которая привела в следующем году к возникновению культа Юпитера Статора: консул-патриций дает обет Юпитеру Виктору, конечно, отнюдь не в состоянии паники, чтобы бог перенес чудесным образом эту панику на врага. Он это делает также вовсе не в решающий момент — in ipso discrimine, как это часто делалось. Отнюдь нет. Этот обет был дан как раз в то время, когда битва практически уже была выиграна, когда осталось лишь уничтожить врага. Однако мистически этот момент очень важен. Ведь Фабий только что узнал об обете (devotio) и о смерти своего коллеги, и теперь вся тяжесть и все привилегии верховного командования ложатся на него (Liv. 10, 29, 12–17): разве не естественно при этом для него обратиться к богу вождей? Летописи приписывают два года спустя другому консулу-патрицию — Луцию Папирию Курсору — обет, адресованный Юпитеру Виктору, причем во время не менее знаменитого сражения: сражения, которое принесло ему победу над священными воинами — legio linteata[236] самнитов. Но разве это произошло не потому именно, что этот грозный легион, благодаря ритуалам и ужасным проклятиям, которые ему стали известны от перебежчика, был торжественно посвящен самнитскому Юпитеру (ibid. 38, 3—12) не вызывавшим одобрения бога способом — гнусным жертвоприношением, смешанным убийством людей и скота (ibid. 39, 16)? Примечательна форма, в которой Папирий выразил свой обет (ibid. 42, 6–7):
«Говорят, что никогда полководец не был таким радостным на поле боя, как Папирий, и дело было либо в том, что он был таким от природы, либо в том, что он чувствовал уверенность в успехе. И эту твердость души он проявил тогда, когда не дал отговорить себя от решения завязать бой, не поддался сомнительному предзнаменованию. В решающий момент битвы, когда принято посвящать храмы бессмертным богам, он дал обет, что если он победит легионы врага, то предложит Юпитеру, прежде, чем пить вино, выпить чарку хмельного меда. Этот обет был принят богами, и предзнаменования стали благоприятными».Вспомнил ли радостный Папирий о том, что Юпитер, покровитель всех праздников вина, даровал Энею, пообещавшему ему все вино Лация, победу над противником, говоря о действиях которого Вергилий, использовавший, впрочем, другой вариант легенды (Aen. 8, 483–488), отмечает его ужасную бесчеловечность (infandas caedes; mortua… iungebat corpora viuis[237])? Когда в медленном и ограниченном процессе развития Юпитера возникло влияние Зевса? Очень рано, если (как можно предполагать) идея капитолийской триады пришла из Греции через этрусков[238] и если, с этого времени его компаньонки: Юнона и Минерва — были переосмыслены по образцу Геры и Афины Паллады. Но даже в таком случае это влияние не было глубоким. Оно проявится позднее и без значительного воздействия на культ, когда Юпитер и Юнона составят супружескую пару. Еще позднее, когда к национальным ауспициям добавится (конечно, не слишком характерное для римлян) понятие fatum, fata, с которым Юпитер окажется неоднозначно связан: источник судеб, находящийся под властью судеб — подобно той неоднозначности, с какой Зевс связан с μοίρα, ειμαρμένη[239]. Но если подходить к этому вопросу шире, то следует отметить, что Юпитер — к лучшему или худшему для себя — превратился в Зевса в первую очередь в литературе. И если у Лукреция в его шестой книге (379–342) резкая критика с позиций диалектики идеи громовержца может быть отнесена в равной мере и к римскому богу, и к греческому, то насмешки второй книги (633–639) относятся только к греческому богу, когда речь идет о «детских шалостях» Юпитера. К чести поэтов эпохи Августа следует отметить, что им нередко удавалось, отвлекаясь от преувеличений, подсказываемых великими заморскими образцами, сохранить Юпитеру его значимость и национальный масштаб. Еще до того, как он присоединил к себе на Капитолии двух богинь, Юпитер не пребывал в величественном одиночестве. Его окружали несколько существ. Это были автономные божества, в большей или меньшей степени поглощенные им, а также аспекты, в большей или меньшей мере отделенные от него. Они находились на его уровне, образуя некие структуры. Прежде всего — боги чистосердечия. Один из них — Дий Фидий, бог клятвы — уже упоминался выше. Из того же концепта вытекает персонифицированное понятие Fides (верность), в честь которого в середине III в. Авл Атилий Калатин построил храм на Капитолии, вблизи храма в честь Юпитера О. М. Именно там происходило, как мы знаем, в классическую эпоху ежегодное жертвоприношение, совершаемое главными фламинами, древность которого бесспорна: во-первых, потому, что все службы, проводимые этими фламинами, — весьма древние, а также потому, что во времена республики не возникло ничего подобного. Во-вторых, потому, что сам ритуал включает предписания, опирающиеся на архаичную символику. Следовательно, прав Виссова (с. 133–134), который считает, что храм, освященный Атилием (Atilius), был возведен на месте более древней часовни, как это неоднократно бывало и прежде, с бóльшими или меньшими изменениями общего расположения. Оспаривать саму возможность персонификации абстрактного существования в древнейшие времена Рима значило бы прибегнуть к примитивистским философским постулатам. Как можно отказать этой ветви индоевропейцев, столь свободно пользующихся абстракциями в юридической сфере, в том, что широко представлено в Ригведе, в Авесте, а также в Греции, в Скандинавии и в дохристианской Ирландии? Во всех этих регионах уже в самых древних документах божества не были ничем иным. Когда царская история обрела свою окончательную форму, роль Фидеи оказалась весьма важной: Фидея подавалась как любимая богиня Нумы, основателя sacra и leges (священного и законов), как говорит Вергилий. Царствования Ромула и Нумы понимались как две стороны диптиха, каждая из которых демонстрировала один из двух типов, одну из двух сфер верховной власти, одинаково необходимых, но антитетических: Ромул — молодой полубог, пылкий, неистовый, властный, созидатель, не отличающийся щепетильностью, склонный поддаться искушению тирании. А Нума — старик, человечный, умеренный, мирный, хороший организатор, стремящийся к порядку и законности. И вот, для Ромула бог, осуществляющий руководство, и единственный, кто принимает царские почести, — это Юпитер: тот самый Юпитер, о котором возвещали ауспиции, Феретрий, Статор, — т. е. Юпитер, функции которого роднят его с творческим и неистовым типом личности, присущим самому Ромулу. Предпочтения Нумы направлены в другую сторону: «Нет более возвышенных и более святых чувств, чем чистосердечие, — говорит Дионисий Галикарнасский (2, 75, 2–4), — однако оно не получило ни официального культа, ни частного. Проникшись этой истиной, Нума был первым из людей, кто основал святилище Fides Publica (Народной Фидеи) и учредил в ее честь публичные жертвоприношения, наравне с другими божествами». Этот диптих первых царей появился не на пустом месте. Хотя, конечно, не следует искать его историю, тем не менее, он отражает двойственную концепцию «первой функции», которая обнаруживается в теологии или легендах большинства индоевропейских народов и которая, по-видимому, существовала в Риме. Эта концепция была там правильно понята и просуществовала достаточно долго, чтобы вписаться — подобно многим другим частям традиционной идеологии — в летописный роман[240]. В частности, для ведической Индии двойственность деятельности верховных властителей — фундаментальна, и суть ее сводится к соединению двух богов — антитетических, но в то же время дополняющих друг друга, комплементарных: Варуна — неистовый бог, вызывающий тревогу, даже когда он исполняет свои клятвы, и Митра — персонифицированный договор. Типологический параллелизм Ромула и Варуны, Нумы и Митры удалось выявить в подробном описании, как, впрочем, и параллелизм между третьим царем — Туллом Гостилием и богом «второго уровня» — воином Индрой. Древность соединения, а также различение созидательной деятельности — нередко неистовой, даже когда цели благие, даже при защите праведного, справедливого, и деятельности верховной власти, придерживающейся границ порядка и договоров, — наводят на мысль, что, возможно, первоначально Юпитер и Дий Фидий были разными богами, отдельными друг от друга. Другой аспект Дия Фидия — его аспект Dius, светозарный — находит антитезу и, следовательно, дополнение, в малоизвестном боге Суммане, в отношении которого возникает тот же вопрос о его развитии, как и для Fidius, поскольку в некоторых надписях упоминается «Юпитер Сумман». Был ли это аспект Юпитера, отделенный в большей или меньшей степени от великого бога, или же это был отличный от Юпитера бог, которого позднее в какой-то мере путали с ним? Во всяком случае, это — бог, которого надо умиротворять после ночных гроз (Paul. c. 188 L2), поскольку дневные удары грома исходили от Юпитера и от Дия Фидия[241]. Основываясь на одном тексте Плиния (N. H. 2, 138), некоторые авторы высказали предположение, — которое, однако, отнюдь не вытекает с необходимостью из этого текста, — что Сумман якобы ведет свое происхождение от умения этрусков вызывать молнии. Однако его имя, означающее «ночной», не является иностранным заимствованным словом, как утверждали некоторые. Оно образовано из sub и mane и параллельно обычному названию ночи в армянском языке: c’-ayg, образованному от c’ — «до» и aug — «заря» (точно так же, как c’-erek — «день» буквально означает — «до вечера», erek). С другой стороны, антитеза «день-ночь» является одной из тех, которые в ведической религии применяются именно к паре Митра-Варуна. Другая группировка, в которой фигурирует Юпитер, имеет совершенно другой смысл: в своем храме на Капитолии он дал приют двум второстепенным божествам — Ювенте и Термину. В одной легенде (Dion. 3, 69, 5–6; etc.; иногда называют только одно второстепенное божество) рассказывалось, что когда лишили святости божества, жившие на Капитолии, чтобы построить там храм, посвященный Юпитеру О. М., все они покорно вышли, за исключением этих двух[242], и для них пришлось сохранить часовни в новом здании. Это упорство было, по-видимому, счастливым предзнаменованием: оно гарантировало Риму, как говорили, вечную молодость на занятом им месте, пока более позднее предсказание Термина — весьма смело переделанное — не возвестило Риму, столице мира, империю без границ. Древность, а иногда и достоверность этого были предметом споров. Согласно некоторым авторам, Ювента — якобы всего лишь перевод греческой Гебы, и стала римской богиней только в связи с лектистерниями[243] и суппликациями[244], которыми почтили Геркулеса и Ювенту (Liv. 21, 62, 9). По непонятным причинам она якобы была введена в храм Юпитера О. М. Действительно, трудно допустить, что в это время поддельная и чужая богиня могла быть размещена в таком месте. Согласие с такой точкой зрения равносильно пренебрежению указаниями знатоков старины насчет этой божественной персонификации, которая под именами Juventus, Juventas или в явно архаической форме Juventa была богиней iuvenes (молодых), богиней novi togati (тех, кто только что облачился в тогу). Возрастные группы играли, конечно, важную роль в древнейшей организации Рима, и остается поразительным: 1) что всякий молодой человек, надевая тогу взрослого мужа, должен был «сходить на Капитолий» к Юпитеру (Serv. Ecl. 4, 50), который в надписях получает имя Юпитер Ювентус; 2) что, согласно летописям (Piso у Dion. 4, 15, 5), Сервий Туллий, основатель всей организации общества, обязывал каждого юношу, вступающего в категорию мужчин, положить монету в торс богини Юности. Возможно, это — аспект Юпитера, впоследствии отделенный от бога. Но не могла богиня юности быть запоздалой незваной гостьей. Нет, эти ритуалы ввела не Геба[245]. В отношении Термина (Terminus) в качестве возражения указывалось на то, что в древности не существовало алтаря для Термина, и не было бога Термина. Существовал лишь культ межевых камней, отмечавших границы частных владений, но совершенно неправдоподобно, чтобы на Капитолии когда-либо имелось частное владение. Следовательно, на холме не мог существовать культ Термина во времена, предшествовавшие культу Юпитера О. М. Это так. Однако этот аргумент действенен только против легенды о двух сущностях, но он бессилен против существования с древних времен связи между межевым камнем и Юпитером, который в одной из надписей на земле Равенской (ager Ravennas) — пока единственной — фигурирует как Jupiter Ter (Юпитер Земляной; CIL. XI, 351). Действительно, одновременное присоединение Ювенты и Термина к Юпитеру имеет определенный смысл, который можно выявить с помощью сравнения с индоиранскими фактами. На верховном уровне, около двух великих богов Варуны и Митры существовали два «верховных бога меньшего масштаба» — но более тесно связанных с Митрой. Это Арьяман и Бха-га. Первый — покровитель людей «Арья», как бы формирующий общество. Второй — «персонифицированная часть» — был покровителем справедливого распределения собственности в обществе. Преобразования, связанные с зороастризмом, четко указывают на древний характер структуры, смысл которой понятен: великий верховный бог имеет двух помощников, один из которых занимается людьми, составляющими общество, а второй — имуществом, которое люди распределяют между собой. Таким было — до расширения — значение понятий iuventas (молодость) и terminus (граница): первое персонифицировано и контролирует вступление мужчин в общество, защищает их, пока они находятся в возрасте, наиболее интересном для государства — молодые, юноши. Второе, персонифицированное или нет, — покровительствует или подчеркивает распределение собственности, но здесь речь идет уже не о движимом имуществе (это, главным образом, стада), как в случае Бхаги, а о земельной собственности, что вполне нормально для оседлого общества. Возможно, что эти два интереса верховной власти сначала породили два «аспекта» Юпитера, которые впоследствии, в свою очередь, отделились от бога. Однако прослеженная нами гомология по отношению к индоиранским фактам наводит на мысль, что концептуальный анализ произошел в древние времена, в до-капитолийский период, и что Юпитер принес с собой на Капитолий, ставший окончательным местом его культа, два способа выражения своей природы, а также два способа действий — столь же древние, как и он сам. Что же касается легенды об «упрямых» богах, то она могла сформироваться (как и легенда о человеческой голове) в то время, когда римляне стали требовать от Юпитера великих обещаний, а вскоре и обещаний имперского масштаба, которых не предполагала его миссия в эпоху деревень на Палатине. В этом случае и Ювента, и Термин, по-видимому, означали и гарантировали не то, что входило в их определение, а нечто другое: молодость Рима и стабильность (Dion. 3, 69), firma omnia et aeterna (Florus, 1, 7, 9), либо, как сам Юпитер говорит Венере в прекрасном начале Энеиды (1, 278–279), в речи, в которой каждое слово значительно, и где соблюдаются также структуры другого характера (до-капитолийская триада: говорящий Юпитер, Марс, Квирин; капитолийская чета Юпитер и Юнона):


Глава IV МАРС
Во все доступные для нас времена римляне считал войну сферой Марса (Māuors-Mars). Некоторые современные ученые начали бесплодные споры, обсуждая такие вопросы, как: следует ли говорить «бог войны», «бог воинов» или «бог-воин»? Были ли действительно в древности «чистые» боги войны или боги-вóины, которые не были ничем больше? Эти словесные препирательства оставляют нетронутым впечатление, исходящее от огромной массы материалов. С тех пор, как тщательные исследования Вильгельма Манхардта, посвященные европейскому фильклору, уже сто лет назад открыли возможности для гораздо менее строгого понимания сельской мифологии, и даже для своеобразного агрессивного «панаграризма» его учеников, возникли гораздо более важные дискуссии: не был ли Марс первоначально великим многофункциональным богом и, в том числе, богом войны, либо даже в бóльшей степени сельским богом, чем богом войны? Мнения латинистов разделились. Так, 60 лет назад Виссова твердо заявлял, что Марс был богом-воином, возражая таким ученым, как Wilhelm Roscher, Hermann Usener и особенно Alfred von Domaszewski. Сегодня мы с удовольствием наблюдаем, как Курт Латте выступает в таком же духе против самых недавних высказываний Герберта Роуза, которые запутали все еще больше, добавив сюда охоту. Эта борьба мнений оказалась весьма полезной. Может быть, именно в рассуждениях об «аграрном Марсе» применявшиеся последовательно друг за другом методы исследования лучше всего выявили и свою силу, и свою слабость. Календарь как священная топография, литература, в качестве которой выступали надписи, легенда, рассказывающая о первых веках, и история, повествующая о последних веках, — все это дает многочисленные доказательства существенной связи Марса с войной. Цикл праздников, посвященных Марсу, делится на две группы: одна группа праздников открывает (в Марте, иногда с продлением), а вторая группа замыкает (в октябре) военный сезон. Весной — это праздники Эквирии со скачками на Марсовом Поле (27 февраля и 14 марта), очищением оружия во время праздника Квинкватрии (19 марта) и праздник труб во время Тубилюстрии (23 марта, 23 мая). В октябре совершаются ритуалы Октябрьского коня в иды и очищения оружия 19-го числа. К этому, конечно, следует добавить, в календы, ритуал tigillum sororium[250], который объясняется в легенде о юном Горации — типе воина, подвергаемого очищению после насилия, совершавшегося по необходимости или без надобности во время войны. До закладки Августом фундамента сооружений в честь Марса Ультора (Мстителя) — мстителя за Цезаря и за знамена, захваченные парфянами, — святилища Марса создавались по совершенно определенным, четко сформулированным правилам: подобно часовому, Марсу отводилось место не в городе, где должен царить мир и куда не входят вооруженные войска, а за городской чертой, перед Wildnis (диким лесом). Лес — что бы ни говорили — не принадлежит к владениям Марса. От лесной чащи исходят опасности. В первую очередь, из нее приходит вооруженный враг. Именно на этом поле (campus), носящем имя очень древнего алтаря ara Martis in campo, должен был быть построен дополнительный храм — значительно позднее, в 138 г., — по обету Децима Юния Брута Каллаика. Это также тот знаменитый храм Марса перед воротами города Капена, возле которого собирались войска, предназначенные для боевых действий к югу от Рима (Liv. 7, 23, 3), от которого также начинался религиозный парад кавалерии transuectio equitum[251], великолепие которого привело в восторг Дионисия Галикарнасского (6, 13, 4). Храм у ворот Сарепа — одно из тех римских святилищ, которые просуществовали очень долго: посвященный в начале IV в. до н. э. дуумвиром (duumuir) Тита Квинкция по обету, который он дал во время галльской драмы, этот храм прожил больше восьмисот лет. По-видимому, его разрушил император Гонорий во время ремонта стены Аврелиана, осуществленного за счет сноса соседних зданий. Предположительно, блоки мрамора, использованные при восстановлении ворот Аппия, были взяты из этого древнего свидетеля величия Рима. Святилище Марса (sacrarium Martis) на Регии в Риме — не опровергает правила размещения за городской чертой: оно служит всего лишь хранилищем священных предметов, связанных с войной, а также местом совершения некоторых ритуалов. При таком синтезе всех функций, каким отличался «дом царя», военная функция неизбежно должна была присутствовать[252]. Эти священные предметы на Регии, как и ожидаемое от них содействие, целиком связаны с войной: это щиты и копье или копья Марса (по-видимому, самое древнее копье, символизировавшее Марса, носило имя Марса). Полководец, прежде чем взять на себя командование войсками, приходил сюда, чтобы прикоснуться к этому копью и сказать при этом: «Mars vigila» (Марс, бодрствуй). Обращаясь к богам с мольбой, понтифики присоединяли ко многим из них женские сущности, персонифицированные абстракции, которые в более красочной мифологии были бы их супругами. В нескольких случаях так и произошло в конце концов. В списке, приведенном Авлом Геллием (13, 23, 2), некая Нериена и некие Молы[253] были связаны таким образом с Марсом. Подтвержденные надписями Молы, по-видимому, отсылают к динамическим «массам» (moles), которые мощно приводит в движение война (moliri)[254]. Если оставить в стороне встречающееся в глоссарии прилагательное nerosus, то имя Нериена будет единственным, что в латинском языке осталось от слова *ner-, которое, судя по тому, что наблюдается в индоиранском и умбрском языках, противостояло в индоевропейском слову *uīro-так же, как мужчина в аспекте героического духа противостоит мужчине производящему, порождающему, порожденному, рабу, рассматриваемому как демографический или экономический элемент[255]. Это архаическое существительное, которое, однако, можно было бы приблизительно перевести на классический латинский язык словом virtus, — поскольку vir получил древние значения исчезнувшего *ner, — напоминает ведическое nárya, отличающееся от vīryá. Следовательно, благодаря этому слову, Марс прекрасно входит в сферу, которая у индоиранцев даже дала имя богу, гомологичному Марсу: Индра (*ənro-) — «героический». Анализ условий, обеспечивающих успех борьбы, которую представляют Молы и Нериена, можно найти в скандинавской мифологии. В этих мифах богу Тору — богу, гомологичному Индре и Марсу, — приписываются в качестве сыновей два производных от абстракций Magni и Móđi: megin — это собственно физическая сила (магический пояс, дающий Тору его необыкновенную силу). Во множественном числе это слово имеет форму megin-gjarđar. А módr — это воинственная ярость (по-немецки «Wut», скорее, чем «Mut»), характеризующая главным образом бога Тора и его противников, которыми обычно являются великаны (ср. jötun- móđr — «ярость великана»). Марс — главный, а в древности, по-видимому, единственный бог, которого связывают со старинной италийской практикой ver sacrum (священной весны), продолжавшей на полностью обжитых территориях оккупацию земли путем ее передачи по родственной линии, что увело индоевропейцев весьма далеко от начальной точки. В трудной ситуации группа людей с религиозным трепетом принимала решение отселить, заставить уйти со своей территории нарождающееся поколение, когда оно станет взрослым. При наступлении соответствующего срока Марс брал на свое попечение отвергнутых детей, которые поначалу были всего лишь толпой, и опекал их до тех пор, пока они — изгнав или подчинив себе прежних обитателей — не станут новым оседлым сообществом. Случалось, что животные, посвященные Марсу, вели за собой этих сакранов (sacrani) и становились их эпонимами. Так, волк (hirpus) вел за собой гипринов, дятел (picus) — пицентов, тогда как мамертины получили имя непосредственно от Марса. Из двух легенд о происхождении Рима, конкурировавших между собой, одна, по-видимому, основывалась на священной весне, о которой ясно говорится в другой легенде. Согласно этой последней легенде, Сакраны, пришедшие из Реата, изгнали местных жителей лигуров и сикулов с тех земель, которые впоследствии стали Семихолмием (Fest. c. 414 L2). Известно, как этот рассказ стал каноническим, закрепив легенду о том, что Рим основали сыновья Марса, выкормленные волчицей и по своей воле покинувшие Альбу. В войне Марс связан только с битвой. Его не касается то, что юридически предшествовало началу боевых действий, то, что было до провозглашения войны. Фециалы связаны с Юпитером, а не с Марсом. Его даже не упоминают при констатации несправедливости, с которой фециал начинает свою процедуру, призвав в свидетели двух других богов, входящих в изначальную триаду: Юпитера и Квирина[256]. Но если копье действительно является символом Марса, то в дело вступает этот бог, и только он: в конце процедуры, когда фециал, не произнося никаких призывов, начинает военные действия, бросив на землю врага hastam ferratam aut sanguineam prauestam (копье, окованное железом, или кизиловое древко с обожженным концом)[257]. После того как одержана победа, Марс находится среди богов, которым подобает посвящать доспехи с убитых врагов (Liv. 45, 33, 2), но здесь полководец-победитель сохраняет большую свободу и может выбирать между техническими божествами разрушения: Вулканом и Луа. Этим замечаниям не противоречит тот факт, что во время самой битвы полководец часто обращается не к Марсу, а к другому богу, часто весьма далекому от него по своему типу, обещая жертвоприношения, либо возведение храма, либо учреждение культа — в случае, если сражение закончится победой. Такие обеты редко адресуются самому Марсу. Сражение и победа — это отнюдь не одно и то же, хотя хорошее руководство битвой является условием, обеспечивающим достижение победы. Марс заставляет сражаться, неистовствует, свирепствует в руках и оружии сражающихся. Для Рима он, конечно, отец (pater), но он также Mars caecus (Марс слепой), и вполне понятно, что для того чтобы направить эту силу в решающий момент схватки, in ipso discrimine, полководец стремится заинтересовать в еще неясном исходе борьбы божество, менее вовлеченное в опьяняющие подробности действий[258]. Но, конечно, это различие — не противоположность, и Марс может перестать быть слепым и сам довести до конца месть римлян. Таков Марс. Следует отметить, что по своему типу он в бóльшей мере напоминает греческого Ареса, с которым его отождествляют теологи, чем богов-воинов индоиранцев и германцев. Мы уже указывали на важное изменение: хотя гром и молния присущи его гомологам Индре и Тору, поражает ими не Марс, а Юпитер. Он также не имеет «природного» аспекта. Место его пребывания, место, где он подает знаки — не атмосфера, которая также перешла во владение Юпитера; его животные — земные, кроме дятла, который сам летает низко. Марс обитает на земле, и именно там его ищут и находят римляне — его или его символы. В мирное время его владением является «поле» Марса, во время войны он пребывает с армией. Однако римская армия, как мы знаем, весьма далека от того, чем были военные банды индоевропейцев. Вооружение было обновлено, и уже полностью забыта была техника колесниц, сохранившаяся только в гонках. Легион — потомок мудреной фаланги, а дисциплина в нем важнее, чем furor — движущая сила побед в прежние времена[259]. Поединки составляют исключение. Оставаясь более диким, чем люди, которых он воодушевляет, Марс все же, по-видимому, эволюционировал. В 282 г. он вмешивается в битву против бруттиев и луканцев[260] (Val. Max. 1, 8, 6). На этих землях, испытавших влияние греков, он действует, подобно Диоскурам, инкогнито. Легионы Фабриция Лусцина (Fabricius Luscinus), сначала пребывавшие в нерешительности, были увлечены в атаку и приведены к победе солдатом необыкновенного роста,который появился неожиданно. После боя его стали искать, дабы увенчать его, но не нашли. «И тогда обнаружили, — пишет Валерий Максим, — и сразу поверили, что Mars pater помог в этом случае своему народу. Среди других несомненных признаков его вмешательства упоминали шлем с двойным султаном, украшавший голову бога». Марс выступил как образцовый легионер, а после боя исчез. Рим утратил даже малейшие воспоминания о тех отрядах воинов, которые претендовали на сверхчеловеческие качества и которым магико-военная инициация как бы давала сверхъестественные силы. Но еще гораздо позднее представление о них давала Скандинавия со своими берсерками, а также Ирландия со своими фениями. Другие италийские народы в борьбе с римлянами возлагали надежды на «священные войска». Тит Ливий неоднократно упоминает об этом, описывая самнитские войны: в 9, 40, 9 он показывает самнитов, одетых в белое и вооруженных серебряными щитами — это часть их войск, обычаи священных войск самнитов; затем (10, 38) он рассказывает о том, как для решающей битвы у нас на глазах образовался легион, одетый в полотна этого энергичного народа, — для данных обстоятельств восстановленный при соблюдении архаических процедур и ритуалов. Очень старый священнослужитель совершил обряд, который он позаимствовал из старинного самнитского богослужения[261]: кровавые жертвоприношения в тайном месте, причем знатных людей и прославленных воинов заставляли приносить ужасные клятвы, им навязывали кооптацию, обязательные белые одежды, а также давали роскошное оружие. Как говорит историк, эта поистине священная знать увлекает армию в бой. В Риме, возможно, существовали последние формы такой героической и магической армии, но они в боях не участвовали: по-видимому, это отряды салийских священников, которые мы рассмотрим позднее, когда будем сравнивать Марса и Квирина. То, как они, надев вооружение, танцевали, напоминает существовавшие у древних индийцев отряды «танцоров» nrtù: Индра и его спутники, отряд молодых воинов Марутов, украшенных золотыми пластинками. Модернизация военного дела сопровождается обновлением соответствующей лексики. Это тем более поразительно, что, напротив, множество слов, связанных с «первой функцией», тщательно сохранялось. В латинском языке нет ничего, что соответствовало бы индоиранскому техническому названию воинской функции и власти, опирающейся на силу — ведическому kṣatrá, авестийскому χšaθra, скифскому Ξατρα-, Ξαρτα-(тогда как названия двух других функций брахманов, очевидно, находят соответствия в flāmen (фламин), а vίś (село) — несомненно, в vīcus (деревня)). Исчезли наименования «сильного героя», — ведическое śū́ra, авестийское sūra (сохранившееся в кельтском: ирландское caur — «герой», галльское cawr — «великан»), а также наименования склонного к крайностям юноши — ведическое márya, авестийское mairya (сопоставление с maritus сомнительно и не сохраняет ничего от воина). Утрачены также и индоиранские названия армии, победы, битвы (vibere не является прямым соответствием yudh — «сражение», yúdhyati — «он сражается», которое сохранилось в кельтском: iud- в британских именах собственных). Нет в латинском языке и названия врага (ведическое śátru: ср. галльское catu-, ирландское cath, v.-h. германское hadu- — «битва»). Основной глагол для воина — «убивать» (ведическое han-, etc.) — сохранился в «прирученном» виде в латинских offendo, defendo, infensus. Главное качество воина — ведические iṣirá, iṣmín — «furiosus» существует лишь в сниженном значении в названии гнева — латинское īra (*eisā). Ведическое ójas, авестийское aojah — «физическая сила» — слово, характерное для второй функции, было переведено в первую функцию, применено к другому виду силы и очищено разновидностями augur, augurium. Компенсаторно все понятия этого уровня получили в Риме другие наименования — либо местные (miles, exercitus, legio, for(c)tis, impetus, certamen, praelium, pugna, hostis, infestus, caedere, occidere, etc.), либо заимствованные (triumphus, может быть, classis, dimicare). Это постоянное расхождение, недостаточное для компенсации божественного образа Нериены, заранее делает маловероятной часто предлагаемую этимологию самого имени Марса. За исключением Marmar (Marmor) — странного, возможно, сабинского слова, а также слова carmen у арвалов и окского Mamers, которое, возможно, является сокращением близкой формы (*Marmart-s, *Ma-mert-s), все италийские варианты сводятся к Maūort-, с которым очень скоро сопоставили, основываясь на известном чередовании (в самом латинском quatuor и quadru-), наименование воинов-спутников Индры — мифического мужского союза (Männerbund) ведических гимнов (засвидетельствованное также в пантеоне касситов) Marút-. Когда-то даже думали (Grassmann, 1867), что удалось выявить — в одной из загадочных сущностей «martiales» (марсовых), через умбрский ритуал Игувий, Çerfus Martius, — техническое ведическое наименование śárdho Mā ́rutam («воинского союза Марутов».) Но долгота гласного — различна: в латинском а — долгое, а в ведическом — краткое (приведенное выше слово Mā ́ruta- является прилагательным, производным от Marút путем регулярного удлинения начального слога, а само слово Marút, по-видимому, было образовано от корня, от которого произведено слово márya (ср. греческое μεΐραξ, µειράκιον) с помощью суффикса — ut, засвидетельствованного и в других примерах в ведическом, но который невозможно отнести к индоевропейским временам. Что касается симпатии Марса к одному из общественных классов, образовавшихся в Риме, и неожиданного значения, которое придает ему легенда в период перехода от монархии к республике, то об этом уже говорилось выше. Позднее, когда осложнились отношения между патрициатом и плебсом, Марс остался на стороне патрициев, если можно так толковать народный анекдот, оправдывающий плебейские увеселения 15 марта — в праздник, посвященный Anna Perenna (Анне Перенне). Эта старая женщина, жившая в городке Бовиллы, по преданию, тайком снабжала продовольствием плебеев во время их пребывания на священной горе, за что после смерти была обожествлена. Затем она якобы сразу же стала насмехаться над Марсом, влюбленным в Минерву, в честь которой совершалось празднество вскоре после 15 марта. Согласно легенде, Анна Перенна явилась к богу, нарядившись Минервой (Ov. F. 3, 661–696). Каким бы ни было происхождение этого анекдота, давшего сюжет для народных комедий, он свидетельствует, по-видимому, о том, что плебс не считал Марса своим. Кроме того, плебеи часто были настроены против войн, которые вели патриции. Теперь надо начать великую дискуссию. Этот бог, воинское призвание которого только что было наскоро рассмотрено, не был ли он также первоначально «аграрным Марсом»? Может быть, описанный здесь тип представляет собой один из аспектов, — ставший доминирующим — «великого бога», имевшего гораздо более общее значение, больший масштаб? Сегодня поле для споров гораздо меньше, чем это было полвека назад. Многие из тех, кто еще недавно защищал аграрный аспект Марса, похоже, отошли от крайних мнений, согласно которым этот бог был «сезонным» богом, Jahresgott (Usener) или богом «солнечной жизни природы» (Domaszewski). Теперь уже не выдвигают в качестве аргумента место месяца марта в году и не ссылаются на распределение главных празднеств бога в марте и октябре, весной и осенью, обосновать которое, исходя из черт его характера, можно было на основе военных обычаев и воинской деятельности италийских народов. Весьма далеко по этому пути зашел Domaszewski[262]. Упомянув о празднестве Луперкалий в феврале, он пишет, далее: «Эта странная гонка волчат знаменует также день, когда начинается летняя жизнь природы, которая, разрастаясь с невероятной быстротой, в день рождения Марса, 1-го марта, проявляется в этом боге… Проходят две недели — столько длится не менее чудесный рост бога, и 17-го марта, в день Либералий и agonium martiale (время для мартовских жертвоприношений), он уже взрослый мужчина». По мнению этого автора, наделенного богатым воображением, салии защищают младенца Марса — подобно Куретам из критского мифа, которые танцевали и бряцали оружием, чтобы защитить ребенка Зевса от недоброжелателей. «Они танцуют, чтобы отстранить от малыша враждебных демонов зимы». Что касается октябрьских празднеств, то все обряды «ссылаются на возрождение Марса в следующем году». Ни один текст не дает оснований для таких восторженных высказываний. Теперь также уже не ссылаются на народный обряд Мамурий Ветурий[263]. По-видимому, 14 или 15 марта толпа шла процессией, ведя покрытого шкурами мужчину, и била его длинными белыми палочками, называя его Мамурий (Lyd. Mens. 4, 49)[264]. Говорили, что это кузнец, который воспроизвел в одиннадцати неразличимых экземплярах священный щит, упавший с неба в период правления Нумы. Впоследствии, во время неприятных осложнений, римляне обвинили в этом проявлении неверности по отношению к единственному знаку свыше, который был им дан, ремесленника, повинного в этом, и изгнали его из города, избивая его палками. О человеке, получившем взбучку, народ говорил, что он «изображает Мамурия»[265]. Как заметил H. Usener, здесь совершенно ясно предстает весенний ритуал римлян. Многочисленные примеры его привел Манхардт: это изгнание «мартовского старика» или «старого марта»; дата в середине месяца представляется соответствующей этому имени. Возможно, первые две недели месяца еще связываются с предыдущим годом, т. е. они как бы «старые», а следующие две недели — молодые — открывают следующий год[266]. Но здесь — предел допустимой интерпретации: что бы мы ни думали по поводу легенды про Мамурия, его имя в этом ритуале отсылает к названию месяца, а не к богу. Нет никакой автоматической взаимосвязи между месяцем и его эпонимом. Будучи названным по Марсу в силу особых причин, первый месяц древнего года прожил свою собственную жизнь в фольклоре: ритуалы, посвященные смене года, оказались «прикрытыми» его именем, персонифицированным под оскским наименованием Мамурий. Такой же процесс повторился позднее в отношении февраля, который стал называться консул Фебруариус, негодный соперник Камилла (Camille). Этот обманщик и самозванец якобы был изгнан из города избитый розгами, и римляне якобы сократили на два дня месяц, которому дали его имя. Таким образом оказалось решенной проблема, которая возникала в связи с различными вариантами фольклора, когда искали ответ на вопрос: «Почему в феврале только двадцать восемь дней?» Ясно, что изгнание «Фебруариуса» никак не объясняет ни februa, ни очищения, от которых действительно произошло название этого месяца. Изгнание «старого Марса» также не проливает никакого света на бога, названного этим именем. Избавленное от этих грубых ошибок, «дело аграрного Марса» — в том виде, в каком его защищал последний его адвокат Г. Роуз, — требует доказательств по четырем пунктам: ритуал Октябрьского коня, два крестьянских обряда, описанных Катоном, а также слова из песни (carmen) арвалов. Первый особенно важен, и читатель не удивится размаху, который примет дискуссия. Тексты, в которых идет речь об Октябрьском коне, — немногочисленны. Приведем их: 1. Полибий, 12, 4, b: «… И опять-таки в книге о войнах против Пирра, он (Тимей) говорит, что римляне до сих пор чтят развалины Трои: в определенный день метательным дротиком убивают боевого коня перед городом, на так называемом Campus (поле Марса)». Затем Полибий справедливо отвергает объяснение, ссылающееся на Троянского коня, и напоминает, что почти у всех народов принято приносить в жертву коня перед тем, как начать войну, или перед тем, как все окажутся связанными обязательствами. При этом стремятся обнаружить некие знаки в том, как конь падает. 2. Плутарх, Q. R. 97: «Почему в декабрьские иды (ошибка: в октябрьские иды), после скачек, коня, запряженного справа в победившую колесницу, освящают и приносят в жертву Марсу, почему отрезают коню хвост и несут его на так называемую Регию, где окропляют его кровью алтарь; почему одни люди спускаются с так называемой Священной Дороги (Sacra via), а другие — с Субуры, и начинают друг с другом бой за голову этого коня?» Плутарх рассматривает три объяснения этому: поминовение Троянского Коня; договоренность между Марсом и конем («может быть, потому, что конь — животное необузданное, агрессивное и, следовательно, воинственное, а богам приносят в жертву главным образом то, что они любят и что с ними связано?»); символическое наказание тех, кто использует резвость коней для бегства? Наконец, если жертвой оказывается конь-«победитель», то «возможно, дело в том, что Марс — это бог победы и силы?» 3. Павел. С. 197 L2: «Марсу приносили в жертву коня». Здесь приводятся два объяснения: либо это делалось в память о Троянском Коне, либо дело в том, что — по всеобщему мнению — эти животные особенно нравились Марсу. 4. Фест резюмирует Павла. С. 295–296 L2: «October Equus — наименование коня, которого каждый год в октябре приносят в жертву на Марсовом поле. Этот конь — правый в парной упряжке колесницы, выигравшей скачки. Тогда разыгрывалась серьезная борьба за голову этого коня между людьми с Субуры и между людьми со Священной дороги. Последние хотели ее подвесить к стене на Регии, а первые — к башне Мамилия. Хвост этого коня несли на Регию с такой скоростью, что капли крови с него еще могли упасть на очаг, чтобы и он был причастен к жертвоприношению. Говорят, что коня приносили в жертву Марсу как богу войны, а вовсе не для того, как думает простонародье, чтобы отомстить — поскольку римляне ведут род от Илиона — за то, что Троя были захвачена врагами с помощью деревянного коня». 5. Павел. С. 326 L2: «Голову коня, приносимого в жертву на Марсовом поле в иды октября, украшали хлебами, потому что это жертвоприношение совершалось для появления плода. Обычно предпочитали приносить в жертву коня, а не быка, потому что конь характерен для войны, тогда как быку свойственно производство плодов земли»[267]. Вот как на лекции, прочитанной в Осло в 1955 году и опубликованной в 1958 г., Герберт Роуз очень ясно сформулировал аргументы в пользу аграрной интерпретации[268]: «Даже среди праздников, наилучшим образом согласующихся с воинскими качествами Марса, есть один, который трудно объяснить только как часть культа, посвященного богу войны. Я говорю об Октябрьском коне. Этот ритуал не имеет аналогов ни в Риме, ни где-нибудь еще. Пятнадцатого октября проводились гонки колесниц, по-видимому, на Марсовом поле. Когда гонки заканчивались, лошадь, крайняя в упряжке-победительнице, приносилась в жертву Марсу. Голову и хвост коня отрезали. Жители Священной дороги и жители Субуры сражались за голову коня. Победители подвешивали ее на здание, самое примечательное в их квартале. Бегун приносил хвост коня на Регии, где несколько капель его крови проливали на очаг. Так как мы знаем от Овидия, что некоторое количество конской крови входило как ингредиент в очистительный состав, использовавшийся во время Парилий[269], и что ее поставляли весталки, то принято считать, что это была кровь именно Октябрьского коня. Можно предполагать, что ее им передавал Царь. Во всяком случае, если это не так, то трудно понять заявление Проперция[270] о том, что очищения «обновлялись подстриженным конем» (curto nouatur equo), поскольку животное называют curtus, если у него отрезан хвост. Голову коня увенчивали хлебами, и мы знаем от Веррия Флакка, что это делалось для появления плода[271]. Такое свидетельство нельзя не принимать во внимание, хотя так поступали, когда оно вступало в противоречие с той или иной теорией о Марсе. Если мы хотим понять этого бога, — и вообще, если хотим понимать что-то, связанное с таким сложным явлением как религия, — мы должны учитывать все данные, а не какую-то выборку, и мы не имеем права ничего опускать, кроме объяснений, которые высказал какой-нибудь современный или древний автор. Совершенно понятно, что в октябре необходимо было что-то сделать для обеспечения обильного урожая, так как зимние хлеба — важнейшие из зерновых — засеваются в Италии между этим временем и январем, в зависимости от местности. А конь явно был существом, насыщенным numen или mana, в зависимости от того, предпочитали ли мы использовать латинское или полинезийское слово, поскольку маленькой частицы высушенной конской крови было достаточно для того, чтобы каждый отдельный владелец скота мог, действуя надлежащим образом, очистить хлев, используя эту кровь в сочетании с двумя-тремя другими веществами. Следовательно, приведя самую большую часть лошади в соприкосновение с хлебами, вероятно, испеченными из зерна урожая текущего года, тем самым сильно увеличивали эффективность всего урожая в настоящем и будущем. Рассмотрим теперь всю эту странную церемонию. Сначала выбирают коня — после того, как тот доказал, что он полон сил, ибо не только колесница, в которую он был запряжен, выиграла гонки, но именно он нес самую большую нагрузку, поскольку в древности во время гонок колесница двигалась, вероятно, против часовой стрелки, а следовательно — на поворотах конь, впряженный с внешней стороны, должен был прилагать наибольшие усилия, в отличие от коня, впряженного с внутренней стороны. Во всяком случае, гонки являются общей характерной чертой для ритуалов всего мира — по той же причине, что и поединки (по крайней мере, таково мое мнение), и здесь дело в том, что они предполагают максимум активности. С другой стороны, животное приносят в жертву или, по крайней мере, убивают, поскольку это не обычное жертвоприношение: ведь тут нет ни mola salsa (жертвенной соленой муки), ни обычного распределения плоти жертвы. По той или иной причине (а возможно, просто потому, что это — два конца, и, следовательно, они представляют целое в соответствии с обычной для магии эквивалентностью), голова и хвост являются самыми важными частями. Нам неизвестно, что' происходит с остальной тушей. Мы даже не знаем, совершал ли это жертвоприношение священнослужитель, хотя естественно было бы полагать, что именно фламин Марса действовал здесь, служа своему богу[272]. Что касается этих важнейших частей — головы и хвоста, — то они служат для увеличения эффективности: с одной частью бегут, за другую сражаются: концентрация mana вряд ли могла бы быть больше. Из способов их использования нам известны по крайней мере два варианта: один был предназначен для благоприятствования росту урожая следующего года, а другой должен был способствовать очищению хлевов весной. Попутно можно отметить, что ритуал обходит стороной самое древнее римское жилище. Ведь жертвоприношение совершалось на Марсовом поле (Campus Martius), а два отряда соперников приходили — один со Священной дороги (т. е. из того, что было лишь болотистой равниной, когда Палатинский холм был захвачен в первый раз), а второй отряд — из еще более удаленного места: из Субуры, находившейся между холмами Эсквилином и Виминалом. Хвост тоже попадал не дальше, чем на форум, а люди, которые должны были его использовать, были из этого квартала: вероятно, это был Rex и, конечно, весталки. Таким образом, здесь ничто не указывает определенно ни на культ бога войны, ни на культ какого-либо особенно воинственного божества. Напротив, некоторое количество фактов указывает на некую форму отношений с животными, поскольку убивают коня, а одно из использований его крови шло на пользу скоту. Заметим мимоходом, что никто не объяснил, почему кровь должна капать на очаг на Регии. Мы можем предположить, что магия коня, или mana коня, была важна для царя — реального или номинального правителя, — но непонятно, каких действий от него ожидали». Г. Роуз совершенно прав, когда говорит, что в этой сфере, как и в любой другой, необходимо принимать во внимание все элементы, не делая из них выборки, основанной на субъективных предпочтениях. Но тогда зачем обходить молчанием то, что говорится в самом древнем документе (Тимей, у Полибия), а именно то, что приносимая в жертву лошадь — боевой конь ϊππον πολεμιοστήν, а также то, что способ жертвоприношения, о котором Роуз лишь вскользь говорит, что он необычен, заключается в убийстве коня ударом дротика χαταχοντίζειν? Оба аграрных элемента, которые выделяет Роуз, требуют следующих замечаний: Ob frugum eventum принято безоговорочно понимать как «в качестве платы за хороший будущий урожай». Однако это выражение вполне может, грамматически, означать: «как выражение благодарности за своевременно поспевший прошлый урожай»[273]. И имеются различные основания предпочесть этот второй смысл, потому что: а) ритуал является частью последовательности дел и обрядов, завершающих истекший сезон, и он обращен к прошлому, а не к будущему; b) на голову приносимого в жертву коня кладут не мешки с семенами, и даже не колосья, а конечный результат, причем не результат естественного развития — биологического развития зерна, а результат его производственного использования человеком. Более убедительным представляется вывод, что приносимый в дар уже готовый хлеб, сделанный из муки, полученной из зерна уже собранного урожая, отсылает не к надеждам на пользу в будущем[274], а к результату, полученному благодаря услугам, оказанным в прошлом; с) именно такую направленность придавал ритуалу Веррий Флакк, если судить по комментарию, который резюмирует Павел. Более того, этот комментарий, — который нет никаких оснований отвергать и который, впрочем, сходится с тем, что подсказывают Полибий и единственная разумная часть Римских Вопросов Плутарха, — дает вполне удовлетворительное объяснение, соответствующее двум качествам, которые требуются от коня: быть боевым конем и быть конем-победителем. В чем же заключается это объяснение? Римская война — это не бескорыстный спорт. В самые древние времена — прежде чем возникли мысли о господстве в Лации, затем о власти над всей Италией и, наконец, о всемирной империи — эта война ежегодно обеспечивала защиту римских земель от набегов врагов и, следовательно, обеспечивала Рим продовольствием. Благодаря военной кампании, получившей религиозное завершение в виде октябрьских военных празднеств, урожай мог быть собран вóвремя — evenire, и римляне начинали печь хлебы. В соответствии с этим, во время жертвоприношений на иды — ob frugum eventum[275] — в знак благодарности богу, возглавлявшему наступление армии или оборону, либо просто бдительно присутствовавшему при действиях армии, голову коня-победителя украшали хлебами[276], т. е. вторичным продуктом, уже введенным в употребление, полученным от спокойно собранного урожая. Последний автор, кратко изложивший Верия Флакка, точно оговаривает этот вид услуг, приносящий экономическую выгоду, но имеющий военную движущую силу. Названный автор кратко говорит: если бы речь шла о жертвоприношении божеству плодородия, то — в благодарность за рост урожая (pariendis) — жертву взяли бы из рогатого скота, символизирующего процесс обработки земли. Но так как речь идет о благодарности за военную услугу (bello), которая отстранила от полей вражескую армию или грабителей, не говоря уже о злых духах — morbos visos invisosque, как говорится в другом ритуале, то в жертву приносится конь, символ войны — πολεμιοστής, как выразился Полибий[277]. Таково простое объяснение ритуала, которое давали себе римляне. Ученики Манхардта не имеют права заменять этого прекрасно охарактеризованного коня призрачным конем, в образе которого современные крестьяне иногда представляют «дух зерна». Точно так же и примитивисты не имеют права затушевывать условие выбора коня, который должен быть победителем, и вместо этого предлагать смутное понятие максимального усилия, которое сразу перетолковывается в терминах mana или, что еще хуже, — numen, к великому сожалению. Второй аргумент, который Г. Роуз формулирует как нечто само собой разумеющееся и использует как доказанный тезис, имеет свою историю, причем историю удивительную. Ни один из ранее процитированных текстов об «Октябрьском коне» не наводит на мысль, что кровь из хвоста этого коня была сохранена и полгода спустя, 21 апреля, вошла в состав очистительного благовонного курения во время Парилий. Точно так же ни в одном из текстов, информирующих о Парилиях, ничего не говорится о таком происхождении благовонного курения. Ни один из древних знатоков старины не упоминает ничего подобного. Зато современные комментаторы Проперция утверждают, что существует связь между упомянутыми выше двумя праздниками. Сначала это вызывало некоторые затруднения, но затем они стали говорить об этом с возрастающей уверенностью. В двух текстах есть некоторые сведения об очистительном «окуривании» во время праздника Палес, т. е. о смеси, которую бросают на горящую солому и которая очищает скот и пастухов. Во-первых, это отрывок из произведения Овидия — Фасты (4, 731–734): «Иди, народ, иди к алтарю Весты за окуриванием: Веста даст тебе его, ты очистишься благодаря дару Весты; fumigatio — это, очевидно, конская кровь (sanguis equi), а также пепел теленка (uitulique fauilla), и еще третий элемент — пустые стебли твердых бобов (durae culmen inane fabae)». Затем отрывок из первой Римской элегии (4, 1, 19–20), где Проперций, противопоставляя простоту и скромность проведения празднеств в эпоху античности и их роскошь в Риме эпохи Августа, пишет дистих, смелый в отношении грамматики, смысл которого сводится, как представляется, к следующему: «…и для того, чтобы каждый год праздновать Парилии, в те времена довольствовались тем, что поджигали сено, тогда как теперь там совершают очищение с помощью покалеченного коня». Из этих двух небольших текстов сделали вывод, что «покалеченный конь» — это «Октябрьский конь», хотя в них нет о нем ни слова, а также решили, что «конская кровь», которую использовали 21 апреля, — это кровь из хвоста, отрезанного 15-го октября. Чтобы дойти до таких утверждений, надо было выдвинуть весьма вольные предположения, поскольку единственное и последнее, что нам известно, — это то, что некий человек пронес этот хвост от Марсова поля до Регии, причем бежал достаточно быстро, чтобы не произошла коагуляция крови, поскольку надо было окропить ею очаг Регии. Но разве aedes Vestae (храм Весты) не находится очень близко от domus regia (царского дома), и разве некоторые теории не представляют храм Весты как бывший очаг царского дома? Таким образом была установлена схема действий, превратившаяся в своего рода общее место, которое мы находим везде, вплоть до двух учебников Виссовы и Латте. Комментаторы Проперция высказывают весьма смелые формулировки. Так, например, F. A. Paley пишет: «Конь [остриженный конь, о котором идет речь на празднике Парилий] был убит с этой целью [ритуал Парилий] за полгода до этого, а его хвост отрезали так, чтобы его кровью можно было окропить алтарь Весты (sic). Кровь брали в коагулированном состоянии (sic), чтобы ее можно было использовать для окуривания, смешав ее с другими ингредиентами, указанными Овидием F. IV, 733». Господин Rothstein пишет: «Из Регии, находившейся в священной области Весты, или, возможно, из храма Весты, куда курительное благовоние могли доставить из Регии». То же самое пишут комментаторы Овидия. Так, у Фрэзера читаем: «Эту кровь (= кровь Октябрьского коня) Rex помещал в сосуд и хранил ее, либо передавал ее весталкам, дом которых находился рядом с его домом». Аналогично высказывается F. Bömer: «Хвост Октябрьского коня, принесенного в жертву 15 октября на жертвеннике Марса на Поле, поспешно доставлялся до Регии, где этой кровью окропляли очаг. Сам хвост сжигали, а пепел сохранялся в Penus Vestae до праздника Парилий (Fest. 131, 179, 180 s. 221 M 117. 190 s. 245 L. Plut. Qu. R. 97 c. 287 A; cf. Polyb. XII 4b, 11 ss. Prop. IV 1, 20)». Это обилие ссылок не может помешать фактам быть фактами: напрасно стали бы мы искать у Феста, Плутарха, Полибия упоминание о сожженном хвосте, о пепле, доставленном в святилище Весты и сохраняемом шесть месяцев[278]. Несмотря на то, что это построение имело большой успех, оно, тем не менее, весьма уязвимо. Оно основывается на упрощенческом постулате, который гласит, что, поскольку здесь речь идет о крови, текущей из отрезанного конского хвоста, — о крови остриженного коня, — то это может быть только та же кровь того же самого коня, закланного в октябре. Однако на самом деле это вовсе не следует с необходимостью из данного постулата, и кроме того возникают серьезные затруднения. Приведем главные из них: а) Если бы хвост Октябрьского коня имел это предназначение, в котором заключалось бы главное, то было бы удивительно, что авторы, — в частности, Фест, давший подробное и хорошо построенное описание (с. 295–296 L2), — говоря об этом, не указали на него. Если их читать без предвзятости, то создается впечатление, что destiillatio (истечение) на очаге Регии и есть конечный предел, единственная и достаточная цель быстрого переноса хвоста, и, что, когда, таким образом (в лучшем случае) хвост присоединяется к голове в руках царя, то происходит завершение и действий, и намерений, т. е. все на этом кончается. b) Если вернуть в контекст двустишие Проперция, то становится ясно, что (в понимании поэта) использование конской крови во время празднеств Парилий является относительно недавним нововведением: действительно, почти во всех других двустишиях, предшествующих рассматриваемому нами или следующих за ним, содержится противопоставление древнего, изначального состояния, грубоватого и простого, современному состоянию — пышному и роскошному. Но трудно себе представить, чтобы эрудированный поэт, знаток старины, как мы видели в этой элегии, мог бы считать Equus October недавним ритуалом, возникшим, во всяком случае, после царских времен, тогда как «дом царя» играет большую роль в истории с «Октябрьским конем». Не мог он также хотеть сказать, что роскошное нововведение заключалось в том, что была установлена связь между двумя одинаково древними ритуалами, поскольку небольшое количество свернувшейся крови от октябрьского жертвоприношения, совершавшегося всегда, в позднейшее время связывалось с апрельским очищением. Ибо в таком случае было бы непонятно, каким образом малое нововведение могло придать роскошный характер Парилиям. c) Чтобы обосновать идентичность остриженного коня 21-го октября и Октябрьского коня, Г. Роуз пишет: «Если это было не так, то тяжело понять, почему Проперций провозглашает, что очищения обновлялись остриженным конем, для животного «остриженного» (curtis), если его хвост был коротко острижен». Такое значение существует, но оно — не единственно возможное даже в терминологии хирургов, а тем более — в поэзии. Цельс говорит curtis, когда хочет указать на повреждения уха, носа, губ. Его выражение подразумевает, что это употребление — не ограничительное: curta igitur in his tribus, si qua parua sunt, curari possunt[279] (7, 9). Слова Проперция также позволяют думать, что конская кровь, о которой говорит Овидий, взята у животного, которое от этого не умрет, а ему покалечат какой-нибудь орган, выступающий вперед, как, например, уши, тестикулы или хвост. К тому же, каким бы ни были права поэзии, прямой смысл выражения curtus equus — это «выживший конь, которому отрезали какую-то часть тела», а вовсе не «кровь от какой-либо части тела, отрезанной у мертвого коня», и это — согласно гипотезе Роуза — единственное, что будет фигурировать на празднике Парилий. d) Что осталось бы через полгода от нескольких капель крови, которые, после тех, которые поглотил очаг Регии, были бы собраны in extremis[280] в некий сосуд и перенесены в святилище Весты? Ни безупречностью вещества, ни количеством этот третий ингредиент, кровь коня, не мог бы сравниться с двумя остальными ингредиентами: явно свежими бобовыми стеблями и пеплом тридцати нерожденных телят, сожженных за неделю до того на празднике Фордицидия[281] 15 апреля. Господин Franz Bömer справляется с трудностями, заменив кровь «пеплом хвоста», который может сохраняться бесконечно долго, но то, что говорят Проперций и Овидий, — который противопоставляет sanguis equi и vitili fauilla[282], — не допускает таких ухищрений: на празднике Парилий должна быть именно кровь как таковая. e) Наконец, надо предвидеть и такой случай, когда кровь с хвоста вовсе не окропила очаг Регии: то ли потому, что кровь свернулась, или же потому, что она слишком быстро иссякла, либо потому, что бегун не обладал желаемой скоростью так как поранился, упав во время бега, и т. п., и, следовательно, не выполнил свою миссию, как может потерпеть неудачу в contentio — в усилиях, затраченных ради головы, — стремление Sacravienses[283], «отряда Регии». По этим причинам[284] и (невзирая на многочисленные авторитетные мнения) «филологическая критика материала» не позволяет связать это весеннее продолжение праздника с Equus October. Таким образом, отпадает — вслед за аргументом, опирающимся на замысел ob frugum euentum, также аргумент, основывающийся на благовонном окуривании (suffimen) праздника Парилий (Parilia). А именно эти аргументы выдвигал Г. Роуз в пользу своей интерпретации. Обряд октябрьских ид — самодостаточен, и его истолкование следует искать отнюдь не в искажениях смысла и выдумках, предлагаемых современными авторами, а в том, что мы знаем. Разумеется, его характеристики, известные нам, составляют всего лишь часть сложного ритуала, однако они позволяют сделать один вывод: Equus October обнаруживает заметную гомологию с ведическим жертвоприношением коня — ашвамедхой[285]. Это жертвоприношение кшатриев, класса воинов: ритуальные тексты неоднократно говорят об этой близости[286]. Хотя в описываемой брахманами форме жертвоприношение адресовано Праджапати, из тех же книг известно также, что великие ашвамедхи более древних времен приносились властителями (имена которых указываются) богу, которого почитали в основном кшатрии: Индре. Но приносящий жертву и принимающий жертвоприношение — это не любой кшатрий. Он — кшатрий, который получил царское посвящение. Это царь (rājan), человек, обладающий царской властью (rāṣtrin); более того, это царь, одержавший победы и стремящийся к повышению своей роли среди царей. Избранная жертва — это конь, доказавший свои блестящие способности к скоростному бегу в скачках; это — конь, запряженный справа в упряжке-победительнице. Хотя царь и есть то лицо, которое получает приз, но он рискует: выбранного коня отпускают на свободу на год, и за ним следует эскорт из слуг царя[287], который должен защищать коня в случае нападений народов или властителей стран, через которые конь проходит. Если они его побеждают, то они похищают его, а для царя, ждущего коня, уже невозможно продвижение. После того, как конь возвращается, его приносят в жертву, причем ритуал — очень сложен и в высшей степени символичен, так как конь отождествляется со всем, чего царь может желать, а через него — со всем, чего желают его подданные. Незадолго до жертвоприношения тело живого коня делится на три сектора: передний, средний и задний. Три жены царя (действующая царица, фаворитка и женщина, называемая «брошенной») делают, соответственно, втирания под покровительством трех богов: Васу, Рудры и Адитьи. Это должно дать царю духовную энергию tejas (от передней части), физическую силу indriya (от средней части) и скот — paśu (от задней части). Эти три преимущества распределяются по трем функциям и сводятся к четвертому члену — процветанию или успеху, удаче (śrī). Затем эти же царицы привязывают золотые бусы, стараясь, чтобы они не упали, — впереди к гриве на голове (или же к двум сторонам гривы) и сзади — к волосам хвоста, произнося мистические имена Земли, Атмосферы и Неба. Эта омнивалентная топография тела коня демонстрируется — более дробно — в следующем обряде: второстепенные жертвы (paryaṅgya), каждая из которых посвящена какому-то богу, материально привязываются к различным частям тела коня. Списки этих частей тела несколько различаются в зависимости от вариантов ритуала, но лоб коня и его хвост — почетные места. Во всех вариантах обряда, изученных Дюмоном (Paul-Émile Dumont), жертва или одна из жертв, привязанных ко лбу коня, предназначается Агни, богу огня, а жертва, привязанная к хвосту, обычно предназначается Сурье, богу-Солнцу. Кроме того, везде богу Индре служат на одном из этих концов. Надо ли подчеркивать, сколько эти правила проливают света на известные фрагменты текста, где речь идет о жертвоприношении в октябрьские иды, которое предстает как поистине римская ашвамедха?[288] Можно понять оба аспекта ритуала: жертва приносится Марсу на Марсовом поле, а пользу от этого имеет царь — rex, — потому что в самом благоприятном случае обе выдающиеся части тела коня оказываются объединенными на Регии. Однако царь подвергается риску, к которому относится пассивно, предоставив своим людям усилия по обеспечению ему обладания жертвой, а следовательно — и ее доблестью. Этот риск отличается от риска в Индии по форме и по времени, но смысл тот же: не перед жертвоприношением и не ради владения конем, пока он еще жив, идет борьба — non levis contentio, как говорит Фест. Борьба идет между «царской группой» (группа с Sacra Via, главным зданием которой является Регия) и группой извне (с Субуры, главным зданием для которых является Мамилиева башня, о которой ничего не известно из других источников[289]), и эта борьба идет после жертвоприношения, за обладание уже отрезанной головой. В отношении хвоста риск также существует, но другой: тот, кто его несет, может не прибыть вовремя, может не успеть так, чтобы кровь еще окропила очаг Регии. Следовательно, фрустрация на Регии может оказаться столь же тотальной, как и — в случае, если конь будет перехвачен, — у царя Индии[290]. В отношении разделения тела коня на части — такие же различия во времени и форме, но такая же идентичность смысла. Разделение происходит не во время жертвоприношения и не перед убийством. Это совершается после, и разделение — не фиктивно, оно реально. Тело коня разделяется, как в Индии, на три части (но мы не знаем, что делают со средней частью туши). Голове и хвосту отводится почетная роль, причем, по-видимому, не только потому, что (как говорит Роуз) они как бы представляют все тело в целом, но, скорее, потому, что они несут бóльшую символическую нагрузку. В заурядном случае — хвост, а в лучшем случае — и хвост, и голова коня доставляются в дом царя, и каплями крови с хвоста окропляют очаг царя, participandae rei diuinae gratia, чтобы он приобщился к благу жертвоприношения. В Индии для этого служит голова коня, которая через paryanga связывается с Агни, и это, как говорится в одном комментарии, обеспечивает царю «первый огонь», какой бы смысл ни придавать данной символике. Однако в лакунах источников, сохранивших сведения об October Equus, есть одна деталь, которая не согласуется с индийской практикой или теорией: это способ жертвоприношения. В самом деле, коня убивают в воинственном стиле — ударом (или ударами) дротика, в то время как в Индии коня ашвамедхи душат. Может быть, в этом отношении римский ритуал в бóльшей мере соответствовал духу общего доисторического обряда, который в Индии оставался в ведении кшатриев и был недоступен для брахманов и вайшьев, являвшихся и «жертвователями», и «получателями выгоды», однако затем, как и все обряды, был передан брахманам как служителям культа. Во всяком случае, это небольшое расхождение, — в котором Рим заходит дальше Индии в смысле Индии, — не противоречит соответствию во всем остальном. Как мы видим (и это главное в данном анализе) этот ритуал, посвященный Марсу, — как во внешних проявлениях, так и по духу, который сравнение с Индией позволяет в них усмотреть, — соответствует общепринятому представлению о Марсе как покровителе воинской деятельности. Кроме того, он обнаруживает взаимосвязь между regnum и воинской функцией в тот самый момент, когда происходит возвращение войн, важных отношений, своего рода капитализация победы царем[291]. Говоря о методе, следует учесть, что сопоставление выявило сочетание известных частностей римского обряда, но что этот факт сначала был выделен внутренней критикой: следуя совету, который дает, но не соблюдает Роуз, мы учли все засвидетельствованные детали и только их, отвергнув лишь один дополнительный псевдо-факт, выдуманный в XVII в. и столь часто повторявшийся с тех пор, что его признали, и это привело все в смятение. При этом, однако, был восстановлен на своем месте и включен во вновь уравновешенное целое царский элемент, который Роуз упоминает лишь в конце своей работы, как бы «случайно» и заявляет, что он остался без объяснения. Два других довода, приводимых в поддержку версии о Марсе как о сельском (аграрном) боге, действительно помещают вмешательство Марса в сельское окружение, связанное либо с земледелием, либо со скотоводством. Однако, как было отмечено выше, бога характеризует не столько обстановка, в которой он появляется, сколько тип роли, которую он играет, а также приписываемые ему намерения и способы действия. И именно намерения и образ действий следует уточнять каждый раз. Напомним, что «сельское божество» — весьма неясное выражение: ибо нет родства между божествами, которые — как, например, Семоны (Semones) — направляет жизнь семени (semina), и «диким» божеством, которое может принести пользу посевам только защищая их, как нет связи между оплодотворяющим божеством, формирующим колосья, и бдительным божеством, несущим сторожевую вахту на границах поля. Однако легко удостовериться, что Марс — в мольбах, с которыми к нему обращаются арвальские братья, — одновременно является и этим диким богом, и эти бдительным божеством. В том очищении и окроплении поля, которое описывает Катон, действует только божество, стоящее на страже, и никакие слова не вовлекают его в те таинственные процессы, которые движут растительной жизнью. Неоднозначность Марса, когда он буйствует наполях сражений, побудила поэтов назвать его слепым (caecus): в какой-то момент своей ярости — furor — он отдается своему духу, истребляя как друзей, так и врагов, подобно юному Горацию, который, еще пьяный от крови, убивает свою сестру после того, как убил Куриациев. Так же, как Гораций, Марс, тем не менее, благодаря furor и даже жестокости, представляет самую надежную защиту для Рима против любого агрессора. Поэтому в Амбарвалии (Ambarvalia), во время обхода arva — пахотных земель Рима — эти два аспекта Марса, как представляется, подчеркнуты. С одной стороны, поскольку время года, подходящее для войны, в то же время играет решающую роль для euentus урожая, необходимо, чтобы сражения происходили за границами полей. С другой стороны, существуют более опасные угрозы для урожаев, чем пришлые люди, потому что против демонов нужны столь же сверхъестественные стражи, как они. Именно такие просьбы высказаны в трех фразах (причем каждая неоднократно повторяется) carmen Arvale, где упоминается Марс: 1. neue lue(m) rue(m) sins (et: sers) incurrere in pleoris. 2. satur fu fere Mars limen sali sta berber. 3. e nos Marmor iuuato triumpe triumpe triumpe trium[pe tri]umpe. Если третий фрагмент ни в каком смысле не направляет «помощь», о которой просят Марса, то первый фрагмент можно перевести так: «Не дай Бедствию, Разрушению вторгнуться в —? —». А второй фрагмент можно передать следующим образом: «Насыться, дикий Марс, перескочи через порог (?), остановись —? —». В конце концов, возможно, мольбы второго фрагмента следует понимать так, как предлагает сделать Роуз: «Насыться (но не насилием, а нашими дарами), вскочи на край поля и заступи на свою вахту»[292]. В таком случае этот фрагмент всего лишь дублировал бы первый или, вернее, содержал бы просьбу к богу заступить на вахту и выполнить то, что уточняется в первом фрагменте. Однако эпитет fere (если именно так следует выделить и прочесть это слово) трудно свести здесь, вопреки Роузу, к безобидному значению «не прирученный, принадлежащий к внешнему миру, к лесной чаще», тем более, что Марс отнюдь не таков. Оба созвучных слова формулы luem ruem (опять-таки, если это правильное их воспроизведение), несомненно, персонифицированы, поскольку incurrere обозначает конкретное целенаправленное действие — «вторгнуться». Однако весьма трудно определить, в чем заключаются опасности, которые здесь представлены как люди. Вероятно, здесь не имеются ввиду разбойные нападения, совершаемые врагами-людьми. По крайней мере, слово lues, в соответствии с классическим словоупотреблением, скорее, может обозначать болезни, способные массово уничтожать посевы. Демонология римлян изучена плохо[293], но — при таком обилии племен и народов — как они могли бы не приписать злым духам все болезни, или хотя бы часть их, когда те одолевают живые существа? Именно против них Рим, через ар-валов, мобилизует своего бога-воителя. Амбарвалия (Ambarvalia) принадлежат к такому классу очищений, который имеет много других разновидностей[294]. Например, великое очищение раз в пять лет, принятое в народе (lustrum conditum), а также амбурбий[295] — предполагают, что животных, предназначенных для жертвоприношения, водят кругами, и вполне естественно, что это происходит «на границе», одновременно очистительной и предохранительной. Защитной, причем под знаком бога-воителя, способного защитить от любых неожиданностей и периметр, и то, что находится внутри него. Эти церемонии устанавливают вокруг земли (ager), вокруг города (urbs) и т. д. невидимую преграду, которую — если ее охранять — не преодолеют не только люди-враги, которых и так уже поджидают оборонительные стены или армия, но и невидимые злые силы, особенно те, которые приносят болезни. Во многих случаях жертвы образуют группу своветаврилии (svovetavrilia), о которой пойдет речь ниже и которая характерна для Марса: боров, баран, бык. Однако все эти различные ритуалы делают Марса исключительно «специалистом по защите силой». Вся его деятельность сосредоточена в этой сфере, и религиозная процессия делает ее заметной. Чтó бы ни защищали его запреты, он — часовой, действующий впереди, на пороге (как, вероятно, говорится в арвальской песне) останавливающий врага, давая возможность в случае необходимости действовать божествам-«специалистам» — в Амбарвалии это, согласно песне, Лары, боги почвы, а также те которых называют Семонами, оживленная форма неодушевленных семян. Это также Церера, как говорится в Георгиках (Georg. 1, 338). Всем им дозволено выполнять техническую и созидательную работу, в зависимости от обстоятельств. И не случайно песня заканчивается повторяющимся криком triumpe (триумф), который прекрасно прокомментировал E. Norden: «Успешный результат молитвы — спасение от беды и опасности — обеспечен». Говоря о боге-властителе, мы видели, как у Катона крестьянин сам повторил ритуал Юпитера Дапалиса — пиршество, которое магистраты устраивали Юпитеру Epulo (Устроителю пира) в его храме на Капитолии. Великие боги древней триады господствуют над общественной жизнью, но они представляют те функции, отвечают на те нужды, которые в равной мере руководят жизнью каждой подгруппы, каждого домашнего очага, каждого индивида. Следовательно, вполне естественно, что к ним обращаются с просьбами priuati — частные лица. В таком случае смысл ритуала ограничен мелкими интересами — интересами уже не народа, а familia — семьи. Место действия уже не римская земля (ager Romanus), а поместье, не город, а деревня. Приношения также уже не столь роскошны: в сельской обстановке жертвенная трапеза Юпитера сводится к мясному жаркому и кружке вина. Так обстоит дело и с ритуалом Марса, описанным в главе 141 того же трактата Катона. Его очищение земли — скромное подобие великих ритуалов circumambulation[296], а его своветаврилия — это lactentia[297], т. е. соединение поросенка, ягненка и теленка. Но текст следует цитировать целиком, чтобы целое могло пролить свет на некоторые выражения, которые поборники версии «сельского Марса» охотно выделяют из контекста и, рассматривая их изолированно, делают необоснованные выводы. После предварительного дара вина Янусу и Юпитеру, — по мнению Катона, — управитель должен произнести следующую мольбу:«Марс-отец, я прошу тебя и требую, чтобы ты был доброжелательным и благосклонным ко мне, к нашему дому, к нашим людям. С этой целью я приказал провести своветаврилии вокруг моих полей, моей земли и моего поместья: 1. чтобы ты остановил, оттолкнул и выгнал вон все видимые и невидимые болезни, неурожай и разорение, бедствия и непогоду (ut tu morbos uisos inuisosque uiduertatem uastitudinemque calamitates intemperiasque prohibessis defendas auerruncesque); 2. и чтобы ты дал расти и вовремя созреть продуктам, хлебам, винограду, молодым росткам (utique tu fruges frumenta vineta virgultaque grandire beneque evenire siris); чтобы ты хранил пастухов и скот, а также дал хорошую защиту и доброе здоровье мне, нашему дому и нашим людям (pastores pecuaque salua seruassis duisque bonam salutem valetudinemque mihi domo familiaeque nostrae). Ради этих целей, чтобы очистить мои поля, землю и поместье, и чтобы совершить очищение так, как я тебе сказал, оказываю тебе почитание принесением в жертву этих своветаврилии и lactentia…».Анализ услуг Марса представлен в двух таблицах. В первой таблице указаны враги, с которыми необходимо сражаться, и способы борьбы. Вторая таблица указывает на тех, кто получает выгоду от этой борьбы, а также на ее благотворные результаты. В первой таблице Марс представлен в своей обычной деятельности и в характерной для него позиции: поднявшись против врагов, он либо бдителен, либо сражается. Как luem ruem в арвальской песне, его врагами являются персонифицированные бедствия и катастрофы, представленные как нападающие на него. А действия бога выражены глаголами, из которых первые два — военные термины (prohibere — «держать на расстоянии, мешать подойти»; defendere — «отбросить во время битвы»). Эти слова хорошо выделены, например, в Caes., B. G. 1, 11, 2 и 4), а третье слово, собственно религиозного значения, проясняется в Аверрунке. По-видимому, оно означает: «тот, кто отстраняет, сметая». Во всяком случае, Геллий его ясно определяет (Gell. 5, 12) как одно из мелких божеств, которых следует умилостивить, чтобы беды от нас или от плодов труда отстранялись (uti mala a nobis vel frugibus natis amoliantur). После первой таблицы уже не остается места для упоминаниях о новых, отличающихся услугах бога: устранение болезней и внешних бедствий земледелия — это не только необходимое, но и достаточное условие для нормального роста уже посеянных растений (об их росте заботятся Лары, Семоны, Теллус и Церера), а также для здоровья животных и уже родившихся людей. Для продолжения молитвы не остается ничего другого, кроме как перечислять результаты действий бога, уже исчерпывающе указанных. Правильное отражение этих таблиц и отношений между ними можно представить следующим образом:

Но молясь Марсу и желая его заинтересовать, крестьянин старается общаться с ним, по преимуществу, как с движущей силой, максимально расширяя границы возможных просьб. Таким вот образом, он делает Марса субъектом всех глаголов, причем все глаголы в обеих таблицах — переходные. Соединяя два ut, причем второе ut логически подчинено первому, он как бы удваивает число действий бога:
 На самом деле эти два ряда глаголов не гомогенны: глаголы первой таблицы (держать врага в отдалении, отбросить и изгнать его) конкретно технически называют и исчерпывают поступки бога, а также способы его физических действий, тогда как глаголы второй таблицы абстрактно, риторически выражают психологическую направленность и замысел тех же действий бога.[298]
Вывод: не следует принуждать второй ряд глаголов обозначать способы действия, и даже не надо слишком четко ограничивать их смысл. Так, например, siris, если понимать его буквально, не подходит: ведь sinere означает только «не мешать», но это не годится для данной молитвы, где Марс явно рассматривается только как союзник, а не как нарушитель покоя и помеха для радости. Что касается двух других глаголов, то здесь ясно, что выражения salva servassis и duis bonam salute valetudinemque[299] — когда речь идет о категориях, родственных получателю благ (причем вторая категория всего лишь ближе молящемуся), — практически равнозначны, поскольку вторая говорит о том же, что и первая. Однако, игнорируя все эти соображения, подсказываемые контекстом, некоторые хотели извлечь из глагола duis доказательство, что Марс не ограничивался тем, что «допускал» благополучие и доброе здоровье людей, отстраняя от них болезни и опасности, но что он «давал», т. е. сам непосредственно даровал эти преимущества — подобно богам целителям или кормильцам, принадлежащим к третьей функции. Высказывать такие утверждения — значит приписывать этому глаголу, последнему в длинном ряду, значение, которого он, несомненно, не имел: dare bonam salutem valetudinemque[300]— это всего лишь другой способ сказать salva servare.[301] Впрочем, глагол dare отнюдь не обязательно означает «придавать», «даровать». Он может означать «давать возможность» — например, dare iter per Prouinciam (Caes. B. G. 1, 8, 3), т. е. не «провести», а «позволить пройти» через Провинцию. Это точный эквивалент выражения dare facultatem per Prouinciam itineris faciundi[302] (ibid. 1, 7, 5, в высказывании о том же событии). В таком понимании duis salutem означает просто des facultatem salutis seruandae, т. е. «дай своими действиями, в твоем собственном приказании (prohibere, defendere, avurruncare morbos etc.) условия хорошего состояния», и здесь не больше признаков специфического действия бога, чем несколькими строками раньше было в grandire siris[303]. Это очень общее выражение не может окончательно подтвердить базирующийся на нем тезис, и молитва очищения земли не обращена к другому Марсу, отличающемуся от того, который присутствует в арвальской песне.
Последний аргумент, который приводит Роуз, опирается на Марса третьей функции и извлечен из другого сельского ритуала, описанного Катоном в главе 83. Приведем его перевод:
На самом деле эти два ряда глаголов не гомогенны: глаголы первой таблицы (держать врага в отдалении, отбросить и изгнать его) конкретно технически называют и исчерпывают поступки бога, а также способы его физических действий, тогда как глаголы второй таблицы абстрактно, риторически выражают психологическую направленность и замысел тех же действий бога.[298]
Вывод: не следует принуждать второй ряд глаголов обозначать способы действия, и даже не надо слишком четко ограничивать их смысл. Так, например, siris, если понимать его буквально, не подходит: ведь sinere означает только «не мешать», но это не годится для данной молитвы, где Марс явно рассматривается только как союзник, а не как нарушитель покоя и помеха для радости. Что касается двух других глаголов, то здесь ясно, что выражения salva servassis и duis bonam salute valetudinemque[299] — когда речь идет о категориях, родственных получателю благ (причем вторая категория всего лишь ближе молящемуся), — практически равнозначны, поскольку вторая говорит о том же, что и первая. Однако, игнорируя все эти соображения, подсказываемые контекстом, некоторые хотели извлечь из глагола duis доказательство, что Марс не ограничивался тем, что «допускал» благополучие и доброе здоровье людей, отстраняя от них болезни и опасности, но что он «давал», т. е. сам непосредственно даровал эти преимущества — подобно богам целителям или кормильцам, принадлежащим к третьей функции. Высказывать такие утверждения — значит приписывать этому глаголу, последнему в длинном ряду, значение, которого он, несомненно, не имел: dare bonam salutem valetudinemque[300]— это всего лишь другой способ сказать salva servare.[301] Впрочем, глагол dare отнюдь не обязательно означает «придавать», «даровать». Он может означать «давать возможность» — например, dare iter per Prouinciam (Caes. B. G. 1, 8, 3), т. е. не «провести», а «позволить пройти» через Провинцию. Это точный эквивалент выражения dare facultatem per Prouinciam itineris faciundi[302] (ibid. 1, 7, 5, в высказывании о том же событии). В таком понимании duis salutem означает просто des facultatem salutis seruandae, т. е. «дай своими действиями, в твоем собственном приказании (prohibere, defendere, avurruncare morbos etc.) условия хорошего состояния», и здесь не больше признаков специфического действия бога, чем несколькими строками раньше было в grandire siris[303]. Это очень общее выражение не может окончательно подтвердить базирующийся на нем тезис, и молитва очищения земли не обращена к другому Марсу, отличающемуся от того, который присутствует в арвальской песне.
Последний аргумент, который приводит Роуз, опирается на Марса третьей функции и извлечен из другого сельского ритуала, описанного Катоном в главе 83. Приведем его перевод:
«Votum за быков. — Теперь следует дать обет (votum) для быков, uti valeant. Среди дня, в лесу, следует дать обет Марсу (и) Сильвану. Он состоит в трех ливрах пшеничной муки за каждую бычью голову, четырех с половиной ливрах сала, четырех с половиной ливрах постного мяса[304] и трех секстрариях вина. Пусть будет дозволено поместить эти (твердые) вещества все в один сосуд, а вино — тоже в один сосуд. Этот обряд разрешается совершать и рабу, и свободному человеку. Как только ритуал будет завершен, еда будет съедена сразу же, на месте. Ни одна женщина не должна ни присутствовать при церемонии, ни видеть, как она совершается. Если ты захочешь, можешь повторять обет из года в год».Описание не вполне ясно, но его можно истолковать. Обет (votum) — это обещание сделать приношение в будущем, если бог окажет некую милость: когда милость получена, — тот, кто ее получил, стал исполнителем обета (votum solvere). Чтобы согласовать текст с этим определением, следует полагать, что первая часть касается обещания, а вторая — исполнения обещания: либо надо по истечении года выполнить обещание, данное сейчас, либо в данный момент надо выполнить прошлогоднее обещание. Заключительная фраза заставляет отдать предпочтение второму варианту интерпретации[305]. Из двух божеств, к которым обращена молитва, — ибо, вопреки иногда встречающемуся искаженному пониманию, эти божества не сливаются, а существуют рядом друг с другом, и не может быть речи о каком-то Марсе-Сильване[306], — одно божество, Сильванус, является покровителем silvatica pastio, летнего пастбища на поросших лесом горах, которое обычно использовалось в древние времена. И именно здесь, in silva, дается обет и совершается исполнение обещания, а также вкушение пищи. Также к одной известной черте Сильвана (Wiss. c. 214) относится приказание, запрещающее допускать присутствие женщин при res divina. Если бы дело было только в том, чтобы обеспечить процесс питания, дающий быкам силу и здоровье, то было бы достаточно Сильвана. Однако silva имеет не только такие опасности, которые ее окружают, как это было в случае земли, входящей в поместье (fundus), но еще и внутренние опасности, которыми она пронизана повсюду. И для защиты от этих опасностей необходим Марс[307]. Он должен стоять на страже уже не на несуществующих границах, а в любом месте, куда ступает каждое животное. В то время, как при очищении полей (lustratio arva) Марс действовал «вокруг», а сельские боги — Семоны и Церера — «внутри», то в данном случае сфера Марса равна по объему сфере Сильвана: отсюда — тесное соседство, объединение этих двух богов, которое подчеркивается идеей поместить в один сосуд все твердые дары, так же как и налить в один сосуд все вино. Так что, хотя стратегические и ритуальные позиции у этих богов различны, поскольку различны породившие их миссии и обстановка, тем не менее, Марс и здесь — то, чем он является всегда и везде: актуальный и виртуальный воин, часовой, готовый отбросить или разгромить врага[308]. Семоны — Марс, Сильван — Марс: это сотрудничество специалистов и воина в земледелии и в скотоводстве весьма поучительно. Так же как хлебы, прикрепленные к шее воинственного коня (bellator equus) во время октябрьских ид, оно напоминает (если бы это было необходимо) о том, что «три функции» созданы для того, чтобы помогать друг другу и дополнять друг друга, а также о том, что они могут быть хорошо определены только через их взаимодействие. Когда речь идет о третьей функции, то этот тезис можно сформулировать другими словами. Успешность земледельца или скотовода всегда зависит от факторов двух видов: одни факторы — позитивные, конкретные и специфичные для каждого случая: такие, как хорошие семена, хорошая земля, своевременное чередование дождей и солнечной погоды, плодовитый самец, самки, дающие богатый надой молока; другие факторы — негативные и однородные, а именно: отсутствие помех для благоприятного действия позитивных элементов, — т. е. чтобы никакие бедствия (такие, как войны, болезни, катастрофы, заморозки, нападения волков и т. д.) не свели на нет преимущества, терпеливо накопленные человеком. В технологической сфере это различие определяет два вида услуг, отсылает к двум типам богов, второй из которых всегда сводится к Марсу. Объединение на основе другой движущей силы, как мы видели, наблюдается между первой и второй функциями: в ведении Марса — война, для которой характерны сражение и насилие как средства достижения победы; в ведении Юпитера — юридическая и религиозная подготовка, ауспиции, а также находящаяся на заднем плане предопределенность победы. Юпитер при этом остается неизменным властителем, а Марс остается воином[309]. Мы неоднократно указывали на группы жертв, взрослых или молодых (lacentia), образующие своветаврилии, характерные для Марса[310]. В частности, в теории spolia optima (тучных доспехов), где три бога древней триады выборочно принимают первые, вторые, третьи доспехи, посвящение включает bos mas (быка), когда речь идет о Юпитере. Когда дело касается Марса, то речь идет о солитаврилии (своветаврилии), а когда речь идет о Квирине, то фигурирует ягненок. Это очень древняя практика. Вне греческих trittyes или trittoiai, обычно состоявших из таких же животных, как и в жертвоприношениях у римлян (хотя их теория и обычаи, как все в Греции, обнаруживают разновидности и даже некоторые колебания), следует отметить, что в ведической Индии существует сходный ритуал, в котором и замысел, и адресат являются гомологами тех, что мы видим в своветаврилии: это жертвоприношение трех животных, называемое саутрамани, т. е. приношением Индре Sutraman, «доброму покровителю». Только в Индии и у иранцев канонический список животных, приносимых в жертву, состоит (в порядке убывания значимости — после человека и коня) из быка, барана и козла, но свинья исключается. В Риме же обычно приносили в жертву, кроме коня (человек, очевидно, не входил в национальный обряд жертвоприношения), быка, барана, и свинью, и лишь несколько особых ритуалов включают козла. Следовательно, в жертву Индре приносятся три последних признанных пашу (paiu) — козел, баран, бык. В книгах, посвященных обрядам, приводятся две разновидности sautrāmaṇī. Одна входит в жертвоприношение при посвящении царя (rājasūya), а вторая — свободна. В последнем случае имеется в виду своего рода «лечение» (Sat. Brähm. 1, 6, 3, 7), очищение (pavitra, ibid. 12, 8, 1, 8), освобождающее приносящего жертву от любого врага, который отнял у него энергию (indriya, ibid. 12, 7, 1, 3). Оно избавляет от всякого греха (pāpmanah, ibid. 12, 8, 16), а также — достойное внимания понятие — излечивает от истощения: как материального, так и мистического, которое было вызвано жертвоприношением soma, когда его совершал приносящий жертву. После жертвоприношения сомы, — говорится в Шатапатха-Брахмана, — человек чувствует себя опустошенным. Как только отпраздновано саутрамани (sautrâmanï), то, «подобно корове», которая снова набухает после доения, человек снова наполняется. В трактате, посвященном ритуалу Катьяяна (19, 1), указываются пять случаев, в том числе говорится о брахмане, который изверг обратно посвященную им сому, о царе, который был свергнут, о вайшье, одновременно являющемся alaṃpaśu и apaśu, т. е. способном иметь скот, не имея его. Разновидность саутрамани, включенного в ритуал посвящения, должна быть отнесена к тем обрядам, смысл которых касается царской функции. Наряду с регулярно и периодически проводимыми общественными культовыми церемониями, а также наряду с проводимыми от случая к случаю обрядами очищения земли (lustratio agri), нередко своветаврилии совершаются как акт искупления нечаянных грехов в сфере религии, например, чтобы возместить урон, нанесенный по несчастному случаю, или загладить вину за нарушение какого-либо закона религии, случившееся в результате обета (devotio). Известно, что для того чтобы произнести формулировку, которая отдала бы его и его армию во власть богов Манов, римский полководец Теллус встал на дротик, положенный на землю. Этот дротик не должен попасть в руки врага. Если враг захватит его, то «во искупление надо заклать Марсу свинью, овцу и быка» (Liv. 8, 10, 14). Или, например, при Веспасиане, прежде чем приступить к восстановлению сгоревшего от пожара Капитолия (осколки прежнего храма были, по указанию гаруспиков, выброшены в болото), участок был очищен своветаврилиями, и лишь после этого на траву были положены внутренности, и проводивший церемонию претор воззвал к богам Капитолия — Юпитеру, Юноне и Минерве (Tac. Hist. 4, 53). Единственный случай, когда уточняется, что своветаврилии сопровождают очищение армии перед военной операцией, — это когда речь шла о походе, имевшем целью поставить нового парфянского царя на место царя сбежавшего (Tac. Ann. 6, 37). Без лишних комментариев ясно, что для специалистов по литургии — как в Риме, так и в Индии — три второстепенных жертвы из обычного списка жертвоприношений, которые вместе приносятся в дар богу войны, представляют собой могущественное средство, способное как предотвратить, так и исправить. Как почти всегда бывает, о Риме нам известны только факты, причем лишь в общих чертах, а не теория, которая их поддерживает или на которую они опирались изначально. Индийские книги, напротив, пространно комментируют полные и развернутые ритуалы, которые предписывают. Нередко, в случаях гомологии, индийские комментарии помогают понять и римские обряды. Здесь мы имеем как раз такой случай. Концептуальная структура, обосновывающая саутрамани, весьма интересна (Sat. Brahm. 12, 7, 1, 1—14): хотя речь идет о жертвоприношении Индре, она придает этому богу воинского уровня — или, вернее, предоставляет в его распоряжение — для придания ему сил (на этом настаивает этиологический миф) — богов, представляющих третий уровень: Sarasvatî, преимущественно являющуюся рекой, а также божества Ашвин; так что в своеобразной иерархии оказываются собранными вместе — за исключением высшего члена и с пополнением в лице оживляющей богини — все представители второго и третьего члена древнего канонического трехфункционального списка: Митра-Варуна, Индра, Насатья (= Ашвины). И кульминацией этого объединения становится Индра, и все подчиняется ему. Впрочем, имеется параллелизм между жертвенными животными и божествами, причем бык адресован по преимуществе Индре, который оставляет барана Сарасвати, а козла — богам Ашвинам. Таким образом, когда обстоятельства требуют срочно восстановить что-то, что ставится под угрозу, либо когда некий порядок или некий предмет или обстоятельство нуждаются в защите от непредсказуемой опасности, — происходит своеобразная мобилизация третьей функции, подкрепляющей и служащей богу, который (подкрепленный ею) вмешивается и действует один. Своветаврилии свидетельствуют о такой мобилизации, но не в отношении богов, поскольку у Марса здесь нет пособника, а в отношении жертвенных животных: в Риме свиньи приносятся в жертву специально богам плодородия почвы (sus plena приносится в жертву Телле, а также Майе, которая осознается как разновидность Теллы). Церере во время Цериалий приносят в жертву самку свиньи в демонстративную противоположность быку. Перед жатвой Телле и Церере приносится в жертву porca praecidanea (предварительно закалываемая свинья). Что касается барана, то в Риме это самое обычное жертвенное животное (по крайней мере, в структуре spolia opima[311], где солитаврилии — это жертвоприношение второму члену триады: Марсу). Для третьего члена триады — Квирина — предписанным жертвенным животным является баран. В обоих случаях верховные боги Варуна или Юпитер не появляются, либо им воздают почести в дополнительных ритуалах или побочных, вспомогательных обрядах (например, это делается для Юпитера во вступлении к своветавлириям молодых животных у Катона): дело в том, что существуют опасные обстоятельства, в которых высшая функция Юпитера отступает на второй план перед воинской функцией. Тогда в Риме появляется Камилл со своим magister equitum; в нашем современном обществе — глава чрезвычайного военного ведомства. Такие размышления, посвященные сравнению, объясняя один из самых примечательных римских ритуалов, помогают нам лучше узнать и самого бога[312]. Фундаментальное единство функции римского Марса установлено: нет никаких причин вводить в представление о его происхождении некое «сельское» значение, от которого нет следов, несмотря на утверждения, что они якобы были обнаружены в классическую эпоху. В эпоху республики этот бог также сохранял большую стабильность, хотя его социальная опора вышла за пределы патрициата и даже несмотря на то, что вследствие развития военного дела человеческий материал для его деятельности — milites — расширился до всей совокупности граждан. Попытки отождествить его с греческим Аресом — за исключением сферы литературы и искусства — никак не изменили и не обогатили хоть сколько-нибудь тип этого бога. Лишь после того, как Цезарь стал демонстративно ему поклоняться, и после того, как был учрежден его культ как Мстителя, произошли некоторые изменения, зримым свидетельством которых стало создание его святилищ на Капитолии и на Форуме Августа. Что касается близких отношений между Марсом и Венерой, которым Лукреций в прологе к своей поэме посвятил несколько полных смысла стихов и которые являются лишь отражением отношений между Аресом и Афродитой, то это станет важным (несмотря на лектистернии 217 г.) только при Юлиях, ведущих свое происхождение от Венеры. В отличие от Юпитера, Марс — одиночка. С ним не связано никакое вполне автономное божество[313]. Упомянутые выше Нериена и Молы являются всего лишь выражением двух его черт. Хотя первая обрела у поэтов некую видимость самостоятельной личности, ей, однако, не посвящен никакой культ. Самое большее, что в данном отношении известно, это, по общему признанию, то, что рассказывается об останках, сожженных на поле боя в честь Марса и Минервы (Liv. 45, 32, 2; App. Pun. 133: это оружие, механизмы и суда врага, сожженные в качестве приношения Аресу и Афине). А Минерва — это приблизительный эллинизированный эквивалент для Нериены. Что касается Мол Марса (Moles Martis), то единственный след культа, который сохранился, относится к эпохе Августа. Он обнаружен в тексте супликации в память о торжественном освящении храма Марса Ультора (Мстителя) на Капитолии (CIL. X, 8375, Cumes). По-видимому, Pallor и Pavor (Liv. I, 27, 7) даже не аутентичны. Из абстракций, Виртус и Гонос получат святилища лишь в конце III в., а Виктория — в начале II в. К тому же, если святилища первых двух божеств, расположенные вблизи храма ворот Капены, могут сойти за «марсовские», то третье святилище и по своей идеологии, и по locus natalis храма, принадлежат к окружению Юпитера Виктора. Наконец, Беллона — древнее божество — также не образует совместной структуры с Марсом, а ее концепт и посвященные ей церемонии отличались от Марсовых, поскольку поборники «сельского» Марса, изгнанные из метрополии, иногда искали в них прибежище и утешение. То, что мы знаем о провинциальных культах, сводится к кратким надписям, к изобразительным памятникам, к беглым упоминаниям в литературе. Процесс интерпретации — который наносит такой большой вред, когда не контролируется обширными текстовыми материалами — развернулся очень широко. Затем, забыв о том, что подавляющее большинство документов относится ко временам, наступившим после завоевания, и отмечено влиянием завоевателей, — стали пытаться восстановить на основе этих интерпретаций италийский тип, более древний, чем римский тип, якобы «искаженный». При тщательном анализе, напротив, те скудные сведения, которые дают нам эти немногие изображения, эти спорадические указания, эта сотня надписей, составленных либо на латыни, либо на других индоевропейских языках полуострова, либо на этрусском языке, причем чаще всего они годятся всего лишь для того, чтобы обнаружить в некоторых местах существование культа Марса и существование его жрецов (фламин в Ариции, салии в нескольких латинских городах, члены жреческой коллегии в Тудере в Умбрии), — оказываются в значительной мере сходными с тем, что мы видим в Риме. Изложим самое существенное. В Фалериях Тит Ливий отмечает, во времена Ганнибала, «что дощечки с предсказаниями стали меньше, а одна из них выпала, указывая на надпись: Марс встряхнул свое копье (22, 1, 11)». Как бы ни понимать эти табличики, все равно, как мы видели, святилище Марса отсылает к копьям Марса, находящимся на Регии, вибрация которых была угрожающим предсказанием. Во многих городах Лация в перечислениях знамений указывается: ланувийским копьем потрясал (Lanuuii hastam se commouisse; 21, 62, 4 — копье воительницы Юноны), копье Марса Пренестинского выдвинув по доброй воле (hastam Martis Praeneste sua sponte promotam; 24, 10, 10). В Тускуле (Лаций) на надписи (CIL. I22, 49) полководец говорит (M. Fourio C. f. Tribunos militare de praidad Maurte dedet): если Фурий отдает Марсу часть добычи, то разве это не потому, что бог способствовал его победе? В Телесии (Самний) краткое посвящение сделано Марсу Непобедимому (Marti invicto), и здесь эпитет — гордый и воинственный (CIL. IX, 2198). А в Интерамнии (Пицен) другая надпись содержит посвящение (M)arti pacife(ro), где pacifer, конечно, отнюдь не значит «мирный». На монетах южной Италии на их двух сторонах сочетаются: голова Марса, бородатого или безбородого, и Беллона (Лукания), либо Ника — в венце или увенчивающая трофей (Bruttium), а иногда — скачущая лошадь или же лошадиная голова (Campania). Явное отождествление с греческим Аресом, по крайней мере, доказывает, что во всех этих местах сей бог осознавался как воин. С пророчеством, принесенным Марсу дятлом (без деталей, на которые указывает Дионисий Галикарнасский в Тиора Матиене), в сабинских землях справедливо ассоциируют гемму, на которой изображен дятел, сидящий на колонне, вокруг которой обвилась змея, а впереди — воин, в то время как баран, стоя на коленях, ждет принесения в жертву. Один из самых интересных документов — это изображение на цисте[314], найденной в 1871 г. в Палестрине-Пренесте: латинском городе, рано испытавшем влияние этрусков. На цисте изображены боги, имена которых даны в провинциальном написании: Juno, Jouos, Mercuris, Hercle, Apolo, Leiber, Victoria, Diana и Fortuna. В центральной сцене Минерва и Марс вместе делают что-то загадочное. Голый, но в шлеме, со щитом на левой руке и с маленьким копьем в правой, Марс стоит на коленях над большим бурдюком, раскрытым шире расставленных бедер бога, и наполненным, по-видимому, кипящей жидкостью. Минерва, склонившись, держит его своей левой рукой за низ спины, а правой рукой подносит к его рту некую палочку. Позади богини на груде камней лежат ее щит и шлем с длинным султаном, а маленькая крылатая Виктория подлетает к ее затылку. Наконец, над всей этой сценой, разъединяя фриз, сидит некое животное — не то собака, не то волк — с тремя головами. С этой цистой сравнивали небольшую группу этрусских зеркал, на которых изображены рядом несколько сцен, где перед нами предстает Maris — италийский Марс. На одном из зеркал изображены: во-первых, молодой человек, обозначенный как Leinθ, обнаженный, вооруженный копьем, сидящий с ребенком на коленях. Ребенок имеет имя: Mariśhalna. Далее изображена Менрва (Menrva), которая купает в амфоре юношу по имени Marishusrnana, и, наконец — без имени — изображен третий обнаженный юноша, опирающийся на копье. На втором зеркале изображены: во-первых, Турмс, на коленях которого сидит Mariśisminθians [315]; далее — Менрва, в полном вооружении, опирающаяся правой рукой на свое копье и вытаскивающая из амфоры юного Mariś husrnana; наконец, — некий Amatutun, который держит на руках Marishalna. Геракл стоит со своей палицей ниже средней сцены. Другие зеркала, по-видимому, указывают на то, что Марс (или три юных Марса) — сыновья Геракла (Mars-hercles). Господин Густав Германсен, который сделал эти важные сопоставления, также весьма изобретательно напомнил об одном тексте из Пестрых историй Элиана, 9, 16. Там мы читаем: Marès, предок Авзонов из Италии, прожил сто двадцать три года (этот срок объясняется манипуляциями этрусков с числами: Censor. 17, 5), и ему было дано воскреснуть дважды и прожить три жизни, — подобно царю Эрулу, которого Эвандру пришлось сразить трижды, так как Ферония, его мать, дала ему три души (Verg. Aen. 8, 563). По-видимому, это предание действительно родственно сценам, изображенным на зеркалах, и его можно — с предосторожностями — использовать для их интерпретации. Однако прежде всего следует подчеркнуть то, что в этих сценах неизменно: воинственность. Если оружие, изображенное на ней на одном зеркале, а на другом зеркале — на ларце позади нее, — не знаменательно, так как этруски великодушно придавали этой богине атрибуты греческой Афины, то, напротив, чисто италийский Марс на цисте вооружен сам, а в последней сцене на зеркалах изображены обнаженные юноши, опирающиеся на копья. По-видимому, здесь — сцены инициации, однако, они несут печать воинственности, а не только «юности», как предполагает Германсен. Животные с тремя головами на заднем плане сцены, купание в большом бурдюке или в амфоре — навели меня на мысль об интерпретации, которая здесь не имеет значения. В любом случае, в этих образных изображениях невозможно усмотреть ничего такого, что могло бы дать поддержку тезису о связи Марса с плодородием. [316] Нет никаких оснований для этого и в очищении Игувия — единственном ритуале, детально известном за пределами владений Рима[316]. Как известно, Mart- — это второй член триады богов Grabovii. Несколько второстепенных божеств из его группы имеют эпитет Martio-. Сама группа имеет, если можно так выразиться, двухэтажную структуру: первоначально — с Çerfo- Martio-, вторично (и через этого Çerfo-) — с Турса Церфия Церфа Марсова (Tursa Çerfia Çerfer Martier), а также с Престота Церфия Церфа Марсова (Prestota Çerfia Çerfer Martier), т. е. «T. Ç. (и P. Ç.) от Ç. M.». Что касается Престоты и Турсы, то они, вероятно, осмысливаются следующим образом: вторая — как «Terror» женского рода, а первая — как «Praestes»: слово, имеющее само по себе весьма обобщенное значение, но в наименованиях римских богов оно зарезервировано за Юпитером в связи с Геркулесом Виктором (в качестве якобы учредителя культа: CIL. XIV, 3555), а также в связи с разновидностью Лар — Lares Praestites — охранников, которые, согласно не в меру этимологическому комментарию Овидия (F. 5, 136–137), несут стражу на стенах города. Молитва, с которой обращаются ко всей этой группе богов, включает в себя просьбу испугать, довести до дрожи от страха (tursitu tremitu), уничтожить, связать и т. д. врагов. У одной лишь Престоты Церфии Церфы Марсовой (Prestota Çerfia Çerfer Martier) просят оградить все сообщество Игувия от любой беды и перенести все несчастья на вражеское сообщество. Наконец, у другой Турсы (Tursa), которая именуется Jouia, просят — как у всей группы Марса и в соответствии с именем — устрашить врага, нагнать на него ужас до дрожи и т. д. Все это оставляет Марса — эпоним всей группы — в его воинской сфере. Двойственность богинь Турса (ужасов») — одна из которых связана с Марсом, а другая с Юпитером, — по-видимому, намекает на два возможных источника этой неприятной дилеммы: это либо логичное и естественное следствие более сильных атак врага, либо результат чуда, морального упадка армии, которая уже побеждала, при виде необъяснимого преображения ситуации (ср. Юпитер Статор в легенде о Ромуле). При таких обстоятельствах тщетной оказывается непоклебимая вера Манхардта, усматривающая в Церфе Марсовом, ближайшими сотрудницами которого являются Турса и Престота, — мужское соответствие римской Церере, и строящая на этой игре слов «аграрную» интерпретацию Марса и всей группы Марса. Этому противоречит контекст, и специалисты по этимологии не имеют права на такое толкование. Впрочем, умбрское — rf- может быть конечным результатом развития другой группы — не *-rs-. Итак: с какой бы стороны ни рассматривать проблему, и в Риме, и в Игувии, и в Этрурии тщательная проверка аргументов сохраняет за Марсом его традиционное определение как бога-воина и бога воинов.


Глава V КВИРИН
Если Квирин ставит перед комментатором совсем другие проблемы, чем Юпитер и Марс, то это потому, что он ставил их уже перед римлянами, которые нагромоздили в материалах о нем множество гипотез, так что ученым нового времени — нашим современникам — досталось запутывать уже то, что касается двух других богов. Однако древние гипотезы интересны сами по себе, так как в те времена они не могли быть полностью безосновательными и (по крайней мере, на начальном этапе) должны были содержать что-то подлинное, достоверное. Образ бога, который мы выше выделили из богослужений фламина Квирина, из празднества Квириналий, из этимологии, из божественного окружения Квирина, — сам весьма сложен. По-видимому, это объясняется тем, что сей бог уже с самого начала, с момента возникновения, а также по своей природе был более сложным, чем два верховных бога: это ограничения, связанные с «третьей функцией», более зависимой от конкретики, чем другие функции, — по самой своей природе. Согласно своему имени, * Couirino покровитель мужчин, рассматриваемых как органичное целое. Квирин оставляет Юпитеру и Марсу идеологическую надстройку, а сам следит за существованием, благополучием и долгосрочностью этой социальной массы. Он делает это прозаически: он сам, либо его фламин, заботятся о зерновых хлебах, начиная с зародышевой стадии до созревания и обжарки зерна, включая накопление запасов. Но само существо этой услуги помещает Марса в большую группу, которую составляют божества, имеющие — каждое — свое особое предназначение, ведающие — каждый — другим аспектом этого существования, этого благополучия, этой долгосрочности: персонифицированное изобилие, бог зерна, запертого в хранилищах, богиня цветения, боги почвы, богини родов и многие другие. В то время как Марс — один, а Юпитер держится вдали от первого плана, оттеняемый рядом бледных существ, находящихся на его уровне, Квирин является всего лишь одним среди равных, и особые обстоятельства могут заставить его отступить назад даже в наименовании триады, оказаться позади какого-либо из равных ему божеств, приспособленного к данным обстоятельствам лучше, чем он. К этому сложному и в то же время скромному образу — простому элементу целого, которое он представлял, но над которым он не доминировал, — два события добавили бóльшую индивидуальность, но повлекли за собой глубокие преобразования. Коротко говоря, это — его отождествление с Ромулом и сближение его с Марсом. Для поэтов эпохи Августа Квирин — это Ромул, обожествленный после смерти, genitor Quirinus[317], и это почти все. Когда они намекают, — а это случается нередко, — на древнюю триаду, то ее третий член обычно всегда именно так и понимается. В сцене, которая, возможно, восходит к Эннию, фигурируют три бога, которых эллинизированная мифология охотно представляет как деда, отца и сына. Марс просит Юпитера выполнить давнее обещание и вознести Ромула с земли, сделав его Квирином. Так, у Овидия (Met. 14, 805–828, с примечательной игрой слов Quirites-Quirinus) читаем:«Татий уже умер, а ты, Ромул, правил двумя народами, когда Марс, сняв шлем, сказал отцу богов и людей: “Время пришло, отец мой…”. Всемогущий согласился с этим… Gradivus поднялся на его колесницу, и в то время как Троянец, уже в качестве царя, воздавал справедливость своему народу квиритов, он его вознес. Став красивее лицом и более достойным небесных пиров, он принял вид Квирина, одетого в трабею».В нескольких отрывках поэмы Фасты поэт варьирует эту тему. Так, например, в самом начале Янус резюмирует в трех именах простоту Рима в начальный период (1, 197–202):
«Сегодня богатство ценится больше, чем в те древние времена, когда народ был беден, когда Рим еще только родился, когда Квирин, сын Марса, жил всего лишь в хижине, и когда камыш рос у реки тонким слоем, Юпитер едва помещался в своем тесном храме, и в правой руке Юпитер держал глиняную молнию».И опять, в шестой книге, 51–54, Юнона, ставшая отныне покровительницей Рима, заявляет:
«Ни один народ так не дорог мне. И я хочу, чтобы меня почитали именно здесь, и именно здесь я хочу разделить храм вместе с моим Юпитером. Сам Марс сказал мне: “Я доверяю тебе эти крепостные стены. Ты будешь могущественной в городе твоего внука”. И его слова сбылись».Такая точка зрения могла лишь понравиться нарождающейся династии, ведь она служила ее целям: сблизить латинские истоки с троянскими, Ромула — с Энеадами, т. е. с Юлиями. Действительно, свидетель — тот, кто первым увидел бога, и чьи слова спасли от гнева народа сенаторов, заподозренных в убийстве, — носит подозрительное имя Юлий Прокул (Proculus Julius). Он поклялся всем самым священным, что, когда он возвращался с ассамблеи, ему предстал Ромул, более огромный и более прекрасный, чем когда-либо, в сверкающих доспехах. Основатель Рима якобы сказал предку Цезарей: «Боги решили, Прокул, что после того как я, хотя и принадлежал небесам, так долго прожил среди людей и основал город, который превзойдет все другие города по могуществу и славе, я должен вернуться в небо. Поэтому прощай. Скажи римлянам, что, проявляя терпимость и мужество, они достигнут вершины возможного для людей могущества. Что касается меня, то под именем Quirinus я буду богом доброжелательным к вам». Плутарх, автор этого философского совета (Rom. 28, 4–5), добавляет, что характер и клятва Прокула не допускали сомнений, и римляне пришли в восторг, отказались от подозрений и начали обращаться с мольбамик Квирину. Когда встретились Квирин и Ромул? Во всяком случае, альбанец «Proculus Julius» довольно поздно принял в этом участие. Он в большей мере был свидетелем не апофеоза основателя, а претензий рода Юлиев, согласно которым утверждалось, что они ведут свое происхождение от Альбы (Albe). Т. е. Юлий Прокул не мог жить раньше начала I в. до н. э. Но мы не имеем права делать вывод (как нередко поступают), что вся эта история — выдумка тех времен, махинации Юлиев. Они вполне могли включить в эту историю своего предка, дать свое имя человеку, которому предстало это видéние. Нередко также злоупотребляют скептицизмом, который Цицерон проявлял в отношении превращения Ромула в бога, не вполне объективно трактуют его высказывания в Государстве, 2, 20, где, впрочем, скептицизм больше относится к честности свидетеля, чем к самому факту, который Цицерон, напротив, подтверждает добродетелями и исключительными заслугами Ромула. Говорят, что такая позиция доказывает, будто отождествление было еще недавним, недостаточно твердо установленным в середине I в. Отнюдь нет. Понятно, что критически настроенные умы с некоторой настороженностью относились к этому, независимо от того, произошло ли это недавно или давно. На самом деле имеются основания полагать, что событие произошло гораздо раньше: в те времена, когда легенды о происхождении Рима обретали свою окончательную форму. По-видимому, именно тогда «ученые» предложили две конкурирующие концепции — Квирин-Ромул и сабинский Квирин. И с этого момента, очевидно, и возникли два направления, два варианта политико-религиозного использования Квирина, причем ни один из них не мог стать чем-то бóльшим, чем вероятная версия; ни один из двух вариантов не мог вытеснить соперника до того, как Юлии стали настойчивыми, и до официального признания Квирина-Ромула. Доказательством этого я считаю, с одной стороны, жертвоприношения 296 г., и, с другой стороны, прекращение войн с сабинянами в 290 г. Я уже приводил рассказ о вмешательстве богов в битву при Сентине и о жертвоприношениях, которые были его предпосылкой. Это важное свидетельство, поскольку факт жертвоприношения, несомненно, достоверен. Кроме того, хотя столь же ясно, что повествование представляет собой искусственное построение, оно все же очень близко к реальному событию. Так, Тит Ливий сам говорит, что победа при Сентине породила два вида литературы: грубые эпические песни солдат (10, 30, 9) и более тонко отделанные произведения (ibid., 4–7). В 296 г. магистраты (патриции и плебеи) заказывают произведения искусства или труды, восхваляющие в первом случае богов патрициев — Юпитера и Марса, а также и «вскормленных волчицей младенцев, основавших город» (simulacra infantium conditorum urbis sub uberius lupae)[318], а во втором случае — плебейскую богиню Цереру (10, 23, 11–13). В следующем году на поле битвы боги различными способами выражают свое удовлетворение: сначала волк, напоминающий одновременно о Марсе и о Ромуле, придает бодрость духа сражающимся (10, 27, 8–9); затем Теллус, близкая подруга Цереры, исправляет критическую ситуацию, приняв обетование консула-плебея (28, 12–29, 7); наконец, Юпитер, откликнувшийся на обет, дарует победу в конце сражения выжившему консулу-патрицию (29, 14–16). Адресаты, предметы искусства или работы по их созданию, а также намерения эдилов в 296 г., несомненно, были сходными. Разве можно себе представить, чтобы в случае Юпитера, Марса и Цереры статуи, сосуды и камни для мощения были в полном смысле слова жертвоприношениями, предназначенными для обретения благорасположения сверхъестественных существ, а волчица была бы только бескорыстным эстетическим проявлением, не имеющим ни адресата, ни миссии? Следовательно, дело в том, что близнецы-основатели — или, вернее, основатель (так как его брат присутствовал лишь для видимости) — также рассматривался не только как великий покойник, но и как существо, свободно действующее из другого мира, способное на доброжелательность и покровительственные действия, т. е. поступающее подобно богу. Именно так римляне, которые вели эпическое повествование, интерпретировали поступок своих эдилов, поскольку волк, появившийся как раз перед схваткой, равнозначен знаку, поданному Марсом и основателем[319]. Однако ни до, ни после этой даты никогда не было культа Ромула как бога: почитание усопших предков (parentatio) представляет собой нечто совсем другое, если только не понимать таким образом отождествление Ромула с Квирином. Это дает серьезный повод для того, чтобы усматривать в жертвоприношении 296 г. первое свидетельство этого отождествления. Есть и еще одно основание: объединение в триаду вместе с Юпитером и Марсом еще одного божества наводит на мысль, что этот третий член равнозначен Квирину, что его ставили (и, следовательно, концептуально это было возможно) на место Квирина, чтобы сформировать омоложенную триаду, которая была бы вариантом триады древней. Это объясняется лучше всего, если Ромул действительно был Квирином. Но в эти тяжелые годы Квирин был не только Ромулом. Спустя два года после Сентина (Sentinum), в 293 г., ему был посвящен храм. Это сделал консул Луций Папирий Курсор, по-видимому, чтобы выполнить обет, данный его отцом-диктатором (Liv. 10, 46 7)[320]. И вскоре появится сабинский Квирин. Вспомните исторические события, которые, как полагал Моммзен, дали материал, а также этнические имена (если не интригу) рассказу о войне между римлянами Ромула и сабинянами Тита Татия: в 290 г., после легкой войны, Рим завоевал все сабинские народы и сразу дал им права гражданства sine suffragio (без избирательного права), а затем, спустя двадцать два года, дал им полное равенство, после чего включил их в трибу Квирина, учрежденную недавно. Следовательно, весьма вероятно, что обе «исторические» интерпретации Квирина — как обожествленного Ромула или как бога, которого принесли с собой сабиняне при слиянии двух народов — существовали одновременно, и что нерешительность в принятии той или другой версии, мешавшая тому, чтобы одна из них получила окончательное доверие, была столь же давней, как и их возникновение. Но ничто не возникает из ничего. И если в одной из версий Квирин связывался с Титом Татием, то причины здесь две: с одной стороны, игра слов в отношении названия города Cures, а с другой стороны — Татий со своими сабинянами в легенде взял на себя роль «составляющей третьей функции» (плодородие), т. е. той, которую представлял Квирин. Какая причина могла во второй версии способствовать или вызвать интерпретацию бога как героя? Апофеоз и придание герою статуса бога характерны для греков. Поэтому считается, что превращение Ромула в Кви-рина стало возможным лишь после того, как римская идеология в какой-то мере прониклась греческими представлениями. Пусть будет так. Однако не случайно это явление произошло с Квирином, а не с каким-либо другим богом. В Индии и в Скандинавии индоевропейские боги третьей функции отличаются от верховных богов тем, что нередко существуют как люди и среди людей. Вспомним Нерту у Тацита (богиню, которую зовут так же, как одного из богов ванов, типичного для северной мифологии, — Ньёрд) и ее ежегодную прогулку по нациям ее поклонников (Tac. G. 40, 3–4), а кроме того вспомним, что Фрейр — точно так же, в Уппсале — ходит из одной деревни в другую вместе со своей женой-жрицей, и что в честь него устраиваются пиры[321]. Вспомним также, что в Индии Индра следующим упреком обосновывает свой отказ допустить Ашвинов (Aivin) к жертвоприношениям: «Они — не настоящие боги, — говорит он, — они постоянно бывают среди людей и живут как люди». Поэтому вполне можно понять, что бог *Couirmo- по своей природе был близок к людям и давал повод легенде присвоить себе смешанный, двойственный статус бога и человека, что было бы совершенно немыслимо для Марса и для Юпитера. С другой стороны, не следует забывать, что поскольку рассказы о первых временах Рима в значительной мере представляют собой «очеловеченную» и превращенную в историю мифологию, то Ромул, как многие другие персонажи этого повествования, вполне мог исполнять роль, которую у других индоевропейских народов, в большей мере склонных к умозрительности, играют один или несколько богов. Таким образом, вплоть до основания Рима, когда характер роли меняется, становясь ролью царя, Ромул главным образом предстает как близнец, неразлучный с братом, и оба они живут как пастухи. Как же не вспомнить ведическую и до-ведическую теологему, которая среди богов третьей функции выделяет двух Насатья: Ашвинов, богов-близнецов, за которыми признается ценность, достаточно репрезентативная, чтобы канонический список богов трех функций составили Митра-Варуна, Индра и оба принадлежащие к Насатья? Вполне понятна важность концепта рождения близнецов на уровне понятий изобилия, жизнеспособности, плодовитости, плодородия: у многих народов создается новое представление, согласно которому рождение близнецов становится символом и залогом всего этого. Так было у индоиранцев: практически неотличимые друг от друга в ведических гимнах и ритуалах, Насатья-Ашвины, благодаря этому запасу жизненной силы, свидетельством которой является то, что их двое, осыпают благодеяниями многие сферы третьей функции: они омолаживают стариков, излечивают больных людей и животных, исцеляют калек, соединяют, обогащают, спасают от опасностей и от преследователей, дарят чудесных коров и коней, делают так, что бьют молочные и медовые ключи, и т. д. Попав в Риме из мифологи в историю, близнецы, по-видимому, в других латинских городах сохранили более высокую роль: промежуточную, по крайней мере, между человеческой и божественной. Так, в Пренесте легенда об основателе Цеку-ле напоминает в некоторых отношениях легенду об основателе Рима Ромуле, однако пара братьев-близнецов или эквивалентных близнецам помещена в другое поколение: они приходятся ему дядями. Рассказывали, что до основания города в той местности жили два брата-пастуха Депидии (или Дигидии) и их сестра. Однажды, когда она сидела у очага, ей в чрево упала искра и оплодотворила ее. Она положила новорожденного на берегу ручья, где его нашли девушки, пришедшие за водой (в одном из вариантов они названы сестрами Депидиев). Они принесли младенца братьям Депидиям, ее дядям. Те вырастили ребенка. Проведя юность среди пастухов, он собрал компанию сверстников и основал Пренесту (Serv. Aen. 7, 678; Schol. Veron. Aen., 7. 681; Solin. 2, 9). Хотя прямо не сказано, что Депидии — близнецы, но поскольку их двое, и они неразлучны, напрашивается вывод, что они все же ими являются. Но они — божественны: «Там также были два брата, — говорит комментатор Вергилия, — которых называли божественными» (qui diui appellabantur). Следовательно, можно думать, что изначально в мифологии латинских народов существовала пара братьев-пастухов, по-видимому, близнецов, которые были богами, но жили среди людей. Отсюда «истории» возникновения различных городов пошли разными путями. Т. е. возник тип, подобный ведическим Насатья, и хотя в Риме концепт «полубога» представляется результатом греческого влияния, менее конкретное понятие divi (боги) в Пренесте могло сохранить подлинное латинское значение. Такая точка зрения подтверждается многочисленными соответствиями, которые можно заметить между легендой о детстве Ромула и Рема и чертами или действиями, приписываемыми богам-близнецам в Ригведе. Как только что отмечалось, боги Насатья сначала были отвергнуты остальными богами, так как они «общались с людьми», и в литературе в последующее время иногда их рассматривали как богов даже не людей, а шудр: как что-то низшее и даже не входящее в упорядоченное общество. Так живут Ромул и его брат: они чужды установившемуся порядку. Они преданны униженным, они с презрением относятся к людям царя, они управляют стадами (Plut. Rom. 6, 7). В их бунте им помогут либо пастухи (Liv. 1, 5, 7), либо сборище нищих и рабов (Plut. Rom. 7, 2), предвосхищающее простонародное население Asyle (ibid., 9, 5). Подобно Насатья, которые постоянно заняты исправлением несправедливостей и злодеяний людей, Ромул и Рем — поборники справедливости. Так как они люди, а не боги, они не могут творить чудеса, как это обычно делают ведические близнецы, но они делают все, что в человеческих силах, чтобы защитить своих друзей от разбойников, а пастухов доброго Нумитора — от пастухов злого Амулия (Plut. Rom. 6, 8). Одним из самых знаменитых и давних благодеяний Насатья было то, что они вызволили старого Cyavana из жалкого состояния, в котором он находился, и дали ему возможность по-новому построить свою жизнь и судьбу. Для Ромула и Рема первым великим подвигом было возрождение деда, которого притеснял Амулий, лишивший его имущества и царства. Обычно братья Насатья описываются как неотличимые друг от друга, но есть один ведический текст, который все же вносит определенное различие между ними: один из них — сын Неба, а другой, по-видимому, — сын человека. Здесь есть аналогия с греческими Диоскурами. Различие между римскими близнецами — другого порядка, однако оно весьма значительно: они были равны по рождению, но один из них погиб и получил только те почести, которые полагаются великим покойникам, а второму брату предстояло основать Рим, царствовать и стать Квирином. Одно из благодеяний, о которых просят Насатья, — это прекратить бесплодие самок, женщин. Ромул и Рем стоят во главе двух групп луперков, которые должны были ежегодно вызывать беременность женщин, подвергая их бичеванию (согласно одной этиологической легенде, — которая относит появление этого ритуала ко временам, наступившим после основания Рима и после похищения сабинянок, — ритуал был придуман для того, чтобы прекратилось всеобщее бесплодие). Во всей Ригведе волк — злобное существо, и его имя даже символизирует всякого иноземного врага. Единственное исключение касается Насатья: по просьбе одной волчицы они возвращают зрение юноше, который зарезал баранов своего отца, чтобы ее накормить, а тот в наказание за это выколол ему глаза. Нам известна роль «дружественной» волчицы по легенде о римских близнецах. Одно из самых знаменитых чудес, которые сотворили Насатья, — это то, что они дали возможность одному герою мифа выжить в пылающем костре, куда его бросили, и даже сделали это «огненное купание» приятным для него. В одной из версий легенды о Ромуле и Реме они рождаются в огне очага, а в Пренесте племянник этих divi fratres (божественных братьев) — Цекул — был рожден так же, и впоследствии он доказывал свое умение владеть огнем, вызывая по своей воле пожар и погашая его. Этот параллелизм подтверждает древность типажа «близнецов» — героев или богов, — причем именно в третьей функции. Следовательно, к каким бы временам ни относилось формальное отождествление Квирина с самым блистательным близнецом, сходство, которое сделало это возможным, было заложено в природе и в статусе персонажей. Если бы мы больше знали о том, как функционировали в древние времена курии, а также о статусе курионов, и особенно о Curio maximus (главном курионе), — возможно, обнаружились бы и другие черты сходства между основателем, которому приписывается организация Квиритов по куриям, и богом, в имени которого это отразилось. Весьма примечательно, что по другой версии легенды Квирин уже раньше был богом, и его принесли с собой сабиняне, составлявшие «третью функцию», и таким образом организация «по куриям» объясняется на основе этой составляющей: каждая из тридцати курий, — как думали, несмотря на очевидное местное значение многих из них, — получила имя одной из юных сабинянок, похищение которых спровоцировало войну, и посредничество которых привело к созданию единого общества. Отождествление с Ромулом имело весьма важные последствия и немало способствовало нарушению внутренней логичности типажа Квирина. Легенда о Ромуле длинна и сложна, и в ней обнаруживаются несколько сюжетов, поданных в определенной последовательности. Можно выделить, по меньшей мере, три момента: с детства и до восстановления своего деда и отъезда из Альбы, Ромул вместе со своим братом был пастухом: конечно, гордым и знатным, но все же пастухом. Затем, когда Рем оказался устраненным во время основания города, Ромул стал воином: начиная с похищения девушек и до синойкизма его история — это история борьбы против союзников сабинян, затем против самих сабинян, и в этом варианте, где речь идет о трех народах (латинянах, этрусках и сабинянах), появляется связь с этрусским «мастером войны» Лукумоном (Lucumon). Наконец, после синойкизма, сначала коллегиально, почти на правах консула, вместе с сабинянином Татием, а затем один, в результате эволюции, навеянной греческими тиранами, он становится царем и осуществляет тот тип царствования (несколько войн здесь имеют второстепенное значение), который после него уравновесит Нума — как совершенно комплементарный типаж. Однако эти три Ромула составляют одно целое, и после того как Квирин был отождествлен с Ромулом I, он — в силу указанных выше условий — совершенно естественно оказался отождествленным с Ромулом II и Ромулом III. Так происходит со всеми интерпретациями: когда римляне в конце республиканской эпохи переосмыслили — вследствие совпадения одного из ритуалов, а также, возможно, из-за понятия «белизны» — свою богиню Аврору, Мать Матуту, интерпретировав ее как Левкофею, то вся легенда последней была перенесена на первую; и так как у Левкофеи был сын Меликерт-Палемон, то Матута неожиданно стала матерью Портуна, которого отождествляли с Меликертом из-за того, что оба они были связаны с водой (Ov. F. 6, 545–546). Одна из трудностей, мешающих ясному пониманию галло-римских богов, заключается в том, что многие из них были названы «Марсом», «Меркурием» или «Аполлоном» из-за обрывочных и переменчивых аналогий с этими римскими богами, тогда как по существу эти различные Марсы, Меркурии и Аполлоны весьма отличались друг от друга. Иногда мы сталкиваемся с растерянностью, которую испытывали в связи с этим добросовестные теоретики. Так, в начале XIII в. ученый Саксон Грамматик долго недоумевал, пытаясь найти соответствия между Юпитером и Марсом и скандинавскими Одином и Тором: Юпитер — бог, извергающий гром и молнии так же, как Тор, но он — царь богов, как Óдин. С другой стороны, этот царь богов является богом войны, как Марс… Но в эпоху античности такая щепетильность легко преодолевалась. Как только происходило отождествление, основанное на частичном соответствии, оно продолжало существовать, подвергаясь последовательным исправлениям и нововведениям. Конечно, именно это и произошло с Квирином, ставшим Ромулом. В легенде он оказался сыном Марса, что не имело большого значения, оставаясь в рамках литературы. Но нередко он надевал воинский доспех Ромула II, что противоречило его природе, его характеру. В этом случае начинал действовать второй фактор. В Индии, как и в Скандинавии, божества третьей функции такие, как Ашвины, как боги ваны, Ньёрд и Фрейр, действовали мирно. Но одно из их благодеяний, которые перечислены в гимнах, посвященных Ашвинам, не носит воинского характера. Если этим богам случается явиться во время сражения, то это происходит не для того, чтобы воевать, а для того, чтобы оградить от опасности воина, которому она угрожает. И даже это является исключением, а глагол ksi-, означающий «жить мирно», весьма часто встречается в характерных для этих богов молитвах, во всем, что касается их самих и их уровня. В Саге об Инглингах, в которой в человеческом образе царей представлены главные северные боги, а их теология транспонирована в царские деяния, когда, после описания магического могущества и воинских талантов «царя» Одина, заходит речь о Ньёрде, то в главе 9 мы находим следующее: «В его времена царил чудесный мир (fridr allgódr), и было так много различных урожаев, что шведы подумали, будто Ньёрд был властен над урожаями и над движимым имуществом людей». И это, несомненно, фундаментальное качество: более тысячи лет назад Тацит отметил исключительный мир, который соблюдался в течение всего времени, когда Нерта — женский омоним Ньёрда — переходила из деревни в деревню в колеснице, которую везли коровы (G. 40, 3–4):
«Это дни радости, и те места, гостеприимство которых она принимает, пребывают в празднестве. Никто не затевает войн, никто не берет в руки оружия. Все железные предметы запираются. Это единственный период времени, когда люди познают мирную жизнь и наслаждаются ею».Сын и наследник Ньёрда — Фрейр (второй царь этого же типа) — дал свое имя миру, прославленному в Саге об Инглингах (Ynglingasaga, 10):
«…Он был счастлив в друзьях и урожаях, как его отец. Он воздвиг большой храм в Уппсале, сделал его столицей и сконцентрировал в нем все налоги, которые взимал, все земли и все наличные деньги. И тогда наступило то «богатство Уппсалы», которое сохранилось и в дальнейшем. В его время начался «мир FróSi» (еще одно его имя), и урожаи были хорошими во всех провинциях. Шведы приписали это Фрейру, и ему поклонялись больше, чем любому другому богу, потому что в его времена народ страны был богаче, чем прежде, благодаря миру и хорошим урожаям».Эта мечта о мире, который несет покой и богатство, это покровительство laeti dies[322], когда не использовалось оружие, — было ли все это связано с третьим членом ведической и скандинавской триад, как того требовала логика его функции? Поэты эпохи Августа дают положительный ответ на этот вопрос. Это даже было темой пропаганды: после воинственного Цезаря Август принес мир, «квиринальский» мир. В начале Энеиды (1, 286–296) мы видим откровение, опирающееся на точную теологию, которое Юпитер сообщает Венере, и его слова о будущем величии Рима заканчиваются следующим диптихом:
«Троянец по своему знатному происхождению, носящий имя Юлий, восходящее к прославленному Iulus, Цезарь расширит свои владения до Океана, а его слава поднимется до звезд. А ты сам когда-нибудь, освободившись от забот, примешь его в небе, нагруженного трофеями Востока, и к нему тоже будут обращаться с обетами. И тогда, отказавшись от войн, суровое человечество смягчится. Древние Фидея, Веста, Квирин со своим братом Ремом будут править миром. Ужасные Ворота войны будут заперты железными цепями. А внутри, сидя на своем жестком оружии с руками, связанными сотней бронзовых узлов за спиной, бесчестная Распря будет издавать ужасное рычание из окровавленных уст».Еще в эпоху античности спорили о точном значении, которое следует придавать неожиданному упоминанию Квирина в полустишии Remo cum fratre Quirinus[323]. Что это: объединение римлянина с римлянином при полном забвении каких-либо мятежных группировок? Или, что более вероятно, это Август с кем-то из ближайших сотрудников — таких, как Агриппа? Во всяком случае, имя Квирина не могло быть случайно оброненным словом в таком контексте, где почти каждое слово отсылало к известным проявлениям политики государя (saecula — вековые игры; Vesta — новый культ, введенный на Палатине, как его называл Овидий, — Vesta Caesarea; Belli portae, — закрытие храма Януса). Празднество Робига 25-го апреля, на котором проводит службу фламин Квирина, дает Овидию удобный предлог для того, чтобы вернуться к той же теме (4, 911–932). Овидий сочиняет, в духе царствования, просьбу, с которой священник якобы обращается к неприятному gobelin — «ржавчине» на хлебных колосьях. Он просит, чтобы тот убрал свои корявые руки с колосьев, чтобы (если это так необходимо) он напал на что угодно, кроме уязвимого урожая, хоть на твердый металл. Пусть поторопится и уничтожит то, что следует уничтожить — мечи и зловредные дротики! Они уже больше не нужны, пусть весь мир насладится покоем. Обычно принято считать, что такое восторженное восхваление мира от имени Квирина — явление недавнее. Это якобы продолжение противопоставления — также рассматриваемого как позднее явление — квиритов и воинов (milites). Имеются четыре причины отказаться от этой гипотезы. Во-первых (повторим это снова), мира требует группа логичных понятий, составляющих функцию древнейшего Квирина. Во-вторых, было бы странно полагать, что это нововведение относится к тому времени, когда — благодаря отождествлению его с Ромулом — Квирин, напротив, имел причины стать воинственным, если он таким не был раньше, либо развить этот аспект, если это было ему уже присуще. С другой стороны, хотя некоторые древние эрудиты прекрасно ощущали этимологическую связь между Квирином и квиритами[324], то все же не было (по крайней мере, в последние века) достаточной взаимозависимости между этими двумя понятиями для того, чтобы изменение и развитие одного из них автоматически влекло бы за собой изменение другого. Наконец, нет никакой уверенности в том, что возникновение противопоставления квириты — воины относится к столь недавним временам. Конечно, в первую очередь его иллюстрирует знаменитое обращение Цезаря к своим усталым солдатам: ведь стоило ему только презрительно назвать их квиритами, как они, раскаявшись, тут же вспомнили о своем долге и вернулись в свой образ воинов (Suet. Caes. 70; etc.). Однако ошибается Виссова, полагая, что это противопоставление существует только здесь и в прекрасном стихе позднего поэта Клавдиана. В частности, так говорит Тит Ливий, используя его как что-то обычное на протяжении 45, 37–38, наравне с другим противопоставлением: exercitus — plebs[325]. И в особенности свидетельство об этом есть в некоторых формулировках, которые подробно описал Байе. Так, Варрон приводит следующие примеры, которые, по его словам, он нашел в Commentarii Consulares — своего рода руководстве для консулов по проведении церемонии при вступлении в должность:
«Тот, кто возьмет на себя командование армией, говорит герольду: “Кальпурний, созови всех квиритов сюда ко мне”. И герольд говорит: “Вы все, квириты, явитесь сюда, где находятся iudices (судьи)”. Тогда консул обращается к армии (ad exercitum): “Я приказываю вам, согласно правилам, построиться по центуриям (comitia centuriata)”».К сожалению, Варрон не переписал продолжение формулировок. Однако и того, что он цитирует, достаточно: здесь видно, с какой тщательностью консул, названный iudex, прежде чем взять на себя командование (imperaturus), в каждой фразе обозначает словом квириты собранных им людей, которые еще являются гражданскими лицами, не военными, тогда как — уже приняв командование — консул непосредственно обращается к слушателям, не прибегая к помощи герольда (impero), и слово Quirites уже не появляется, а адресатом приказания является уже только exercitus (войско). Следовательно, качество штатских людей, отличающее Quirites[326], когда Цезарь столь уместно употребил это слово, было давним явлением и, по-видимому, основным, поскольку, хотя слова того же происхождения — curia, Quirites, Quirinus — развивались независимо друг от друга и по-разному, все же они имеют определенное значение: штатское у двух первых, в противоположность военному, а третье слово означает мир — в противоположность войне. Значение слова curia[327] вытекает из самого определения comitia curiata, созываемых curiatim по призыву ликтора, в отличие от comitia centuriata, к которым призывает сигнал трубы (Gell. 15, 27). В первом случае голосование происходит по семьям (или кланам), ex generibus, т. е. в естественных рамках жизни общества, а во втором случае — в зависимости от степени состоятельности и от возраста, ex censu et aetate, т. е. в условиях мобилизации. Следовательно, незаконно, чтобы центуриаль-ные комиции, а не куриальные — собирались внутри pomerium, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit[328]. Дело осложняется тем, что люди, составляющие, соответственно, курии и центурии, а также те, кого называют квиритами, и те, кто является воинами, — в те времена, когда мы можем их наблюдать, — это одни и те же люди. Когда мы выше говорили о Марсе, то напомнили, что Рим уже не имел групп, специализирующихся на войне, — людей, которые постоянно были бы только воинами: воинами по призванию или посвященными в воинское звание, как это еще встречалось у самнитов в начале III в., а также у индоиранцев под названием màrya. Когда они исчезли? Определить это невозможно, так как в летописях на протяжении всего периода царской власти говорится только об армии, состоящей из легионов. И вот, в этой форме — единственной, которую мы знаем, — каждый римлянин в возрасте, ограниченном определенными рамками, попеременно бывает штатским и солдатом, гражданином и бойцом, в зависимости от обстоятельств. Иначе говоря, нет исключительных функциональных категорий, какими были кшатрии и вайшьи в Индии, а также jarlar и karlar эддической Rigspula или же flaith у ирландцев (галльские equites) с одной стороны, и — с другой стороны — крестьянской массы скотоводов. Речь идет о двух видах деятельности (морали, права, отношений и т. д.), которые циклически следуют друг за другом в жизни взрослых людей. Каждый, будь он патрицием или плебеем, переходит со своего поля в свою центурию, затем складывает оружие и берется за плуг или надзирает за пахарем. Одним словом, римлянин — это солдат-пахарь, самый знаменитый пример которого — Цинциннат. Это чередование, которое для многих поколений было связано со сменой времен года, прежде чем периоды стали чередоваться беспорядочно, отразилось и на понятии «Квирин мирный». Он не покровительствует (и вряд ли когда-либо делал это) социальной группе, отстраненной от военной службы в противоположность другой группе, исключительно воинской даже в мирное время. В Риме нет и никогда не было ничего подобного. Квирин покровительствует лишь одному виду деятельности, которой каждый римлянин занимается поочередно и которая делает его — в зависимости от точки зрения — то штатским человеком между двумя призывами в армию, то солдатом между двумя отпусками. Так объясняются два варианта определения, которые дает комментатор Вергилия. Поясняя слова «Квирин вместе с братом» (Remo cum fratre Quirinus) в первой песне Энеиды, Сервий пишет:
«Когда Марс свирепствует (cum saeuit) его зовут Gradivus; когда же он спокоен (cum tranquillus est)[329], тогда его зовут Квирин. Он имеет в Риме два храма: один — внутри города. Это храм Кви-рину спокойному и охраняющему город (quasi custodis et tranquilli). Другой храм находится на via Appia, за пределами города, у ворот. Это храм Квирину-воину (quasi bellatoris), или Gradivus («шествующему»)». Затем, в шестой песне, встретив опять Квирина в связи с трофейным доспехами, снятыми с вражеского полководца (860), Сервий пишет: «Квирин — это Марс, руководящий миром (qui praeest paci), и ему посвящается культ в городе, а Марс войны (belli Mars) имеет храм за городом».Эти формулировки — которые показались странными столь многим комментаторам, что они, по своему обыкновению, объявили их не имеющими ценности, — напротив, очень хорошо описывают на уровне богов то, что на уровне людей представляет собой статус жизни. Точно так же, как воины и квириты являются чередующимися и противостоящими друг другу аспектами жизни одних и тех же людей, аналогично этому Марс и Квирин руководят одним и тем же социальным материалом, поделив между собой войну и мир: бурную, но ограниченную войну — и мир, спокойный, но бдительный; войну граждан, мир резервистов. Понятие бдительности в покое (quasi custodis et tranquilli), поддерживающее отождествление Квирина с Марсом, было всегда близко римлянам. Во время последней войны (к сожалению, гражданской), в которой участвовал Цицерон, он вывел ее теорию, которую изложил в прекрасных формулировках (Philip. 2, 113): «слово “мир” — приятно, а его реальное осуществление — счастье. Но как отличается от мира рабство! Мир — это свобода в покое (pax est tranquilla libertas), тогда как рабство — это худшее из зол и бедствий, его надо отвергать не только ценой войны, но даже ценой смерти». После окончания полумифической войны, во время которой лишь недавно появившаяся свобода вынудила Порсенну себя уважать, разве Рим не придерживался всегда этого правила, кода имел дело с внешним врагом? Один обряд — по-видимому, ежегодный, — о котором хотелось бы знать больше, но смысл которого ясен (и было бы слишком большой придирчивостью отнестись к нему с недоверием)[330], весьма показательно отражает эту бдительность: мы мельком узнаем о нем из одного комментария, в котором Фест и сокращенно изложивший его автор объясняют название одного сосуда: словом persillum называли покрытую снаружи смолой палочку для размешивания, содержавшую мазь, которой фламин Портуна обмазывал оружие Квирина (Fest. c. 321 L2). То, что оружие натиралось жирным веществом, практически означало, что им не собирались пользоваться немедленно, но хотели сохранить его в хорошем состоянии на будущее. Это именно то, что подходит Марсу «спокойному» (Mars tranquillus). А так как весьма вероятно, что Портун всегда был богом ворот[331], то участие его фламина правдоподобно. Если храм Марса воинственного находится за крепостными стенами несколько впереди ворот Капены, то храм Марса, который защищает мир (Mars qui praeest paci), расположен в городе, в выступе, который образует стена Сервия, следуя контуру Квиринала, вблизи двух ворот — Sanqualis (посвященные богу Санку) и Salutaris. Фест колеблется, он не уверен, следует ли связывать название с холмом или со святилищем (sive quod proxime eam sacellum est Quirini[332], c. 361 L2). Расположение двух мест культа, противоположное по отношению к важным местам крепостных стен, какими являются ворота, делает естественным интерес Привратника к хорошему состоянию запасного оружия, которое символизирует оружие Хранителя Мира. Разве не сотрудничали Портун, которого изображали с ключом в руках (Paul. c. 161 L2), и Квирин, характеризуемый как custos et tranquillus[333]? Таким образом, сближение Квирина с воинской функцией шло двумя путями: с одной стороны, — значимость типа Ромула, с которым его отождествили по совсем другим причинам; с другой стороны, — форма, которую очень рано приняло res militaris romaine[334], благодаря чему любой штатский человек становился человеком Марса с отсрочкой до призыва. Хотя второй путь не привел к полной милитаризации, тем не менее, он способствовал греческой интерпретации, которая со времен Полибия прочно устанавливается и уже никогда не ставится под сомнение: Эниалий (Ένυάλιος). Этот очень древний бог войны, имя которого недавно было прочитано на табличках, написанных линейным микенским шрифтом В, очень рано был отождествлен с Аресом, причем в такой степени, что уже в Илиаде он был всего лишь именем или прозвищем великого бога сражений. По-видимому, именно это вторичное использование стало причиной отождествления его с Квирином. Вероятно, между Квирином и Марсом было замечено ограниченное отождествление, о котором позднее свидетельствовали удачные формулировки Сервия. По-видимому, инициаторы «переноса» стали искать греческого бога, которого также путали бы с Аресом: и тут неизбежно возникал Эниалий. Однако любая интерпретация обманчива и ведет к искажению: отношения между Эниалием и Аресом отнюдь не основаны на чередовании прекращенной войны и войны разразившейся. Они основаны только на этой последней, причем оба они разжигают войну. Это отличие (впрочем, весьма существенное) как-то стерлось у римского бога, и в понимании, по крайней мере, греческих авторов, само имя Эниалий превратило Квирина в воина (πολεμιστής), чем он вовсе не был. От Марса tranquillus остался только Марс. И стали считать (как это делают до сих пор некоторые современные авторы, забывшие о параллели Игувия и об отнюдь не воинственных службах фламина Кви-рина), что речь идет о двух эквивалентных богах, один из которых — собственно латинский, а другой — сабинский бог, бог «Куров», заимствованный Курами (ascitus Curibus), принесенный Титом Татием во время синойкизма. Так Квирин стал — согласно одной из двух версий легенды о возникновении Рима — «сабинским Марсом»[335]. Вот такое объяснение дает, например, Дионисий Галикарнасский (2, 48, 2): «Сабиняне, а с их подачи и римляне, дали Эниалию имя Квирин, хотя они не могли точно сказать, Арес это или нет. Некоторые действительно признают, что речь идет о двух наименованиях одного бога — предводителя состязающихся в сражении (πολεμικών άγώνων ήγεμόνος), а другие утверждают, что это имена двух воинственных божеств (δαιμόνων πολεμιστών)…». Существование салиев Квирина (о которых пойдет речь ниже) наряду с салиями Марса лишь укрепило уверенность греческих толкователей в их мнении. В некоторых случаях отождествление Квирина с Ромулом привело к столь же полной милитаризации. Вспомним видение Прокула Юлия, которое предстало перед ним после гибели Основателя. Хотя Плутарх, с присущей грекам мудростью, вкладывает в уста нового бога двоякий совет, обещающий римлянам высшую степень могущества, если они будут проявлять не только храбрость, но и сдержанность (σωφροσύνην μετ’ άνδρείας άσκουντες), все же кажется, что собственно римский рассказ обошелся без умеренности. Содержание соединения Romulus — Quirinus как по условию, так и по обещанию — воинственное у Тита Ливия (1, 16, 7): «Иди и объяви римлянам, что боги желают, чтобы мой Рим был во главе вселенной. Пусть они, следовательно, занимаются военным искусством. Пусть они знают сами и пусть они передают потомкам, что нет такой человеческой силы, которая могла бы противостоять римскому оружию». Это призвание завоевателя присуще Ромулу, сыну Марса, но Квирин, посмертный Ромул, берет на себя эту честь и это обязательство. Так разрешаются противоречия типа божества, ставшего слишком сложным. У Тита Ливия воинственные призывы Квирина, каким его понимает Юлий Прокул, в каждой своей части противоречат молитве, с которой у Овидия фламин Квирина обращается к gobelin — «ржавчине» на хлебах: лучше грызи ты мечи со всем вредоносным оружьем[336]. В то время как у греческих наблюдателей, в результате сокращения до «Марса», формулировка Марс, который предводительствует миром (Mars qui praeest paci), доходит до интерпретации Эниалия, в Риме, вследствие разрастания «pax», процесс уподобления идет в противоположном направлении, что приводит к Янусу: разве великое благо, каким является мир, не отмечено торжественным запиранием ворот Януса, отпирание которых, напротив, сопровождает начало войны? Разве грекоподобная легенда не превращает этого Януса в мирного старого царя из утраченного золотого века? Именно таким он предстает нам в начале поэмы Фасты (1, 253–254) — настроенный даже более мирно, чем его коллега Портун, который, по крайней мере, посылает своего фламина, чтобы тот смазал жиром оружие Квирина: «Я не имею ничего общего с войной: я защищал мир, я защищал ворота», — говорит он и добавляет, указывая на ключ: «Вот мое оружие». Поэтому неудивительно, что иногда объединяли два концепта божеств — Януса и Квирина, хотя устойчивый культ так и не возник. Главный пример, о котором стоит говорить, это строки в отрывке Res Gestae, 13, где Август рассказывает о трех случаях, когда запирались ворота храма Януса, что стало возможно благодаря его политике: «Янус Квирин, о котором наши предки полагали, что он должен быть заперт только тогда, когда во всей империи римского народа господствовал бы мир, плод его побед на земле и на море, во время моего принципата Сенат три раза решал его запереть»[337]. Известно также, как подправил это выражение Гораций, чтобы подчеркнуть имя Квирин и, таким образом, восстановить древнюю триаду в диптихе, образуемом двумя последними одами: «Он запер Януса Квирина, Janum Quirini, свободного от войны». Таков проясненный насколько возможно, самый непростой из великих персонажей римской теологии. Если отвлечься от расширений, которые под его именем присущи Ромулу или Марсу, то картина, которая теперь у нас имеется, обогащает, но не опровергает ту картину, какую составляли те элементы, древность которых была несомненной. К понятиям организованной социальной массы, питания этой массы и вообще ее процветания добавилось в первую очередь понятие мира: конечно, мира бдительного и образующего структуру с обрамляющими его войнами, но вполне соответствующего интересам «третьей функции»[338]. Теперь мы кратко рассмотрим некоторых богов «группы Тита Татия», в которой Квирин, как уже было сказано, — всего лишь один член среди других. Надо ли повторять, что, говоря здесь о Тите Татии, мы ни в коей мере не собираемся удостоверять подлинность легенды о возникновении Рима? Просто те, кто ее сочинил, следовали естественному разделению, существующему в теологии: создавая в легенде «сабинскую составляющую» представители третьей функции (сельское изобилие, плодородие), они отнесли к ней многих богов этой функции, тем самым подчеркнув их родство. Мы, однако, выделим из пестрого списка «богов Тита Татия» только тех, которые являются местными и, кроме того, либо связаны с самим Квирином сотрудничеством или замещением, либо тех, которые связаны с божествами, имевшими такие отношения с Квирином. Мы уже упоминали Опу в связи с ее присутствием на Регии, где она составляет — вместе с группой Юпитера и с Марсом — вариант канонической триады, а также в связи с ее двумя празднествами: Опиконсивией 25 августа и Опалиями 19 декабря. Ее имя — абстрактное одушевленное существительное, означающее изобилие вообще, однако здесь, несомненно, имеется в виду сельскохозяйственное изобилие. В поздние времена греческая интерпретация ее как Реи превратит ее в жену Сатурна, которого интерпретировали как Кроноса, однако, полученный ею на Регии эпитет Консивия связывает ее с другим богом — Консом (Consus), как и последовательность ее двух празднеств и двух Консуалий. Так вот Конс, бог собранного урожая — сложенного (condere), по-видимому, сначала в подземных складах — имел культ, проводившийся на подземных алтарях на равнине Цирка, у подножия Палатина. Там его окружали изображения нескольких существ, отражающих различные моменты сельскохозяйственной деятельности: Сейя, Сегетия (или Сегеста, или Мессиа) и, преждевсего, Тутилина, имевшая более общие функции, близкие к функциям бога: по словам святого Августина (Ciu. D. 4, 8), она следит за тем, чтобы frumentis collectis atque reconditis, ut tute seruarentur[339]. Поэтому, — говорит Плиний (N. H. 18, 8), — ее имя, которое он даже не хочет записать, не следует произносить. Так как праздник Конса включал скачки, то интерпретаторы дали греческое толкование как Ποσειδων ’Ίππιος (Посейдон конный), вследствие чего он, в свою очередь, был переосмыслен как Neptunus equestris (Нептун конный)[340], затем стал просто называться Нептун. Поэты эпохи Империи сделают его братом Юпитера и Дита (Dis) подобно тому, как Посейдон был братом Зевса и Плутона. Однако все это — изыски писателей, каламбур, превративший его в бога совета. В чем здесь дело? Повлияла ли ошибочная этимология, из-за чего к этому празднику приписали и дату похищения сабинянок, либо (поскольку сабиняне должны были быть составляющей третьей функции в «римском синтезе»), — более или менее осознанная логика подсказала поместить этого бога в начало всего процесса? Во всяком случае, такой выбор предполагал, что Консуалии предшествовали объединению, и, следовательно, Конс не мог входить в список «богов Тита» рядом с Опой. Что касается Опы, то ей была оказана честь представлять на Регии весь «персонал» богов третьей функции, и это примечательно, так как сходится с фактами индийской мифологии и в особенности скандинавской. Уже у индоиранцев существует персонификация изобилия, которая в Ригведе носит имя Пурамдхи. Это свидетельствует об особом сходстве с одним из верховных богов — Бхагой, который тоже занимался распределением имущества. Персонификация того же понятия у германцев (древне-сканд. Fulla, получившее в древне-немецком написание Volla), по крайней мере в Скандинавии, связана не с божествами-ванами, а непосредственно с верховным богом Одином и с его женой. Поэтому представляется, что весьма рано Изобилие, являвшееся результатом, скорее, сельскохозяйственной деятельности, обрело тенденцию к отделению от технических исполнителей и поселилось у царей. Божество, которое Варрон называет Ларунда, — это, по-видимому, Ларента, у «могилы» которой, на Велабре, 23 декабря совершалось жертвоприношение. Речь идет, по-видимому, об Акке Ларенции (Ларентина). Она — не богиня, а героиня конкурирующих двух легенд. По одной легенде, она — куртизанка, которая после ночи, проведенной в святилище Геркулеса, стала сказочно богатой и завещала свое состояние римскому народу при условии, что ежегодно будет отмечаться праздник Ларенталии. Согласно второй легенде (по-видимому, более поздней), она — кормилица Ромула и Рема, жена пастуха, который дал им приют. В обоих рассказах есть черты, связывающие их с третьей функцией: в одном случае речь идет о сладострастии, торговле плотскими наслаждениями, о богатстве и щедрости, во втором случае речь идет о «выращивании» маленьких детей[341]. В обоих случаях фигурирует простая смертная женщина, из чего следует, что Ларенталии подаются как действия, относящиеся к погребальному культу, к почтению усопших предков (parentatio). В источниках есть разногласия в отношении жреца, или жрецов, проводивших церемонию. Авл Геллий (7, 7, 7) называет фламина Кривина, что неудивительно, поскольку речь идет о божестве третьей функции, и это, может быть, объясняет, — после того как Квирин был отождествлен с Ромулом, — почему Ларенция (Ларентина) была введена в качестве кормилицы в легенду о Ромуле. Плутарх же (Rom. 4, 7) называет «жреца Ареса» (что, конечно, неверно), но это можно было бы понять как неточность изложения, которую допускали греки, подобно тому, что можно отметить также в отношении Эниалия, Квирина. У Макробия читаем (1, 10, 15) per flaminem, без уточнения. По словам Цицерона (Ep. ad. Brut. 1, 15, 8), здесь речь идет о понтификах, проводящих праздник Ла-ренталии, а Варрон говорит: наши жрецы (sacerdotes nostri; L. L. 6, 23). Вполне возможно, что эти тексты сходятся друг с другом в том смысле, что несколько священников — понтифики, а также фламин Квирина — участвовали в проведении различных обрядов: как, например, великий понтифик и фламин Юпитера участвовали в жертвоприношении confarreatio, а понтифики и фламин Марса участвовали в жертвоприношении Equus October (по словам Cass. Dio 43, 24, 4)[342]. Культ Флоры с его весенними Флоралиями известен с таких времен и при таких обстоятельствах его введения (238 г.) и празднования, что вполне можно предположить греческое влияние: в нем были замечены следы Афродиты Анфеи (Αφροδίτη Άνθεία)[343]. Однако это подлинно римская богиня. Она встречается в землях сабинян и самнитов (где ее связывают с Церерой, у которой, согласно Schol. in Juu, 6, 249, она была помощницей в Риме). В самóм Городе ей служат двенадцать — младшие фламины. Это является свидетельством ее древности, что подтверждается также фактом ее присутствия в списке божеств, которым приносят жертвоприношения арвальские братья. Ее имя, в другой морфологической форме, служит названием цветка, а ее естественная роль заключается в том, чтобы защищать в период цветения не столько растения, доставляющие удовольствие, сколько посевы зерновых культур (Aug. Ciu. D. 4, 8) и другие полезные растения, в том числе деревья. В ее обязанности входили и второстепенные задачи. Как и имя Опа Консивия, ее имя считалось тайным именем Рима, скрывать которое было важно для мистической государственной безопасности. В этом качестве, а также как представительница третьей функции, стоящая ниже Юпитера и Марса (и, следовательно, составляя вместе с ними вариант канонической триады Юпитер — Марс — Квирин), она, по-видимому, была причастна к древнейшим гонкам колесниц как покровительница «зеленых»[344]. В одной из легенд, где она фигурирует вместе с Ларенцией, она, кроме того, представлена как куртизанка — благодетельница римского народа: став очень богатой в результате того, что очень ловко распорядилась своим телом, она якобы завещала свои богатства народу при условии, что ежегодно будут праздноваться Флоралии. Эта легенда, хотя и поздняя, все же не бессодержательна: так как во время Флоралий царила большая свобода, то это свидетельствует о том, что в Риме существовала естественная связь между плодовитостью и наслаждением, между природным цветением и плотскими усладами у людей. Это — сферы, которые другие индоевропейские общества также объединяют в рамках третьей функции. Здесь необходимо отметить, что — параллельно с Флорой и, как она, имея своего фламина, который считался наименее значительным из minors, «поскольку плоды деревьев представляют собой наименее объемное имущество», — существовала Pomona, покровительница плодов. В древних календарях ни Pomona, ни Флора не имеют своего праздника, и хотя на дороге Остии есть место, называемое Помонал, тем не менее, никогда не будет праздничного дня Помоналии. Весьма вероятное предположение выдвинул Виссо-ва, который считает, что культ этих божеств был подвижным, не имел точной даты, и его отмечали по мере роста разводимых культур. Древнюю природу Сатурна выявить невозможно[345] из-за отсутствия ясной этимологии (существует эпиграфический вариант Saeturnus, но он ничего не проясняет). Многие авторы предполагают, что имя Säturnus — этрусское, но что об этом известно? Прежде чем затеряться, вместе с Сатурналиями 17-го декабря, влившись в тип греческого бога Кроноса (с которым его отождествили и, следовательно, «женили» на Опе-Рее, его соседке по календарю, которая, однако, когда-то была ближе к Консу), Сатурн был заново интерпретирован на основе игры слов, которую современные лингвисты не признают: это толкование исходит из слова sata — «нечто посеянное», «посевы», «семя»; и, вероятно, в этом качестве он фигурирует рядом с Опой и Флорой в списке «богов Тита Татия». Все, что можно сказать о самом древнем Сатурне, — это то, что еще в царские времена он имел алтарь в юго-западной части Форума. Установление этого алтаря приписывают спутникам Геркулеса. Последний этрусский царь якобы решил заменить этот алтарь храмом, но поскольку, как и весь Капитолий, он был слишком быстро захвачен Республикой, то уже консулы посвятили здание Сатурну в 497 г. В течение всей эпохи Республики храм строился без инцидентов. Он был перестроен в 42 году до н. э. В 283 г. он сгорел и был восстановлен Диоклетианом, после чего ему довелось просуществовать до конца Империи. К сожалению, ни древность, ни жизнеспособность, ни локализация культа не дают никакой информации, так же как и весьма значительное, но вторичное использование templum Saturni, особенно в эпоху Республики: государственная казна, aerarium, была там размещена под охраной квесторов. Неизвестно также, что делать с тем, что Сатурна связывали с Луа Матер. Понтифики упоминали (Gell. 13, 23, 2) некую Lua Saturni наряду с некоей Nerio Martis, а также Virites Quirini и т. д. То есть и в этом случае, по-видимому, абстракция должна ясно продемонстрировать значимость бога. Единственное, что известно о Луа, — это то, что она вместе с Марсом, Минервой (очевидно, она замещала Нериену) и Вулканом входила в список божеств quibus spolia hostium dicare ius fasque est (которым закон и право велят посвящать вражеские доспехи). C другой стороны, ее имя происходит от глагола luere, имевшего, по-видимому, обобщенное значение, в котором его вытеснил произведенный от него глагол soluere. Эти два факта наводят на мысль, что Lua означала «распад», олицетворенное разрушение и, следовательно, была силой опасной, но иногда полезной: например, когда надо было уничтожить оружие, отнятое у врага и таким образом ослабить симпатическим действием то оружие, которое еще оставалось в руках врага. Но поскольку мы не знаем, какое значение имел ее союзник Сатурн, то бесполезно строить гипотезы о том, какую роль это разрушение играло в ее определении.
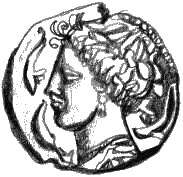

Глава VI АРХАИЧЕСКАЯ ТРИАДА. ДОПОЛНЕНИЯ
Прежде чем закончить этот достойный и важный раздел римской теологии, следует вернуться к Юпитеру, Марсу и Квирину и рассмотреть — опираясь на только что законченный анализ каждого из них в отдельности — те случаи, когда они противостоят друг другу или объединяются попарно или в составе триады. Как мы видели, Виссова относил к формулировочным свидетельствам, касающимся триады, тот ритуал, которым (как говорили) фециалы сопровождали заключение договора, и в подтверждение он приводил отрывок из Полибия (3, 25, 6). Однако речь в нем идет не об общепринятой формулировке. Как при любой клятве, возможен лишь один гарант — Юпитер, которому действительно подчинялись фециалы. Именно его, и только его, призывали в свидетели жрецы в тех, несомненно, формулировочных фразах, которые воспроизводит Тит Ливий, говоря о соглашении между римлянами и альбанцами в битве между Горациями и Куриациями (I, 24, 7–8): «Внемли, Юпитер, внемли, отец-отряженный (pater patratus) народа аль-банского, внемли, народ альбанский. От этих условий, в том виде, как они всенародно от начала и до конца оглашены по этим навощенным табличкам без злого умысла и как они здесь в сей день поняты вполне правильно, от них римский народ не отступится первым. А если отступится первым по общему решению и со злым умыслом, тогда ты, Юпитер, порази народ римский так, как в сей день здесь я поражаю этого кабанчика, и настолько сильней порази, насколько больше твоя мощь и могущество!»[346]. Следовательно, присутствие других богов рядом с Юпитером должно объясняться особыми обстоятельствами, которые подробно описаны в рассказе Полибия. Если рассматривать этот текст с таких позиций, то в нем можно обнаружить полезные сведения. В тот момент, когда разрушение Сагунто в Испании вот-вот спровоцирует вторую пуническую войну[347], историк чувствует себя обязанным (гл. 21) тщательно уточнить, каким был с самого начала отношений между Римом и Карфагеном их клятвенно принятый ими дипломатический статус. Два старых договора (первый относился к эпохе двух первых консулов и, вероятно, был апокрифом, возможно, копировавшим второй) определяли географические области суверенитета или контроля, которые каждая сторона признавала за другой и обязывалась соблюдать. Не предусматривалось никакого союза и никакой войны той или другой стороны с третьей. Не сформулирован ни один военный тезис (гл. 22–24). Когда приходит время Пирра — этого нежелательного «третьего», то оба города испытывают потребность определить свои взаимные позиции в соответствии с обстоятельствами, отразив их в новом тексте (гл. 25). Вначале в этом тексте подтверждаются, «сохраняются» предыдущие договоры. Однако затем добавляются пункты, касающиеся войны: в какой мере допустим союз с третьей стороной? В какой мере — в случае нападения на одного в зоне, которую он контролирует, — должен ему помогать второй? Формы этой помощи тщательно определены. Карфагеняне оставляют за собой монополию морских перевозок войск, в том числе римских. Они обязываются предоставлять во всех случаях суда для путешествия и для нападения. При этом оба народа несут расходы по содержанию своих военных частей (τα όψώνια: снабжение и т. д.). Однако установлено ограничение сотрудничества в одном отношении: никто не будет заставлять экипажи судов сходить на берег, если они этого не захотят. Закрепляя клятвой этот договор, римляне призывают в свидетели трех богов не только коллективно, для всего союза в целом, но также по отдельности — для каждой из двух сторон. Клятвенно подтверждается текст предыдущих договоров, которые были простыми соглашениями о сосуществовании и содержали только обещания соблюдать взаимное уважение. При этом клянутся Ζευς Λίθος, т. е. Jupiter Lapis — по ритуалу, который кратко описывает Полибий и в котором камень используется иначе, чем в приведенной Титом Ливием клятве paterpatratus, однако формулировка клятвы эквивалентна той, что цитирует Тит Ливий, переведя ее на греческий язык. Дополнение, содержащее новые пункты договора относительно войны и организации военного сотрудничества на суше и на море, подтверждается клятвой Марсом и Квирином (Άρης и Ένυάλιος). Можно предположить, что Полибий выразился неточно, и что Юпитер здесь главный, а Марс и Квирин добавлены только ради второй части договора. Невозможно представить себе какое-либо обязательство, из которого Юпитер был бы исключен. Однако для интерпретации триады важнее всего то, что Марс и Квирин появляются именно тогда, когда формулируются военные статьи договора, как будто в этом случае Юпитер недостаточно всесилен. И если присутствие Марса сразу становится понятным, когда речь идет о военном деле, тогда что здесь делает Квирин? Возможно, называя этих богов рядом друг с другом, Полибий имеет в виду только то, что при аналогичном употреблении достигается в греческом: вариация почти эквивалентных имен — Арес и Марс. Выше мы видели, что так эволюционировало имя Квирина, особенно у писателей, пользовавшихся греческим языком. Это характерно для таких авторов, как, например, Дионисий Галикарнасский, который был в плену интерпретации через Эниалия. Однако здесь, по-видимому, мы имеем дело с подлинно римской процедурой: какое значение здесь могло иметь совместное упоминание Марса и Квирина? Может быть, учитывая поздние времена, переосмысленный в Ромула, основателя и защитника Рима, здесь действительно Квирин (так же, как, например, в легенде о сражении при Сентине) является лишь неотделимым двойником Марса? Однако возможно, было различие в компетенции. Появление «третьего лица» — Пирра — ставит перед двумя дружественными народами не только вопросы откровенного военного сотрудничества, но и другие проблемы, связанные с границей между миром и войной, когда мир оказывается под угрозой, и требуется бдительность. Первый пункт договора дает нам представление о том, насколько все усложнилось: ведь если один из двух народов — римляне или карфагеняне — заключит письменный договор с Пирром, то он должен будет потребовать, чтобы было оговорено его право на оказание помощи второму народу в случае нападения на него! В самóм военном сотрудничестве предусмотрены ограничения, включены оговорки о нейтралитете: карфагеняне обязывались предоставлять суда для перевозки римских войск, и даже для боевых действий, но при условии, что «никто не будет заставлять экипажи покидать борт корабля (и, следовательно, сражаться), если они этого не захотят сами»… Марс не мог один отвечать за столь важные нюансы, и здесь потребовался Квирин, каким мы его понимаем. Предание, известное по одному краткому высказыванию Сервия, согласно которому салии находились под защитой Юпитера, Марса и Квирина (in tutela Jouis Martis Quirini), было обосновано выше: действительно была одна коллегия салиев Марса и еще одна — Квирина, причем талисманом были анкилы. Небесное происхождение прототипа делает естественным интерес Юпитера ко всему этому. Однако сосуществование этих двух групп вызывает затруднение, для которого хорошее решение нашел Lucien Gerschel (я его кратко излагаю). Те два месяца, когда салии являют себя, это месяцы, обрамляющие сезон войн; и, в частности, оба праздника, имеющие отношение к оружию, когда они демонстрируют свои таланты, отмечаются, соответственно, до и после сражений: это Квинкватрии 19-го марта и Армилустриум 19-го октября. Соответствующие технические выражения, которые при этом используются, — это в марте — ancilia movere, а в октябре — ancilia condere. Своими танцами и своим оружием салийцы не только открывают, но и замыкают летнюю военную кампанию с благоговением. Каждый раз это происходит по-разному, но с тем же результатом, что у Януса (к тому же, в песне его называют са-лийским): они обеспечивают переход — то от мира к войне, то от войны к миру. И как же Марс воинственный, т. е. просто Марс, и Марс умиротворенный, кем является Квирин, могли бы не сотрудничать на границах сфер своей деятельности? Две коллегии салиев не должны были распределять задачи между собой так, чтобы только салии Марса начинали войну, а салии Кви-рина одни приносили мир. И те, и другие принимают участие в обоих случаях, в своеобразной передаче полномочий от одного бога другому. Незачем также предполагать, что различались ритуалы: Квирин — бог бдительного мира — так же вооружен, как и Марс — бог войны. Следовательно, они демонстрировали смену богов одинаковыми танцами, в тех же самых одеяниях. При этом ни один из богов ни на что не покушался в другом, но дополнял его, и даже один подготавливал своими действиями возвращение другого. Это понятие подготовки, несомненно, играет очень важную роль: как мы видели, именно оно также служит обоснованием для смазки оружия Квирина, и хранение этого оружия доверено жрецу бога дверей. И это же понятие отражается в легендах о создании двух групп. В самом деле, Gerschel заметил своего рода хиазм[348] между инициаторами и теми, кто получает выгоду от создания этих двух групп: именно мирный Нума создает группу салиев Марса Шествующего (Liv. I, 20, 4), предвидя будущие войны царей, менее спокойных, чем он сам; и, напротив, самый воинственный из до-этрусских царей — Тулл Гостилий — в разгар битвы, беспокоясь о том, что война может долго длиться, не получив урегулирования, приносит обет создать вторую коллегию салиев, «если он победит сабинян сегодня же» (Dion. 3, 32, 4). И получается так, что совершенно мирный Нума служит Марсу и переходу к войне, а весьма воинственный Тулл служит Квирину и дает обет, стремясь обеспечить римлянам возможность выйти из затруднения и перейти от войны к миру на желательных для них условиях. В обете, который дает Тулл, создание второй группы салиев связывается с учреждением празднеств Сатурналий (может быть, надо понимать Консуалии?) и Опалий в декабре, которые, как говорит Дионисий, «римляне отмечают каждый год, закончив сбор урожая». Это посленяя идея передает все величие салийской машинерии: за пределами слов «война», «мир» он воплощает движущую силу и результаты войны и мира — отвагу, мужество, силу и победу; сельское хозяйство, плодородие и процветание, которым жрецы-танцоры способствуют поочередно, благодаря священным талисманам верховного бога. Более того, сотрудничество двух групп в то же время обеспечивает то, что выше войны и мира: преемственность политической и культурной жизни, власти и религии. Следовательно, эти талисманы, несмотря на их внешнее единообразие (так же, как, например, скифские талисманы, отличавшиеся разнообразием форм), вполне покрывают зоны трех функций[349]. Прежде чем отвлечься от этого общего очерка трех функций, следует сделать два примечания. Во-первых, мы укажем на определенный тип проблем, которые из него вытекают и на которые до сих пор обращали недостаточно внимания. Исследования такого рода, которые даже можно назвать экспериментами в том смысле, какой придают этому слову физики, заключаются в том, чтобы проследить за тем, что произойдет, когда именитые представители или важное практическое использование каждой из трех функций соприкоснутся или окажутся связанными некими отношениями с одним и тем же конкретным существом, с одним и тем же абстрактным понятием или с одним и тем же социальным механизмом: земля, золото и металлы, главные животные; жизнь и смерть; молодость и старость; брак, дружба, семья; простые числа, легко обретающие символическое значение, такие, как «два», «три» и т. д. Самым полезным из этих «реактивов» был конь. Результаты анализа можно кратко представить следующим образом. На первом уровне обнаруживаются два противоположных вида отношений, являющихся следствием двух аспектов Юпитера: его фламину запрещено ездить верхом на коне (Plut. Q. R. 40; Gell. 10, 15, 3). По-видимому, дело в том, что конь напоминает о войне, оскверняющей смертью, а этот священник стремится не быть запятнанным ни реально, ни символически. Напротив, Юпитер О. М. с Капитолия, верховный бог эпохи Республики, имеет на фронтоне своего храма квадриги, и именно на квадриге прибывает на Капитолий полководец, властитель на несколько часов благодаря своей победе. Однако когда Камилл впрягает в свою колесницу белых коней, Рим кричит о святотатстве, поскольку так мог прибыть только бог. Впрочем, здесь нет речи ни о каком жертвоприношении: Юпитеру никогда не приносили в жертву коня. Здесь конь — символ его могущества. Жертвоприношение коня происходит на втором уровне. Ритуал проводится только один, но он очень важен. Это Октябрьский конь — боевой конь, приносимый в дар Марсу, убиваемый дротиком. То, что получено в результате жертвоприношения, собрано на Регии, о чем говорилось выше. Наконец, на третьем уровне конь имеет уже только экономическую ценность и служит «машиной» для различных работ. С Квирином — богом того же уровня — его ничто не связывает. Напротив, Конс занимается им в достаточной мере для того, чтобы его греческой интерпретацией, в остальном неадекватной, стал Посейдон Конный (Ίππιος). Интерес его к коню характеризуется тем, что происходит во время его праздника, по-видимому, скорее, во время праздника 26 августа, чем 15 декабря: конь, а также все другие животные семейства лошадиных, используемые как тягловая сила или вьючные — ослы и мулы, — освобождаются от работы, и их украшают цветочными венками (Dion. 1, 33, 2, считает праздник Консуалии наследием аркадских Hippocrateia; Plut. Q. R. 48). Мы видим, что здесь конь уже не рассматривается как благородное животное или с точки зрения особой эффективности. Он предстает здесь всего лишь как один из многих представителей семейства лошадиных, наравне со всеми другими. Общей чертой для всех них является работа. Плутарх дает правильное объяснение в виде вопроса: «Если во время Консуалий осла освобождают от работы, то разве не потому, что, поскольку он трудится вместе с конем, то должен вместе с ним и отдыхать?» То же самое относится и к гонкам, проводимым в этот день, — гонкам, которые в легенде о Ромуле послужили поводом для похищения сабинянок: конечно, там участвовали и кони, но больше было лошаков и мулов (βούρδωνες: Malalas, Chronographia, Corpus Scrip torum Historiae Byzantinae 1831. С. 178; muli: Paul, c. 266 L2). Эти различные типы отношений, несомненно, древние. Поскольку известно, какую роль сыграли кони в период странствий и завоеваний индоевропейских отрядов, вполне можно ожидать, что и у других индоевропейских народов дело обстояло аналогичным образом. Это действительно было так в ведической Индии. На первом уровне два верховных бога — спокойный Митра, связанный с правом, и грозный Варуна — нередко противостоят друг другу как брахман и кшатрий (последний — в смысле временной царской власти). Ни в ритуалах, ни в гимнах Митра не связывается с конем, а в классическую эпоху один из запретов для видного брахмана заключается в том, что ему нельзя читать Веды, сидя верхом на лошади или на любом другом животном, используемом как транспортное средство (Manu 4, 120). В книгах, описывающих обряды, напротив, подчеркивается, что «конь — принадлежность Варуны», sa hi vanno yad asvah (Sat. Brahm. 4, 2, 1, 11; etc.), однако при этом никогда речь не идет о жертвоприношении лошади. Напротив, на втором уровне, на уровне кшатрия (ksatrà — принцип второй функции) в ашмамедхе совершается жертвоприношение коня ради царя, причем все происходит в условиях, абсолютно аналогичных церемонии October Equus. Наконец, на третьем уровне, хотя близнецов Насатья зовут также и Ашвины (это слово — производное от слова as va — конь), хотя в их обязанности, несомненно, входил уход за лошадьми и их лечение, и хотя, наконец, колесница, на которой они прибывают к месту жертвоприношения, как иногда говорят, бывала запряжена лошадьми (RV 1, 117, 2, etc.), тем не менее, эту колесницу — и только ее в мире богов — тянули также и ослы (1, 34, 9; 8, 85, 7). В гимне 1, 116, 2 в перечислении их подвигов есть возглас: «Осел, о Насатья, в гонке, в соревновании Яма, победил и выиграл тысячу…». А в Aitar. Brahm., 17, 1, 4–3, 4 упоминаются скачки и подобная же победа братьев Ашвинов, когда они «выиграли, используя ослов». Таким образом, мы видим полное соответствие, особенно примечательное на третьем уровне. С другой стороны, подчеркнем величайшую обобщенность триады Юпитер — Марс — Квирин: различение здесь не менее, а, может быть, и более важно, чем объединение. Тот факт, что такое объединение в культе встречается весьма редко, а также и то, что три старших фламина сотрудничают только в одном случае — при жертвоприношении Фидее, — может, конечно, объясняться привычностью, недостаточной актуальностью такого представления и не слишком важной ролью этого жречества в религии эпохи Республики, однако, прежде всего это связано с их характером. Три члена триады определяют три сферы в религиозном мышлении, и когда их взаимосвязанность по существу уже признана, и о ней периодически напоминают, то она отступает на второй план, становится практически менее важной, чем различия: у Юпитера, Марса и Квирина меньше поводов встретиться вместе, втроем, или же по двое, чем управлять каждому своей сферой. Им не грозила утрата в ходе истории общего места поклонения или общего празднества, поскольку таковых никогда не было. Если считать триадой постоянное, непрерывное и некоторым образом физическое объединение трех богов, то Юпитер, Марс и Квирин даже не могут называться триадой. Об этом, кстати, говорили некоторые ученые. Но, тогда, как же отразить отношения между ними? Лучше сохранить термин, имеющий в виду лишь число, и в то же время готовиться к тому, чтобы рассмотреть триады совершенно другого типа[350].
Часть II ДРЕВНЯЯ ТЕОЛОГИЯ

Глава I КАПИТОЛИЙСКАЯ ТРИАДА
1. Капитолийский Юпитер
Когда, — как говорили римляне, — «родился» храм Юпитера Optimus Maximus, в сентябрьские иды в 245 г. от основания Города, у него уже была длинная история, которую перекрыли лестные и лживые легенды, исказив ее непоправимым образом. Как говорили, первый этрусский царь дал обет во время войны с сабинянами и начал работы. Однако завершение строительства храма приписывали его внуку — последнему царю. Выбранная местность — сплошные скалы и ущелья — не облегчала дела. Выравнивание почвы, установление огромной искусственной платформы — стоили так дорого, что ресурсов, с помощью которых Тарквиний Гордый хотел возвести здание целиком, несмотря на вклад союзников и трофеи, добытые при Суессе Пометии, едва хватило на фундамент. Летописи, которые были не слишком благосклонно настроены к тиранам, тем не менее, свидетельствуют об искреннем уважении к грандиозным планам этого Хеопса Лация. Капитолийское святилище увенчивало огромные усилия, затраченные на строительство, на цивилизацию, от которой оно действительно неотделимо (Liv. 1, 56, 1–2): «Стремясь завершить строительство храма, для чего были призваны мастера со всей Этрурии, царь пользовался не только государственной казной, но и трудом рабочих из простого люда. Хотя этот труд, и сам по себе нелегкий, добавлялся к военной службе, все же простолюдины меньше тяготились тем, что своими руками сооружали храмы богов, нежели теми, на вид меньшими, но гораздо более трудными, работами, на которые они потом были поставлены: устройством мест для зрителей в цирке и рытьем подземного Большого канала — стока, принимающего все нечистоты города. С двумя этими сооружениями едва ли сравнятся наши новые при всей их пышности»[351]. Говорили, что честь освящения храма не досталась построившему его царю: бесчинства, учиняемые им самим и его сыновьями, вызвали в Риме бунт, и лишь один из первых «консулов» передал храм богу. Римляне любят вести такие рассказы, гармонично сочетая лукавую придирчивость и благородство души, на которое они также были способны. Для нас это прекрасная иллюстрация того, как эти суеверные люди, тем не менее, умели охранять свою свободу и следовать своим желаниям в их отношениях с богами (Liv. 2, 8, 6–8): «Еще не освящен был храм Юпитера на Капитолии. Консулы Валерий и Гораций бросили жребий, кому освящать храм. Жребий выпал Горацию, а Публикола отправился на войну с вейянами. Близкие Валерия не в меру досадовали, что освящать столь славный храм досталось Горацию. Они всячески пытались этому помешать, а когда все их старания оказались напрасными и консул уже возносил богам молитвы, держась за косяк, ему принесли страшную весть, что сын его умер и он из-за смерти в доме не может освящать храм. Не поверил ли Гораций в правдивость известия, или такова была крепость его духа, точных сведений нет, а понять трудно — получивши известие, он лишь распорядился вынести из дому труп, сам же, не отрывая руки от косяка, довершил молитву и освятил храм». Такова последняя из легенд, запутывающих историю возникновения самого значительного религиозного памятника Рима. Фундамент, глубоко вклинившийся в известняк и туф склона холма, был сделан так добротно, что — несмотря на то, что несколько раз случались обвалы, — он устоял и служил так долго, что, спустя века, после пожаров, удерживал весьма крупные строения. Первый храм, построенный этрусскими рабочими, был сложен (по крайней мере, в своем основании) из блоков пеперита (pépérin), покрытых штукатуркой под мрамор, и размером был примерно шестьдесят метров на пятьдесят. Ориентированный на юг фасад открывался портиком: толстые колонны подпирали фронтон, украшенный — как было принято у этрусков — крашеными терракотовыми статуями. Над фронтоном возвышалась квадрига из того же материала, которая была заменена бронзовой в 296 г., за год до победы при Сен-тине. Главные божества помещались в трех целлах: Юпитер — в центральной, а Юнона и Минерва в тех, что были справа и слева. По-видимому, все три статуи были из терракоты, но только статуя хозяина этого места привлекла внимание знатоков старины: ее автором был знаменитый художник Воль-ка (Véien Volca), — как пишет Плиний со слов Варрона (N. H. 35, 157), — сделавший ее по заказу Тарквиния Старшего. Иногда высказывались сомнения в том, что изображения богов так рано заняли целлы, однако обнаружение в Вейях статуи Аполлона, по крайней мере, того же времени, делает сведения летописей более правдоподобными. Это было что-то новое. Конечно, скульптурное изображение богов не предполагало изменений в религии, о которых говорили примитивисты. Юпитер не ждал появления статуи, чтобы стать личностью. Однако с этих пор римляне видят его, а в трактовке этрусков это уже Зевс, и он так легко покоряет воображение, что очень рано на фронтоне храма появляются и Аполлон, и Гермес. Благодаря благочестию великих граждан, благодаря лести царей-вассалов, храм на Капитолии постепенно становится местом скопления произведений искусства, и мы даже испытываем сожаление, читая о том, что во II в. до н. э. потолок был позолочен по инициативе палача Коринфа, варвара Луция Муммия Ахаика, который в то время был цензором. С другой стороны, гарантия бога клятв и выгодное расположение сделали этот храм также местом хранения ценных архивов: таблицы, на которых были выгравированы дипломатические документы, получили привилегию стариться на его стенах, как и на стенах храма, расположенного поблизости, — храма Дия Фидия. Именно там Республика поместила резервные средства, предназначенные для крайних случаев, а также Сивиллины книги (Sibyllini libri), которые принесли столько пользы. Отремонтированное, украшенное, преобразованное, первоначальное подлинное здание простояло до тех пор, пока в 83 г. до н. э. его полностью не уничтожил пожар вместе со всем, что в нем было. Причины пожара так никогда и не были установлены. Времена были плохие. Вот как описывает это событие Юлий Обсеквент в своем сборнике О чудесах (57): «После пяти лет отсутствия Луций Сулла вернулся победителем в Италию и стал причиной большого страха для своих врагов. В одну ночь сгорел Капитолий по вине сторожа. Из-за жестокости Суллы ужасающие проскрипции пали на первых граждан Рима. Говорят, сто тысяч человек погибли в италийской и в гражданской войне». Диктатор Сулла взялся за восстановление, которое успел завершить Цезарь в 46 г., прежде чем занять место среди звезд. Новое здание было построено из белого мрамора. Тройная колоннада спереди и боковые колонны были взяты, как приказал Сулла, с афинского храма Зевса Олимпийского. На фронтоне, под обязательной квадригой, царила богиня Рима с Волчицей и младенцами. Храм снова сгорел во время уличных боев, которые привели к власти Веспансиана, был восстановлен и — вследствие несчастного случая — сгорел через девять лет. Его восстановил Домициан, и на этот раз он простоял до описанных ниже событий. В 455 г. призванный Евдоксией царь вандалов и ариан Гейзерих — второе бедствие, насланное богом, — высадился в Остии, занял город без боя, несмотря на настояния папы Льва и отдал город на разграбление, которое длилось две бесконечных недели. При этом храм на Капитолии, который Домициан хотел сделать главным святилищем, утратил все свои богатства. Германский вождь частично снял даже золоченые бронзовые черепицы, которыми в то время была покрыта крыша храма. Папа Гонорий I использовал все остальное в последней четверти VII в. для строительства новой базилики святого Петра, и этим символичным переносом завершилась судьба, длившаяся более одиннадцати веков. Последовавшие затем упадок развалин и изменения в мышлении людей достигли такой степени, что исчезло даже воспоминание о том месте, где в ходе своей истории величайшая империя дохристианских времен четыре раза закладывала основы своей веры в себя. Вплоть до 1875 г. — несмотря на то, что в 1578 и в 1680 гг. обнаружили северо-западный угол фундамента, — продолжались споры о том, не следует ли его искать в крепости или собственно на Капитолии. Все сомнения были сняты, когда в период между 1865 и 1875 гг. нашли восточную границу платформы и несколько отрезков южной стороны. От самого святилища почти ничего не осталось[352]. Мы уже говорили о том, чем был Юпитер в римской идеологии, и что он изменил в древних представлениях о боге. Рассмотрим теперь, как все выглядело на практике в религиозно-политической жизни, во главе которой он стоял. Скромные материальные основы, присущие римской власти, и ее самые видные представители также выражают поклонение Юпитеру. Именно на Капитолий приходит каждый юноша, надевая тогу взрослого мужа, т. е. входя в состав корпуса полезных граждан, — чтобы совершить жертвоприношение (Serv. II Ecl. 4, 49). И именно на Капитолии консулы открывают свой год правления. Как говорят, они поначалу делали это в день годовщины основания города, в сентябрьские иды. Затем они стали делать это в январские календы в самой торжественной форме (processus consularis, Ov. F. 1, 79; Pont. 4, 4, 23–42; etc.). После гадания предшествующей ночью новые правители Рима надевали свои знаки отличия и шли к Юпитеру. Их сопровождали Сенат, магистраты, священнослужители и народ. Они совершали жертвоприношение, обещанное их предшественниками, а затем произносили свои собственные обеты. Затем Сенат входил в храм и проводил свое первое заседание, посвященное, по-видимому, вопросам религии в первую очередь (Liv. 9, 8, 1; 22, 1, 6; etc.). Затем с той же торжественностью консулы спускались, и их провожали домой. Если воюющая армия собирается по другую сторону укреплений, во владениях Марса, то управление армией и ниспосланный богом ход войны — дело Юпитера. И консул занимается набором рекрутов in Capitolium — то есть, по-видимому, во дворе храма (Liv. 26, 31, 11; Pol. 6, 19, 6); и туда же он созывает магистратов и депутатов латинян, союзников — чтобы указать им, сколько людей они должны ему предоставить (Liv. 34, 56, 5–6). Обсуждение военных действий, перемирий или мира Сенат также проводит на Капитолии (App. B. C. 7, 5; Liv. 33, 25, 7). И, опять-таки, на Капитолии консул — прежде чем уехать из Рима и взять на себя командование войсками — произносит обеты и молитвы за свои военные успехи. По словам Тита Ливия, это всегда делается «пышно и торжественно» (42, 49, 1). По приказу Сената статуя достойному гражданину или умелому военачальнику возводится также на Капитолии. Если Сенат предоставляет триумф победоносному полководцу, то это — яркое проявление согласия между богом и народом. Своим успехом, который является результатом его обетов и молитв, полководец обязан Юпитеру и, тем самым, является его должником. Отдавая долг Юпитеру, полководец — во главе своей армии — отправляется с Марсова поля. Затем процессия доходит до Цирка, огибает Палатин, через Форум выходит на Sacra Via, по которой спускается к подножию холма. На несколько часов триумфатор становится человеческим воплощением Юпитера: согласно классическому предписанию, церемония включает также греческие элементы. Она проводится в архаическом стиле. Триумфатор восседает на колеснице. На голове у него лавровый венок, одежда его копирует одежды бога[353]: Jouis O. M. ornatu decoratus[354]. На лице у него красная краска, как у той статуи, которая ждет его в святилище. В правой руке он держит лавровую ветвь, а в левой — скипетр из слоновой кости, украшенный изображением орла. Позади Сената идет яркая процессия из белых животных, которые будут принесены в жертву, трофеи. Знатные пленники идут впереди Сената, а его солдаты идут следом за ним, распевая как хвалебные, так и сатирические песни, как им вздумается. У подножия Капитолия он спешивается, поднимается по склону холма, входит в храм и передает богу принесенный лавр. Для всего римского народа — это невероятное переживание и событие: в нем он черпает, как из источника, новые основания для надежды и гордости. Рассказ Плутарха (Aem. Paul. 32–34) об одном из самых знаменитых триумфов — о триумфе Павла-Эмилия после его победы при Пидне (168 г.) — дает нам представление о великолепии и блистательной мощи, каких могла достигнуть эта литургия, следуя примеру эллинистической пышности и роскоши: «Народ в красивых белых одеждах заполнил помосты, сколоченные в театрах для конных ристаний (римляне зовут их «цирками») и вокруг форума и занял все улицы и кварталы, откуда можно было увидеть шествие. Двери всех храмов распахнулись настежь, святилища наполнились венками и благовонными курениями; многочисленные ликторы и служители расчищали путь, оттесняя толпу, запрудившую середину дороги, и останавливая тех, кто беспорядочно метался взад и вперед. Шествие было разделено на три дня, и первый из них едва вместил назначенное зрелище: с утра дотемна на двухстах пятидесяти колесницах везли захваченные у врага статуи, картины и гигантские изваяния. На следующий день по городу проехало множество повозок с самым красивым и дорогим македонским оружием; оно сверкало только что начищенной медью и железом и, хотя было уложено искусно и весьма разумно, казалось нагроможденным без всякого порядка: шлемы брошены поверх щитов, панцири — поверх поножей, критские пельты, фракийские герры, колчаны — вперемешку с конскими уздечками, и груды эти ощетинились обнаженными мечами и насквозь проткнуты сариссами. Отдельные предметы недостаточно плотно прилегали друг к другу, а потому, сталкиваясь в движении, издавали такой резкий и грозный лязг, что даже на эти побежденные доспехи нельзя было смотреть без страха. За повозками с оружием шли три тысячи человек и несли серебряную монету в семистах пятидесяти сосудах; каждый сосуд вмещал три таланта и требовал четырех носильщиков. За ними шли люди, искусно выставляя напоказ серебряные чаши, кубки, рога и ковши, отличавшиеся большим весом и массивностью чеканки. На третий день, едва рассвело, по улицам двинулись трубачи, играя не священный и не торжественный напев, но боевой, которым римляне подбадривают себя на поле битвы. За ними вели сто двадцать откормленных быков с вызолоченными рогами, ленты и венки украшали головы животных. Их вели на заклание юноши в передниках с пурпурной каймой, а рядом мальчики несли серебряные и золотые сосуды для возлияний. Далее несли золотую монету, рассыпанную, подобно серебряной, по сосудам вместимостью в три таланта каждый. Число их было семьдесят семь. Затем шли люди, высоко над головою поднимавшие священный ковш, отлитый, по приказу Эмилия, из чистого золота, весивший десять талантов, иукрашенный драгоценными камнями, а также антигониды, селевкиды, чаши работы Ферикла и золотую утварь со стола Персея. Далее следовала колесница Персея с его оружием; поверх оружия лежала диадема. А там, чуть позади колесницы, вели уже и царских детей в окружении целой толпы воспитателей, учителей и наставников, которые плакали, простирали к зрителям руки и учили детей тоже молить о сострадании. Но дети, — двое мальчиков и девочка, — по нежному своему возрасту еще не могли постигнуть всей тяжести и глубины своих бедствий. Тем бóльшую жалость они вызывали простодушным неведением свершившихся перемен, так что на самого Персея почти никто уже и не смотрел — столь велико было сочувствие, приковавшее взоры римлян к малюткам. Многие не в силах были сдержать слезы, и у всех это зрелище вызвало смешанное чувство радости и скорби, которое длилось, пока дети не исчезли из вида. Позади детей и их прислужников шел сам царь в темном гиматии и македонских башмаках; под бременем обрушившегося на него горя он словно лишился рассудка и изумленно озирался, ничего толком не понимая. Его сопровождали друзья и близкие; их лица были искажены печалью, они плакали и не спускали с Персея глаз, всем своим видом свидетельствуя, что скорбят лишь о его судьбе, о своей же не думают и не заботятся. Царь посылал к Эмилию просить, чтобы его избавили от участия в триумфальной процессии. Но тот, по-видимому, насмехаясь над его малодушием и чрезмерной любовью к жизни, ответил: «В чем же дело? Это и прежде зависело от него, да и теперь ни от кого иного не зависит — стоит ему только пожелать!..» Эмилий недвусмысленно намекал, что позору следует предпочесть смерть, но на это несчастный не решился, теша себя какими-то непонятными надеждами, и вот — стал частью у него же взятой добычи. Далее несли четыреста золотых венков, которые через особые посольства вручили Эмилию городά, поздравляя его с победой. И наконец на великолепно убранной колеснице ехал сам полководец — муж, который и без всей этой роскоши и знаков власти был достоин всеобщего внимания; он был одет в пурпурную, затканную золотом тогу, и держал в правой руке ветку лавра. Все войско, тоже с лавровыми ветвями в руках, по центуриям и манипулам, следовало за колесницей, распевая по старинному обычаю насмешливые песни, а также гимны в честь победы и подвигов Эмилия»[355]. Таким образом, Юпитер был действительно Капитолийский бог, присутствующий (praesens) среди своего народа. В ходе всей истории его храм оставался политической и религиозной цитаделью, подобно тому как другая вершина холма была цитаделью военной. Юпитер невредимый…(Joue incolumi…): Рим знал, что он в безопасности, пока этот храм будет существовать или свободно возродится из пепла. Юпитер был единственным властителем в своем храме. Именно ему были адресованы и молитва, и обет, и посвящающая надпись. Две богини, находившиеся под крышей этого храма, были всего лишь гостьями. Не было ни одной церемонии, предназначенной для того, чтобы почтить триаду или хотя бы напомнить о ней как о таковой. Культовые формулировки, в которых явно объединялись бы имена трех богов, в древние времена встречались не часто, их было мало. У Тита Ливия Манлий, — когда его схватил путник и повел в тюрьму, — восклицает: «Добрейший и Великий Юпитер, и Царица Юнона, и Минерва, а также вы, все другие боги и богини, живущие на Капитолии и в цитадели, как же вы покидаете своего солдата и защитника, оставляя его на произвол его врагов?» (6, 16, 2). У того же историка мы читаем, что Сципион, привлеченный к суду трибунами, отказывается отвечать и поднимается по склону холма, а за ним следует толпа, а также и судебные исполнители, и секретари суда, а он намерен возблагодарить богов, давших ему возможность победить Ганнибала. Он говорит: «Я сейчас же иду на Капитолий поприветствовать Добрейшего и Великого Юпитера, и Юнону, и Минерву, и других богов, царящих на Капитолии и в цитадели…» (38, 51, 9). Однако все это характерно для прекрасного стиля эпохи Августа. Создается впечатление, что эти две богини, в ходе истории, находясь рядом с богом, обрели некую устойчивость. Ведь в течение долгого времени они ограничивались тем, что наблюдали за его общением с людьми. Однако они здесь, а происхождение и смысл триады создают проблемы, надежное решение которых невозможно при нынешнем состоянии науки. Прежде чем задаться этими вопросами, следует выяснить, что представляли собой в римской теологии эти две богини за пределами капитолийской группы.2. Юнона
Юнона — самая важная из богинь Рима, однако самая непонятная. Она была царицей на Капитолии с самых первых лет Республики, но, тем не менее, она и родами руководила, и управляла календами каждого месяца, а также еще существовала в образе бесконечного числа Юнон, став женским эквивалентом для Гения (Genius) мужчин. Ее можно заметить и за пределами Рима — так, ее культ издавна существовал в центральной Италии: ее заимствовали этруски под видом Уни (Uni). При этом некоторые ее черты подтверждаются как подлинные, а другие — представляются кажущимися (в частности, это относится к военной миссии и воинскому снаряжению). Ученые неоднократно пытались разобраться во всем этом и представить в логическом и хронологическом порядке. Однако результатом этих усилий стало создание весьма хрупкой и уязвимой конструкции. Правильнее будет изложить факты во всей их сложности, предварительно поставив на надлежащее место один факт и одну гипотезу, из которых нередко делают слишком далеко идущие выводы. Имя Jūnō, которое когда-то сближали с именем Juppiter, имеет только одну этимологию: это производное от iūn — с помощью суффикса — ōn-. А iūn- это синкопированная форма iuuen-, которая входит также в слово iūnix — «нетель» (наряду с iuuencus — «бычок кастрат») и в сравнительную степень iūnior. Но это толкование недостаточно проясняет рассматриваемое нами слово. Флексия — o, — ōnis, кроме слов на — io (таких, как legio, natio) весьма редко употребляется в женском роде. С другой стороны, iuuen- имеет более богатое оттенками значение, чем еще недавно считалось. В своей замечательной статье (1938 г.) Эмиль Бенвенист показал, что это индоевропейское слово происходит от корня, который, в другой форме, был расширен в aeuum (ср. греческое αιών и т. д.) и, собственно говоря, имеет отношение к «жизненной силе»: iuuen- (iuuenis) обозначает человека в тот момент, когда его жизненная сила заключена в его akmé. Тогда что же выражает или первоначально выражало и подчеркивало имя Jūnō: простое абстрактное понятие молодости? Жизненную силу или бойкий дух молодых людей? Молодежь как возрастную категорию или как социальный слой? Это невозможно определить, а существование, по-видимому, в более поздние времена, олицетворенной Juuentas не упрощает дело. Конечно, можно отметить, что это слово является точной параллелью к сабинскому имени собственному Ner-o, и это тем более интересно, что в умбрском, в ритуале Игувия, ner- формулировочно соединяется с iou-, чтобы, по-видимому, противопоставить молодым солдатам (iuniores) воинов зрелого возраста, уже опытных. Однако это имя остается по-прежнему неясным и не может послужить опорой для начала исследования. Одним из исходных пунктов традиционной интерпретации Юноны является предположение, что она первоначально была всего лишь женским эквивалентом для Гения: якобы с древнейших времен у каждой женщины был носивший это имя покровительствовавший ей дух или же ее двойник, ее сущность, или выражение ее плодотворной природы. Благодаря абстракции множество индивидуальных Юнон породило великую богиню. Такой процесс, который предполагался и для других божеств, не имеет, однако, никаких подтверждений в фактах и маловероятен. Разве многочисленные Гении когда-либо порождали бога по имени Гений? Но, прежде всего, абсолютно невероятно, чтобы в древние времена Юнона имела такое амплуа, которое ей приписывают. В то время как мужской персонаж Гений уже царил в комедиях Плавта, нет никакой речи о женщине Юноне, и надо дождаться Тибулла, чтобы заметить упоминание о ней в литературе (3, 19, 15 и 3, 6, 48 — из чего, впрочем, легко можно было бы сделать вывод, что у каждой женщины есть своя Венера). В качестве доказательства большой древности приводят тот факт, что в ритуале арвалов некая Юнона Деа Диа (Juno Deae Diae) принимает двух овец рядом с самой Деа Диа (Dea Dia), которая получает двух коров. Однако этот обряд относится к эпохе Империи, и, несмотря на то, что в общем он — древний, не исключено, что он подвергся модернизирующей ретушировке в тот период, когда Август восстановил торжество и связанные с ним обряды, которые практически к тому времени уже исчезли. Таким образом, в эпоху Августа Юнона у женщин хорошо уравновешивала Genius у мужчин. Вполне справедливо подчеркивают параллель, которую дает надпись времен Республики (CIL. IX, 3513; 58 г. до н. э.): в священной роще Юпитера Либера — в Фурфо — предусмотрена «res deiuina»[356] и для самого этого бога, и для его Гения, Genius Jouis Liberi. Действительно, подобные случаи могли дать мужской образец для ретуши, для дополнения во время восстановления ритуала арвалов. Однако нельзя забывать о том, что во второй надписи, сделанной в более позднее время, где речь идет о Гении Юпитера, а также о Гении Марса (CIL. II, 2407), у богини Виктории также есть подобный двойник, но его имя Гений Виктории, а не Юнона Виктории[357]. Другие аргументы не лучше. Клятва женщин, eiuno, якобы параллельная древней мужской клятве (мужчины клянутся своим Гением), — неизвестна Плавту и вообще всей литературе. О ней упоминает лишь один грамматик IV в., а это ничего не доказывает в отношении времен Республики. Тот факт, что женщины (по словам Варрона; L. L. 5, 69) посвящали свои брови богине Юноне[358] (а не «своей» Юноне), или что Юнона оказывает покровительство бровям (без различия пола, согласно Павлу Диакону), имеет совершенно другую природу, чем связь, которая существует между Гением каждого мужчины и его лбом (Serv. Aen. 3, 607; Ecl. 6, 3)[359]. Объективное рассмотрение функций Юноны остается самым надежным способом найти подход к истине. Итак, опишем те ее функции, которые представляются местными и до-литературными. Как Луцина, она помогает младенцам увидеть свет, к ней обращаются с просьбами при родах (Plaut. Truc. 476), и она принимает соответствующие приношения (Tert. An. 39; Schol. Bern. Verg. Ecl. 4, 62)[360]. На северной округлости холма Эсквилина возвышается храм Юноны Луцины, освященный в 375 г. в роще, которая уже была посвящена этой богине. Из-за понятной символики никто не входит туда, если на одежде есть узел. В летописях анахронически приписывается Сервию Туллию закон, который — ради статистики — обязывает родителей каждого новорожденного бросать монетку в кружку для пожертвований при этом храме (Dion. 4, 15, 5). Юнона покровительствует нескольким праздникам, имеющим отношение к способности женщин к деторождению и вообще к женственности. Седьмое июля — древнейший праздник, носящий название Ноны Капротины (Nonae Caprotinae), в котором участвуют свободные женщины и служанки. Эти последние развлекаются: они бегают, дерутся, используя кулаки и даже камни. Жертвоприношение совершается под диким фиговым деревом — caprificus. Используют «молочко», которое вытекает из одной из его ветвей (Varr. L. L. 6, 18; Macr. 1, 11, 36; etc.). Сама Юнона в связи с этим получила прозвище Caprotina. В связи с этим напоминают, что ремни, которыми Луперки бьют 17 февраля римских женщин, чтобы обеспечить их плодовитость, сделаны из кожи козла, называемой amiculum Junonis. Фиговое дерево, козел: и животное, и растение много значат для символики сексуальности. В менее свободной манере проходит праздник Матроналии в календы Марса, которые Ювенал (9, 53) называл женскими календами. Это день рождения храма на Эсквилине. Праздник касается только замужних женщин. В пояснениях к этому празднику подчеркивается либо самое важное из всех рождений — рождение Ромула (Ov. F. 3, 233), либо весеннее пробуждение всеобщей плодовитости — tempora fecunda (ibid. 235–244). Место совершения культа — священная роща на Эсквилине — связано с рассказом о первой трудной беременности сабинянок после похищения (ibid. 2, 425–452, в особенности 435, 449, 451), подобно тому, как день празднества связывается с рассказом об их вмешательстве в качестве просительниц мира межу их отцами и их супругами (ibid. 3, 179–252). По этому случаю, чтобы иметь возможность проявить свою собственную щедрость, женщины получают деньги от своих мужей, которые молятся pro conseruatione coniugii[361] (Ps.-Acro in Hor. Carm. 3, 8, 1; Suet. Vesp. 19, 1; Plaut. Mil. 692–700). Если надпись посвящения была помещена на храме Эсквилина в мартовские календы, то это особый случай применения более общего правила. Закладка фундаментов, связанных с Юноной, всегда назначалась на мартовские календы, так как они были ей посвящены: «Но как все иды были посвящены Юпитеру, так все календы — Юноне, что подтверждает и мнение Варрона и жрецов»[362], — говорит Макробий (1, 15, 18), который добавляет, что этот обычай подтверждается обычаем жителей Лаврента, которые обращались к богине с мольбами в каждые календы с марта по декабрь, и, по этому случаю, называли ее Kalendaris Juno. Что касается римлян, — говорит он, — то во все календы младший понтифик совершает жертвоприношения Юноне (издатели нередко исправляют здесь на Янус) в Curia Calabra, тогда как жена священного царя приносит ей в жертву свинью или овечку на Регии. Отсюда происходит ономастическая формула Janus Junonius, quod illi deo omnis ingressus, huic deae cuncti Kalendarum dies uidentur ascripti[363]. Эту особенность Юноны охотно связывают с ее функциями в качестве Луцины: богиня родов руководит также началом месяца, «возрождением» луны. «Начало» можно равным образом понимать и как рождение (Юнона), и как переход (Янус). Такое толкование подкрепляется тем фактом, что в курии Кала-бра, после жертвоприношения, понтифик объявляет, на какой день попадут следующие ноны — либо на 5-е число, либо на 7-е, в зависимости от месяца. Он произносит при этом формулу, адресованную Юноне Ковелле (Varr. L. L. 6, 27). Эпитет непонятен, но действие имеет смысл, только если за пределами календ согласно ритуалу Юноне доверяется «рост» луны в те дни, которые последуют за календами[364]. К этому логичному набору функций добавляется еще один — политико-религиозный, который нелегко связать с первым. Однако, к сожалению, первый элемент этой группы не вполне ясен. Во многих текстах говорится о культе, который в каждой курии воздавался Юноне Curitis. Это слово толкуют по-разному, и каждое написание основывается на другой этимологии: Quiritis (Quirites), Curritis (currus), Curitis (либо сабинское curis — «копье», либо curia). Следовательно, вполне возможно, что Юнону связывает с curiae только игра слов. Во всяком случае, этот культ не имеет прямых свидетельств, и, может быть, в Риме и нет другой Юноны Curitis, кроме той, которая была там введена в 241 г. — после взятия Фалерий. Но зато на Капитолии Юнона — несомненно царица (Regina), и это не такое звание, какое италийцы (в частности, первые поколения римской libertas) могли бы дать необдуманно. Более того, именно священная царица совершает в ее честь жертвоприношение в календы. И так как в церемонии этого жертвоприношения, которое наверняка относится к древним временам, эта богиня, как мы видели, представлена как «рождающая месяц», то вмешательство царицы наводит на мысль, что во времена, предшествовавшие Республике и капитолийскому культу, Юнона, даже в качестве матери, была связана с царской властью. Несмотря на то, что не всегда возможно различить то, что существовало до римлян, и то, что следует римской модели, все же надо — прежде чем подводить итоги — рассмотреть обычаи соседних народов и, в первую очередь, обычаи латинян, у которых Юнона пользовалась большим почетом. Пять латинских городов (Ариция, Ланувий, «народ Лаврента», Пренеста, Ти-бур: Ov. F. 6, 59–62) называли ее именем один из месяцев. Под именем Луцина (Lucina) ее знали Тускул и Норба, а поэты считают ее важной богиней Габиев — рано исчезнувшего города. Кроме того, она была Curitis в Тибуре и Фалериях, а в том факте, что во времена Империи там ей служил жрец-мужчина, pontifex sacrarius, усматривали доказательство того, что ею интересовалось все общество. В культе Юноны следует отметить два соответствия: в нескольких комментариях Сервия (к сожалению, испорченных обычными для этого имени этимологическими ухищрениями) можно видеть, что Юнона Curitis в Тибуре была вооруженной покровительницей: «В церемониях в Тибуре произносят следующую молитву: Юнона Curitis, своей колесницей (curru) и своим щитом защити моих молодых рабов из курии (curiae) (?), родившихся дома!»[365] (Serv. Aen. 1, 17). Юнона пользуется колесницей и копьем (ibid. 1, 8) и вмешивается в войны (ibid. 2, 612). Марциан Капелла напишет (2, 149): «Воевавшие должны помнить Curitis». Если Юнона из Фалерий, судя по прелестному описанию ее празднества Овидием (Am. 2, 13), — совершенно мирная (кроме эпизода с козой), то в Юноне из Ланувия мы снова видим ее воинственность, которая проявляется весьма сильно. Но здесь это ее качество как бы включено в сложное построение, о чем свидетельствует интересная титулатура. Образные представления полностью подтверждают фразу Цицерона или, вернее, Котта — его персонажа из О природе богов (1, 82). Иллюстрируя разнообразие образов богов у различных народов, он обращает внимание своего собеседника на то, что бык Апис для египтян — в не меньшей степени бог, «чем для тебя ваша пресловутая Спасительница, которую ты никогда, даже во сне, не видишь иначе как в козьей шкуре, с копьем[366], маленьким щитом и в туфлях с загнутыми кверху носками». Идущая вперед, агрессивно выпятив грудь, или едущая на колеснице галопом, выставив копье, держа на левой руке щит с двойным вырезом, подобный тем, какие были у салиев — тип богини, отраженный в статуях или на монетах, — откровенно воинственной. Здесь видна только воинственность. Однако Юнона из Ланувия — не только Seispes (Спасительница). На многих посвященных ей надписях, фигурирующих в томе XIV Corpus читаем обращение к I(VNONI) S.M.R. (2091; 2088; 2089; 2121), т. е. так же, как в одной надписи I в. до н. э., где имеется полное обращение: IVNONE SEISPITEI MATRI REGINAE[367]. Эта тройная характеристика — исключение для Италии и свидетельствует о совмещении функций или аспектов, и она равнозначна теологическому определению. Каждый из аспектов ясен сам по себе. Титул Regina, уже отмеченный в Риме, представляет Юнону как политико-религиозную госпожу. Так объясняется тот факт, что совершать в честь нее жертвоприношения обязан самый высокопоставленный магистрат Ланувия, диктатор, который назначает ее фламина (Cic. Mil. 17, 45), а также — с тех пор, как Рим присвоил в 388 г. почтительный кондоминиум[368] над богиней Ланувия (Liv. 8, 14, 2) — и все верховные магистраты, omnes consules (Cic. Mur. 41, 90). Расположенное на втором месте слово Mater не может быть просто многозначительным почетным званием, чем оно всегда и было, как и его мужское соответствие, например, в таких выражениях как Mars Pater, а также в титуле Vesta Mater. Оно должно иметь свое полное значение и напоминать о том, что праздник римской Луцины называет Матроналии: праздник плодовитости, праздник замужних женщин, которые в то же время и матери. Может быть, именно с этим аспектом плодовитости связана пресловутая змея у Юноны Ланувия, со всеми соответствующими ритуалами (Prop. 4, 8, 3—14; Aelian. Anim. 11, 16). Первое прилагательное — Seispes, перенесенное в Рим в форме Sospita, имеет неясное значение, однако именно с ним, как в другом месте с Curitis, римляне — и нет никаких причин думать, что они изменили в этом обычай жителей Ланувия, — связывали специально воинственный характер богини: illam uestram Sospitam, quam tu nunquam, ne in somnis quidem, uides nisi cum hasta, cum scutul[369]. Сразу заметно, что Юнона характеризуется таким образом одновременно во всех трех функциях индоевропейской идеологии: в сфере священного царствования, в сфере воинской силы и в сфере плодовитости. И характеристика дается в виде формул, званиями, которые гарантируют, что ее жрецы и ее почитатели знали, что она трехфункциональна, и хотели этого[370]. Проявилась ли эта теология в других латинских или италийских городах? Нигде не встречается эквивалент S.M.R. lanuvien[371]. Конечно, на территории Италии Юнона получает имена, напоминающие о ее различных осмыслениях, существовавших в Риме и в Ланувии: Луцина (Lucina) — в Пизавре в Умбрии и во многих местах Кампании; Популона (Populona; каким бы ни был смысл populous в этом слове — «армия», по мнению Латте, или «политическое объединение») — в Теане в Кампании; Царица (Regina) — в Тривенто в Самнии и, возможно, в Ардее в Лации, а также (особенно и наверняка) в Вейях и Этрурии. В Вейях, где римляне и Камилл получили в начале IV в. самую знаменитую возможность для эвокации, прежде чем обосноваться под этим именем и ксоаном (деревянным идолом) в храме на Авентине; в Пизавре она была Царица Матрона (Regina Matrona); в Эзернии и Самнии — Царица Популона (Regina Populona). Но, как мы видим, все сочетания состоят только из двух слов. Обычно в качестве изначального персонажа Юноны не хотят признавать никого, кроме Юноны из женских культов, а все остальное объясняют спонтанным развитием под иноземным влиянием: греческим, либо греко-этрусским. Латте пишет: «Фигуру Юноны можно понять, если допустить, что, как к богине женщин, к ней обращались, прежде всего, с просьбой об увеличении численности населения и, в то же время, об усилении военной мощи сообщества. С этих позиций еще можно понять самнитскую богиню Популону. Когда ее культ приняли этруски, она стала просто богиней полиадой[372] и слилась в одну фигуру с Афиной Полиадой, которой этруски также поклонялись. Затем она вернулась и получила скульптурное изображение и вошла в культ латинян — в Ланувии, а также в Тибуре, по той причине, что этрусское искусство в то время давало образцы для культовых изображений». Эти метаморфозы просты и вероятны только на бумаге. Хотелось бы узнать хотя бы еще об одном случае, когда покровительство детородности женщин эволюционировало бы в воинский пыл и политическое покровительство. С другой стороны, не следует преувеличивать влияние привозных статуэток. То, что на скульптурных изображениях Юноны из Ланувия Юнона предстает как воительница, одетая и обутая по-этрусски, отнюдь не доказывает, что само военное осмысление шло из Этрурии, как одежда и обувь. Жители Ланувия могли иметь свою собственную Юнону-воительницу и изобразить ее, опираясь на единственные доступные образцы. В самой Этрурии, — хотя италийская Юнона, заимствованная в образе Уни, уже была Царица (Regina), — она вполне могла стать (если она действительно ею стала) городской богиней — Stadtgöttin, полиадой (poliade), особенно из-за того, что она была отождествлена с Герой и объединена в супружескую пару с Тинией-Зевсом (Tinia-Zeus). Труднее понять это повышение, исходя из первоначальной простой Юноны — богини женщин. Наконец, Regina — это старый италийский титул, и совершенно неправомерно считать его переводом с этрусского. Другие авторы также сводят собственно Юнону к роли богини женщин, объясняя остальное непосредственным греческим влиянием: по их мнению, с юга великой Греции пришла многогранная Гера — «плодовитая, воинственная и политическая», «соседка вооруженных Гер, родиной которых были Аргос и Элида». Именно она, как они считали, в латинизированном виде появилась в Ланувии и оттуда продвинулась в Рим, испытывавший необыкновенное влечение к культам Ланувия. Отдавая дань таланту Жану Байе, следует сказать, что предположение о таком происхождении Юноны и ее пути остается гипотезой, которую невозможно проверить. Против этой гипотезы говорит то, что она практически не оставляет ничего оригинального у этой богини, которая действительно была италийской богиней, причем весьма значительной с самых древних времен. Что касается меня, то я предложил такое решение, которое — будучи, разумеется, столь же гипотетическим — тем не менее, не создает тех трудностей, которые говорят против других предположений. По моему мнению, различные образы Юноны, — два в Риме (Lucina и Regina), три в Ланувии, — по своему существу несводимы друг к другу и неустранимы, и именно их объединение характеризует богиню. По-видимому, Юнона не была сначала Луцина или Мать, чтобы затем стать либо просто Царица (Regina), либо Спасительница (Seispes) и Царица. По-видимому, она с самого начала была многозначной — имела две функции тут, три там, и неизбежно, традиционно она оказывалась многоликой. Такое понимание естественно вытекает из интерпретации первоначальной триады Юпитер — Марс — Квирин как сохранившегося в Риме пережитка индоевропейской группы, основанной на идеологии трех функций. В самом деле, у германцев (так же, как у индоиранцев) можно заметить следующую структуру. В противовес группе мужских богов, отличающихся друг от друга, существующих по отдельности и выполняющих каждый только одну основную функцию, имеется богиня, которая, напротив, синтезирует эти функции, берет их все на себя, примиряет их между собой и создает идеал женщины в обществе. По своему имени или благодаря какому-то доминирующему своему качеству эта богиня, конечно, имеет особую опору в одной из трех функций (обычно — в третьей функции), но она, тем не менее, вполне компетентна и активна и в двух других функциях. Эту роль Ригведа отводит богине-реке Сарасвати, которая, будучи рекой, попадает прежде всего в третью функцию: дарительница жизненной силы и потомства (Ригведа 2, 41, 17), она связана с каноническими богами третьего уровня — Ашвинами (10, 131, 5 — еще в бóльшей мере с ритуалами), с божествами зачатия, рождения и размножения, в чем специализируются богиня Синивали, а также боги Ашвины (10, 184, 2: gàrbham dhehi; «Плод вложи!» — сказано ей). Ее не иссякающая грудь дает напиться всевозможными благами (1, 164, 49). Короче говоря, она — «мать», и ее даже называют тремя превосходными степенями — àmbitame nàdîtame dévitame Sàrasvati[373]. Она — дарительница потомства (prajā), на которую опираются все возрасты жизни (или все жизненные силы: víśvā ā́yūṃṣi). Но в то же время она действует на первом уровне. В этой литературе подчеркивается строго религиозный, священный аспект этого уровня, не политический: она чиста (1, 3, 10), она — средство очищения; она нередко составляет триаду с двумя богинями, специализирующимися на дарах, — Ида и Bharatī; «она доводит до цели наше благочестивое мышление» (2, 3, 8), она «помогает благочестивым мыслям» (7, 61, 4) и буквально «царит (ví rājati) над всеми благочестивыми мыслями» (1, 3, 10–11). Наконец, она, тем не менее, воинственна: храбрая союзница Марутов, она уничтожает врагов (2, 30, 8) и удостаивается эпитета, характерного для бога воина Индры — vrtraghnī, — «уничтожающая сопротивление, победительница» (6, 61, 7). В преобразовании до-ведической мифологии в эпопею, в превращении божественных персонажей в героических, которое господин Wikander в 1947 г. усмотрел в великой индийской поэме Махабхарата, эта теологема обрела весьма живописную и умную форму. Главные персонажи — мужчины, которые в поэме представлены как сыновья индоиранских богов, — сводные братья. Их характер и образ действий соответствуют характеру и образу действий их отцов, а последовательность их рождения воспроизводит иерархию их отцов: так, старший брат — благочестивый и справедливый царь (он — сын Дхармы, омоложенного Митры). Два брата, которые поочередно следуют за ним, — воины, причем один из них груб, жесток и вооружен палицей (сын Ваю), а второй — рыцарственный и хорошо владеет метательным оружием (сын Индры). Младшие братья — двое близнецов (сыновья близнецов Ашвинов) — скромные служители своих братьев. В одном характерном эпизоде они предстают как специалисты по скотоводству: один занимается коневодством, а второй — выращивает быков. Но этот гармоничный отряд из пяти отличающихся друг от друга мужчин, имеет одну на всех общую супругу, эпическое преобразование многоликой богини из мифов, которая в то же время является образцом для индийских женщин. Ни в других латинских городах, кроме Ланувия, ни в ведических гимнах или ритуалах — тройственная природа этой богини не характеризуется тремя рядом стоящими эпитета-ми[374]. Однако соответствующая иранская богиня, в которой все единодушно усматривают омоложенную копию индоиранской Сарасвати, заполняет этот пробел: знаменитая Анахита, которая в Авесте, собственно говоря, является мифической великой рекой, действительно имеет все те же три значения, что и ведическая Сарасвати. К ней взывают, — как говорят ее Яшты, — воины, жрецы, женщины во время родов (Yt. 5, 85–87). И в самом деле она вызывает у женщин удачные роды и в нужное время делает так, что они регулярно имеют молоко (ibid. 1–2, etc.). Она дала силы героям истории для того, чтобы они смогли победить своих демонических врагов (ibid. 16–83). Кроме того, она великая очистительница, к которой именно относится выражение yaož dā — «очистить, ритуально привести в порядок» (Yasna 65, 2 и 5; Yt. 5, 5; Vid. 7, 16). Полное имя богини тройственно также, и Анахита — всего лишь третий член этого имени. Богиню зовут «Влажная (Arədvī), Сильная (Sūrā), Непорочная, чистая (Anāhitā)», объявляя, таким образом, о ее тройственной природе и создавая ценную параллель к тройственному званию Юноны Спасительницы Матери Царицы (Juno Seispes Mater Regina), которое отражает другую ориентацию «первой функции»: политико-религиозную. У германцев гомологичная богиня имела две функции, хотя «вторая функция» была в ней не столь очевидна, так как у этих народов ее аннексировала первая функция: богиня *Frī y(y)ō —была одновременно и верховной богиней, супругой великого бога (Фрея в легенде объясняет наименование Ломбардов, и Венера «Vénus» (откуда перевод *Friy(y)a-dagaz — Freitag, Veneris dies — пятница). Однако внутреннее напряжение персонажа было настолько сильным, что в самой известной германской мифологии — скандинавской — она расщепилась, раздвоилась: Фригг (нормальная эволюция *Frīyyō-) осталась только верховной богиней, супругой верховного мага Одина. C другой стороны, от имени Фрейр, канонического бога третьей функции, была произведена еще одна фигура — Фрейя, ограниченная только олицетворением третьей функции, типичная богиня ванов, сладострастная и богатая. Разве теологи Лация не сохранили просто-напросто этот тип богини? В Ланувии этот тип предстает полностью, однако в Риме, как у континентальных германцев, он сведен к двум функциям, к двум крайним позициям — верховной власти и плодовитости. Качество Царицы (Regina), признанное главным, первостепенно важным наравне с другими, возможно, служит объяснением тому, что в системе интерпретаций Юнона (Uni) была переосмыслена в Геру, что обеспечивало ей прекрасное будущее, и при этом осталась Луцина (Lucina), когда бывала воинственной.3. Минерва
Минерва — спутница, которую имеет рядом с собой Юнона Регина на Капитолии, — по сравнению с ней выглядит совершенно иначе, и картина предстает не только другая, но почти противоположная. Римский тип Минервы можно охарактеризовать одним словом; она — богиня ремесел и тех, кто ими занимается. В Италии, за пределами Фалерий и Этрурии, ее культ встречается довольно редко. Наконец, ее отождествление с греческой Афиной имело более значительные последствия, чем отождествление Юноны с Герой. Само имя Минервы вполне может быть италийским (Menerua — это обычное написание для латинского языка). Оно, возможно, является производным от индоевропейского корня *men-, обозначающего все виды умственной деятельности. Так, Павел Диакон пишет: «Минерва была так названа, потому что она дает хороший совет», Фест отмечает, что в песне салиев есть глагол promeneruat, который означает monet (или promonet?), что хорошо согласуется с единственной услугой, которую она оказывает, — «обучать». Но такое словопроизводство необычно для латинского языка, и поэтому часто предполагают этрусские истоки. В древних календарях праздника Минервы нет, но есть день с названием женского рода множественного числа Quinquatrus: пятый день после мартовских ид — 19-е число, когда ее чествовали «ее люди» — всевозможные ремесленники[375]. Календарь Пренесты отмечает, что это — artificum dies[376], а Овидий очень правдоподобно описывает, то, что происходит (F. 3, 815–832):4. Капитолийская триада
Откуда происходит капитолийская триада? Что она означает? Теперь нам надо вернуться к этим вопросам, но не для того, чтобы их разрешить, а для того, чтобы выявить неясности и причины этих неясностей. По-видимому, триада не может принадлежать к древнему латинскому составу богов. Придуманный — a posteriori — древний Капитолий, который уже на Квиринале объединил Юпитера, Юнону и Минерву — это, по-видимому, ухищрения, направленные на то, чтобы выдать за более древнее и национальное творение результат трудов иноземцев (Латте)[380]. Прямое влияние Греции в сфере культа весьма маловероятно, так как объединение Ζεύς, Ήρα, Άθηνά было замечено лишь один раз во всем греческом мире, в Фокиде, и, по правде говоря, в условиях весьма схожих с условиями капитолийского культа (Paus. 10, 5, 1-12): «Через Давлиду идет подъем на вершину Парнаса; этот путь более длинный, чем из Дельф, однако не такой трудный, как тот. Если из Давлиды вернуться на прямую дорогу в Дельфы и идти по ней дальше, то на дороге налево встретится здание, так называемый Фокейский дом, куда собираются фокейцы в лице своих представителей от каждого города. Здание это обширное. Внутри в длину всего здания стоят колонны; от этих колонн поднимаются к той и другой стене ступеньки, и на этих ступеньках во время собрания и сидят представители от фокейцев. В конце, в задней части здания, нет ни ступенек, ни колонн, а стоят статуи Зевса, Афины и Геры. Зевс изображен сидящим на троне, по правую руку стоит Гера, а по левую — Афина»[381]. Каким образом этот образец — если он действительно существовал в конце VI в. до н. э. — мог бы так рано стать известным в Риме? Если, напротив, вполне естественно думать об этрусском происхождении[382], то неясность возникает сразу же, как только делается попытка уточнения. Было ли свободно задумано капитолийское объединение у этрусков, властвовавших в Риме, или же оно существовало уже раньше в Этрурии? Не заставили ли «Тарквинии» навязать городу заранее созданного властелина? Первая гипотеза, естественно, не допускает непосредственной прямой проверки. В отношении второй гипотезы римские эрудиты дают очень мало сведений, стремясь представить капитолийскую триаду как общую собственность Этрурии. Поскольку нет совпадений, нет документов об этрусской теологии, которые были бы созданы на месте, то невозможно оценить ценность имеющихся материалов. По словам Сервия (Aen. 1, 422), ученые этой страны, знающие учение этрусков (prudentes Etruscae disciplinae), по поводу основания городов говорили, что считались законными (iustae) только те, в которых трое ворот, три улицы и три храма были посвящены Юпитеру, Юноне и Минерве. Тарквинии якобы поступили так в своем храме, имевшем три целлы. В своих советах по поводу выбора мест, подходящих для постройки там различных общественных зданий, Витрувий ясноговорит (1, 7)[383], что он ищет нужные сведения в писаниях этрусских гаруспиков. И он предписывает строить на самом возвышенном месте (in excelsissimo loco) храмы Юпитера, Юноны и Минервы, отделяя этих трех богов от множества других. Но кто же эти prudentes, и что это за книги гаруспиков? Гаруспики и ученые — множество этрусков, которые поселились и процветали в Риме. Как могли бы они преуспевать и отвечать изменчивым нуждам повседневной действительности, если бы они не приспособили свои знания к месту и времени? Традиционными были, по-видимому, — при неизменной теоретической основе учения, — методы и принципы. Текст Витрувия подтверждает это предположение: наряду с правилами, касающимися храмов трех великих божеств, он предлагает разместить храм Меркурия также на Форуме или же, «как храмы Исиды и Сераписа», на торговой площади, а храмы Аполлона и Отца Либера — около театра, храмы же Марса, Вулкана и Венеры — за пределами стен города. Это — весьма омоложенный пантеон, который, конечно, не предусматривала старая чисто этрусская наука. Тем не менее, то что у Сервия и Витрувия упоминаются отдельные храмы, а у Сервия еще говорится об улицах и воротах, не вполне соответствующих римской действительности, возможно, является свидетельством существования учения, не связанного с ней[384]. Что касается значения, которое Тарквинии сами или, основываясь на летописной традиции, придавали триаде, то этого мы знать не можем, тем более, что их творчество нам известно лишь через искажающую завесу. Обет построить храм можно отнести на их счет, но либо до посвящения, либо (если прав Raymond Bloch) сразу после нанесения посвящающей надписи, Тарквинии были устранены, и именно освобожденные римляне, аристократия, враждебная бывшим господам, управляли созданием храма, и его основание в первое время оказалось в центре конфликта, возникшего между двумя нациями. Легенда рассказывает о многих эпизодах, которые — либо до строительства, либо после его окончания — отражали соперничество между Римом (фиктивно рассматриваемым как латинский город даже в период господства Тарквиниев) и Этрурией: например, рассказ о предсказании caput, которое, — если бы не предательство сына Олена Калийского, — после обращения к этрусскому гадателю обеспечило бы этрускам выгоду от исполнения обещания бога, т. е. власть над Италией (Plin. N. H. 28, 15–16, etc.). Сыграло свою роль и предзнаменование вейской квадриги. В то время, когда Тарквиний Гордый, спасшийся бегством, пытался вызвать новую войну Этрурии против Рима, произошло великое чудо. Еще будучи царем, он заказал вейским мастерам квадригу из обожженной глины, чтобы поместить ее на вершине храма. Когда вылепленная квадрига была помещена в печь, то — вместо того, чтобы уплотниться в результате испарений — она разбухла и разорвала вместилище. Гаруспики заявили, что это чудо возвещает счастье и могущество народу, который стал бы владельцем этого предмета. Тогда вейские мастера решили его не отдавать римлянам, сказав, что это собственность Тарквиния, а не тех, кто его изгнал. Однако вскоре после этого, в конце гонки колесниц, происходившей в Вейях, кони победителя понесли и разом добежали до Рима, сбросив возничего Ratumena у ворот, получивших впоследствии его имя. Жители Вей испугались и разрешили мастерам передать квадригу римлянам (Plut. Public. 13; etc.). Даже если не принимать в расчет эти легенды, — как можно быть уверенным в том, что латинские освободители, хотя и уважали капитолийскую триаду, могли бы отказаться от обета и разрушить культы, являющиеся следствием этого обета? Римляне устраняли следы этрусскского влияния, насколько это было возможно. Другими словами, капитолийская теология не была результатом одной простой операции; было два процесса: действие и ответная реакция на него, причем эта реакция внесла изменения, скорректировав действие и создав неясность. В самом деле, если понимать трех богов (и, в частности, Минерву) так, как их в то время понимали в Риме, то их объединение не имеет смысла, не дает концептуальной структуры: это настолько верно, что практически важен только Юпитер. Напротив, для основателя города, или же вообще для этрусков, триада, по-видимому, имела значение. Какое? Мы можем лишь попытаться это себе представить. Греческая мифология, очевидно, не только украсила их зеркала, но она проникла в их религиозное мышление. И хотя объединение Зевса с Герой и Афиной в Греции оставило культовый след только в Фоки-коне, оно, тем не менее, присутствует и сохраняет значимость во многих циклах легенд, которые очень рано затронули Италию, и в особенности Этрурию. Судьбу Геркулеса — Геракла — определили эти три божества. Перед тем, как Алкмена должна была родить, Зевс заявил перед богами, что ребенок, которому предстоит появиться на свет, будет царем аргосцев. Гера задерживает роды Алкмены и делает так, что Еврисфей рождается до срока. Следовательно, ребенок Алкмены не будет царем. В качестве компенсации Зевс обещает, что после того, как Геракл, служа Еврисфею, выполнит двенадцать подвигов, он станет бессмертным. Когда ребенка положили на виду, мимо проходили Гера и Афина. Афина убедила Геру дать ребенку грудь. Тот укусил ее так больно, что она его отбросила. Тогда Афина отнесла ребенка к матери (Diod. Sic., 4, 9, 4–7). С другой стороны, легенда об Энее стала известна в южной Этрурии не позднее начала V века. Падение Трои, вследствие которого Эней стал италийским гражданином, было предрешено или попущено Зевсом, но первоначально этого хотели Гера и Афина, гневавшиеся и оскорбленные из-за суда Париса. Такие циклы легенд могли приучить умы связывать Минерву, как вер-шительницу великих судеб, с парой Тиния — Уни, которую навязывали греческие легенды[385]. Все это лишь догадки и предположения. Этрурия унесла с собой эту тайну вместе со многими другими. Для Рима, к счастью, эта великая неопределенность не имеет того значения, которое можно было бы предположить, исходя из вышеизложенного. Хотя и пикантно было бы думать, что, возможно, ожесточение Геры и Афины против Трои, среди прочих легенд, способствовало тому, что рядом с Юпитером оказались Юнона и Минерва, все же подчеркнем еще раз, что Jupiter O. M. — действительно единственный активный член латинизированной триады, единственный хозяин Капитолия, единственный покровитель Римской республики.

Глава II ОГНИ ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТА
Когда писатели великого века хотят описать Рим, его бытие и его надежды, они нередко, в порыве красноречия, объединяют три разнородные вещи, имеющие, однако, одинаковый смысл. Римскому плебсу, жадному до земель и богатства и готовому покинуть отчизну и устроиться на развалинах города Вейи, Тит Ливий отвечает словами Камилла:«…Нe буду говорить обо всех святынях и обо всех богах вообще — но вот на пиру в честь Юпитера дозволено ли приготовить подушки где бы то ни было, кроме Капитолия? А что сказать о вечном огне Весты, о статуе, что хранится в ее святилище как залог владычества? Что сказать о ваших священных щитах, о Марс Градив (Gradivus), и ты, о Квирин-отец? Ужель оставить на поругание все эти святыни, из коих одни суть ровесники города, а иные и старше его?»[386]В оде, посвященной Регулу (3, 5, 5—12), Гораций противопоставляет своего героя легионерам, попавшим в плен к парфянам, которые легко забыли о своей чести и о своем долге в качестве римлян:
«Место для святилища очерчивают авгуры, и оно закрепляется торжественным заявлением (quibusdam conceptis uerbis). И тогда он получает название locus effatus (священное место) и определяет форму здания, которое там будет возведено. Это квадрат или прямоугольник, четыре стороны которого соответствуют четырем сторонам света. Главный фасад, согласно древнему римскому обычаю, повернут к западу, так что у человека, который совершает жертвоприношение на алтаре перед храмом и смотрит на изображение бога в открытой целле, лицо обращено к востоку. Можно видеть, что здание построено в соответствии с ритуалом, который в Греции неизвестен (поскольку в Греции здания культового назначения чаще всего ориентированы на восток), а в Риме сохранялся недолго, так как позднее фасады храмов в Риме часто были обращены к востоку».Если дом Весты не квадратный, то это потому, что как раз ее храм не полагалось открывать: ведь все ее могущество, вся ее значимость сосредоточены только на земле, она никак не связана с небом и с его направлениями. Следовательно, дом Весты — всего лишь священный храм (aedes sacra), а отнюдь не святилище (templum). Так осознавали все это сами римляне, и это понимание весьма важно как для религии, так и для политики, поскольку если храм Весты (aedes Vestae) не открывали, то Сенат не мог проводить там заседания: действительно, чтобы быть законным, сенатусконсульту[393] следовало быть принятым в месте, определенном авгурами и называемом святилищем (in loco per augurem constituto, quod templum appellaretur; Gell. 14, 7, 7). Некоторые дошли даже до того, что утверждали, будто ставилась цель помешать мужчинам, т. е. сенаторам, входить туда, что Нума якобы не хотел, чтобы имела место инаугурация храма Весты: молельню Весты, а не святилище установили (Vestae aediculam, non templum statuit). Однако это — юридический анахронизм, а более простая и более мистическая причина была той же самой, что и в Индии, где круглая форма, никак не ориентированная и, следовательно, чисто земная, была обязательной для «огня хозяина дома». Сходство двух теорий можно проследить в важных подробностях как в отношении святилища, так и в отношении храма. Что касается святилищ, то, как мы видели, в их ориентировании предпочтение отдавалось востоку. Представляется, что то же самое относится к различным действам авгуров. Так, во время инаугурации Нумы, описанной весьма тщательно в летописях, если царь смотрит на юг, то жрец проводит церемонию так, что юг показывает его правая часть (pars dextra; Liv. 1, 18, 7). Так же обстояло дело при очерчивании квадратного периметра огня ведических жертвоприношений: он наносился в два приема, причем точкой отправления был юго-западный угол. Сначала проводилась прямая борозда, которая шла с запада на восток и намечала южную сторону квадрата (dakşina «dexter»). Затем проводилась ломаная борозда, имевшая два угла, направленная из той же исходной точки к той же конечной точке, что и в предыдущем случае (юго-восточный угол), но непрерывно следовавшая ломаному контуру, образуемому тремя остальными сторонами квадрата. Таким образом, вся работа велась с запада на восток, причем плуг возвращали к исходной точке после первой борозды, чтобы не возник след в другую сторону. Некоторые известные правила храма Весты, не объясненные древними авторами, могут быть поняты благодаря комментариям, которыми индийцы снабдили сходные правила, касающиеся «огня хозяина дома». Так как храм был очагом большой римской семьи и символизировал ее жилище, в то же время, охраняя его, то там торжественно подметали один раз в год, 15 июня. По словам Варрона (L. L. 6, 32), этот день называли Q(uando) St(ercus) D(elatum) F(as), и выметенный stercus (навоз) переправлялся по склону Капитолийского холма в определенное место. Фест уточняет: собранный со святилища навоз относили в тупик, находившийся приблизительно на середине Капитолийского склона (in angiportum medium fere cliui C.) — в место, которое закрывали ворота — Навозные Ворота (Porte Stercoraire). И, если верить Овидию, эти нечистоты Весты (purgamina Vestae) оказывались, наконец, в водах Тибра (F. 6, 713–714). Слово stercus употреблено точно. Предполагали, что речь идет о пепле и обломках очага, однако stercus никогда не означал ничего другого, кроме как «помет животного», «навоз». Следовательно, это выражение, как окаменелая древность, относится ко временам, предшествовавшим возникновению города, когда пастушескому обществу приходилось очищать от навоза, оставленного стадами, место, предназначенное для священного очага. Торжественность этого ежегодного действа — тогда как мы вправе полагать, что во времена Республики храм всегда сохраняли в чистоте, как и все здания Рима, связанные с религией, — гарантирует, что ритуал этот весьма древний и имеет символическое значение, присущее идеологии этого святилища. Еще в те времена, когда храм был священным очагом Города, там существовало домашнее ремесло. Весталки там подготавливали и хранили запас священного рассола для засаливания mola, муки, изготовляемую ими в определенные дни, чтобы посыпать (im-molare) ею всякое животное, которое вели для жертвоприношения. Вот как Веррий Флакк, по свидетельству Верания, характеризует muries: это — рассол, сделанный из неочищенной соли, растолченной в ступе, налитый в глиняный горшок, затем покрытый гипсом и прокаленный в печи. Девы-весталки затем разрезают его железной пилой и бросают в наружную часть внутреннего святилища храма Весты (penus aedes Vestae), добавляют туда живую воду или любую воду, кроме канализационной, и, наконец, используют его при жертвоприношениях. Огонь гархапатья (или, вернее, место, где он будет находиться на участке, предназначенном для жертвоприношения) определяется двумя правилами, которые противопоставляют его огню ахавания, и которые, в более символической форме, имеют тот же смысл, что и римские правила: именно это место, а не другое, должно быть выметено (vyudūhati), чтобы изгнать с него всех нечистых обитателей, и мести надо веткой palāśa — дерева, наделенного настолько большими священными силами, что его отождествляют с самим брахманом. Откуда такая большая разница между двумя огнями? «Дело в том, что с помощью огня хозяина дома человек, совершающий жертвоприношение, водворяется (avasyati), тогда как с помощью огня жертвоприношений он возносится вверх». Как только все выметено, жертвователь посыпает это место полностью (а не другое место) просоленной землей или солью пустыни (uşāh). Откуда это различие? «Дело в том, что огонь хозяина дома [а не огонь жертвоприношений] — это земной мир, а соленая земля — это скот, и таким образом жертвователь помещает скот в этот земной мир». В этих двух описаниях можно усмотреть более древнее состояние пастушеской и кочевой цивилизации, в которой, однако, заметны те же символические тревоги, что и в римской религии. Напротив, третье индийское предписание совпадает с одним из запретов храма Весты. Во время установления огней на участке, предназначенном для жертвоприношения, ритуалы требуют всегда, чтобы на то место, где будет находиться «огонь жертвоприношений», а не на место «огня хозяина дома», был положен лист лотоса как символ воды. Откуда такое различие? Дело в том, что таким образом жертвователь помещает воду в ее подлинное место пребывания — в небо. В Риме можно заметить такое же противопоставление, однако упор делается на отрицательном условии. Перед храмами всегда была вода в резервуарах. Исидор Севильский (Etym. 15, 4, 9) говорит, что «слово debura, собственно, обозначает святилища, имеющие фонтаны, где умывались прежде чем войти в храм». Однако примечание fonts habentia должно было соответствовать общему случаю, так как debura в поэзии и возвышенной прозе стало точным синонимом слова святилище. С другой стороны, Павел Диакон определяет слово fauissae (у которого это лишь одно из значений) как «место, где вода была заперта вокруг святилищ» (с. 205 L2). Напротив, храм Весты отвергает воду. Та вода, которая была необходима для рутинного соблюдения обрядов или для других дел, которыми занимались весталки, должна была (по крайней мере, в древние времена) черпаться каждый день очень далеко, за пределами Рима (Plut. Num. 13, 2; Prop. 4, 4, 9—22). И даже по отношению к этой воде предпринимались предосторожности: Сервий (Aen. II, 339) говорит, что употреблялся «futile — сосуд с широким горлом, но маленьким дном, который использовали в культе Весты, потому что вода, которую черпали для этого культа, не ставилась на землю, а если такое случалось, то требовалось искупление этой ошибки: в этом причина изобретения такого сосуда, который не может стоять, а если его положить, вода из него выливается, и он оказывается пустым». Как мы видим, римляне, которые не были метафизиками, просто считают нужным отметить, что в нашем опыте и в нашей земной практике вода и огонь несовместимы друг с другом, враждебны друг другу, и что вода для огня опасна. Индийцы мыслят шире. Хотя они не помещают символ воды в основание огня «земного мира» (который не должен гаснуть), они, однако, намерены поместить его в «другой мир», где вода хорошо сочетается с высшими формами огня: небесный океан с солнцем или, в атмосфере, тучи с молнией. Таким образом, римская теория огней обнаруживает такие совпадения с индийской, которые далеко превосходят все то, что Греция могла запечатлеть из индоевропейских пережитков в своем культе Гестии. Рим также сохранил и обожествил третий аспект огня, эквивалента которому Греция не имеет и который подал индийским литургистам идею третьего огня на участке, предназначенном для жертвоприношения, — идею огня «голодного», подстерегающего на краю участка злых духов: Вулкан происходит оттуда. Он — огонь поглощающий и разрушающий, будь то во зло или во благо. Будучи и полезным, и опасным одновременно, он имеет храм за пределами городских стен (Plut. Q. R. 47) — согласно правилу, которое Витрувий (1, 7, 1) вносит в этрусскую науку, объясняя его стремлением не размещать среди домов города бога, который может их сжечь. Возможно, был и другой мотив для этого расположения вне города — тот же самый, следуя которому и Марс также получил места поклонения за стенами города: желание обратить могущество бога против врага, против агрессора. Во всяком случае — так же, как Марс, как «Минерва», которую, по-видимому, следует осмысливать как Nerio, как богиню Распада, Луа Матер, — Вулкан получает на поле сражения оружие, отнятое у врагов, чтобы им же их уничтожить (Liv. 1, 37, 5; 30, 6, 9; 41, 12, 6; Serv. Aen. 8, 561–562); точно так же, как в случае обетования — ставшее ненужным, и даже опасным, «проклятое» оружие надо отдать Вулкану. Кроме храма вне городских стен, расположенного около Фламинского Цирка, впервые упомянутого в 214 г., существовало еще одно место культа, более древнее, которое до включения Капитолия в город также находилось если не за границами города, то, по крайней мере, на самой границе: у подножия юго-восточного склона Капитолия, между Комицием и Форумом было небольшое свободное пространство, называвшееся Вулканал, где имелся алтарь под открытым небом — area Volcani. Ненасытный огонь стоял, таким образом, на страже на одном из концов Форума, и ему была поручена мистическая миссия очищения, в связи, в частности, со злодеяниями его небесного брата — молнии (fulmen): когда статую Горация Коклеса поразила молния, ее переместили в Комиций на Вулканал (Gell. 4, 5, 1–4), куда были также принесены с холма Яникула останки одного пораженного молнией гладиатора (Fest. c. 392 L2). Дата 23-е августа, а также предписания по проведению его праздника — Volcanalia — указывают на то, что именно с Вулканом связывали опасность пожаров, которые в жаркие летние дни угрожали урожаю и хлебным амбарам. В этот день совершались жертвоприношения различным богам в разных местах: Квирину — на холме Квиринале, богине Опе Opifera (возможно, на Форуме), Нимфам, а также, может быть Ютурне (на Марсовом поле). А самому Вулкану посвящали жертвоприношения «на Комиции», т. е., вероятно, на Вулканале (CIL. I1, с. 326–327). Общей целью всех этих действий могла быть только защита зерна с помощью воды и церемоний, направленных на то, чтобы умилостивить огонь. Эта важнейшая забота объясняет также тот факт, что Вулкан, вместе с Квирином и Опой, был включен в число «богов Тита Татия», т. е. причислен к богам третьей функции. Из посвященного ему культа известен только один жестокий обряд, который отражал не сотрудничество огня и воды на службе человеку, а их резкую сущностную противоположность: Вулкану (или, скорее, его огню на Вулканале) приносили в жертву маленьких живых рыбок «вместо человеческих душ» (Varro L. L. 6, 20; Fest. c. 345 L2). В индийских легендах Агни также изображался как непримиримый враг рыб. Что касается того, что поэты представляли Вулкана как кузнеца, то это всего лишь следствие interpretatio graeca его как Гефеста, и это — весьма неудачная часть всей теологии. Фактически Греция не создала ничего подобного Вулкану. По-видимому, из-за того, что он дал свое имя Гефесту, он оказался вместе с Вестой на лектистерниях в 217 г. (Liv. 22, 10, 9). Логичность имплицитной теологии огней, которую проясняет эксплицитная индийская теория, естественное место кругообразного храма Весты в этой теории — говорят против общепринятой интерпретации круглой формы как религиозного пережитка древней хижины. Впрочем, если бы это толкование имело достаточные основания, то было бы непонятно, почему древность сказалась только на геометрическом понятии округлости: стилизация хижины должна была бы сохраниться и остаться заметной несмотря на переделки памятника. Прежде чем оставить тему индоевропейских истоков, отметим еще два факта, которые с эти связаны. Во-первых, само имя богини: производное с суффиксом — ta- редкого и архаичного типа, от корня *ə1eu- «гореть» с добавлением суффикса s. Из двух возможных форм этого увеличенного корня, первую форму — *ə1eu-s — можно обнаружить в греческом εűει, латинском ūrit (ustus), ведическом óşati — «он горит», а вторую форму — * э1и-es в Vesta, а также, по-видимому, в греческом ˝Εστία. Если имя Веста встречалось только в городах Лация, то умбрское слово uesticatu — «libato» (и в имени бога Vesticio- «Libasius»?) и имя Vestini — горного племени в Самнии, возможно, свидетельствуют о более широком распространении. Во-вторых, — это обычай заканчивать любую религиозную церемонию, посвященную многим богам, Вестой. Цицерон (Nat. d. 2, 27) говорит, приводя искусственное оправдание факта: «Именно этой богиней, которая является хранительницей внутреннего мира, заканчиваются любая молитва и всякое жертвоприношение». Нет никаких оснований сомневаться в этом правиле, симметричном правилу, которое посвящает первое место Янусу. Оно прямо противоположно греческому правилу, согласно которому в аналогичных обстоятельствах первой богиней, к которой следовало взывать или которой следовало служить, была Гестия. Тщательные исследования различных индоиранских обществ дали следующие результаты: в Ригведе гимны различного назначения и жертвоприношения многим богам часто ставят Агни на одно из двух мест — либо в начале, либо в конце, а иногда и там, и там. В маздеизме в важных обстоятельствах ритуалов Ātar, Огонь ставится в конце списка, который ниже верховного бога перечисляет шесть великих Архангелов (Aməša Spənta), затем несколько божеств. Наконец, современные осетины — последние потомки скифов — также заканчивают гением огня «общую молитву», обращенную к четырнадцати богам или гениям, которая обрамляет все частные литургии. Следовательно, можно думать, что индоевропейцы охотно ставили на одно из крайних мест свое божество доброжелательного огня — на первое или на последнее место. Различные народы — их наследники — отдавали предпочтение одному из этих двух мест. Совпадение римских обычаев с иранскими весьма значительно. Как это часто бывает там, где встречается вечный огонь, он, тем не менее, гасился и торжественно зажигался вновь один раз в году: 1 марта (Ov. F. 3, 143–144) — в то же самое время, когда старые лавры заменялись свежими на Регии, в куриях и в домах фламинов (Macr. 1, 12, 6). Важность и ценность этого огня, считавшегося талисманом, привели к тому, что — по мере того, как развивались политические и литературные притязания и аннексии Рима — храм Весты стал хранилищем других талисманов, залогов или signa fatalia, размещавшихся в самой сокровенной части penus (внутреннего святилища храма). Сервий насчитывает их семь (Serv. Aen. 7, 188), причем более половины из них происходят из Азии или из Греции. Из одной только легенды о Трое происходят и Палладиум, и шаль Илионы, старшей дочери Приама. По-видимому, в древности существовала менее грандиозная коллекция, но ее тайна строго хранилась. Если верить просочившимся сведениям, то функция плодовитости там была грубо представлена фаллосом (Plin. N. H. 28, 39). Что касается самой Весты — Vesta publica populi Romani, — то у нее была привилегия, которой восхищается Овидий (F. 6, 299) и которая заключалась в том, что в ее святилище не было никакого ее изображения: в достаточной мере ее символизировал огонь. Овидий обвиняет себя в глупости за то, что долго был убежден в обратном. Первоначально так обстояло со всеми божествами Рима: просто Веста оказалась самой консервативной. К тому же, есть основания полагать, что в притворе храма эта аномалия была исправлена в I в. до н. э., поскольку Цицерон говорит, что кровь достопочтенного понтифика Квинта Муция Сцеволы обрызгала статую богини[394]. В дни торжественного очищения, с 7 по 15-е июня, женщинам разрешали входить в храм, причем босиком. Вне этого времени только весталки и великий понтифик имели доступ в храм, да и то ему был запрещен вход в penus — святая святых. Культ полезного огня был живописно расширен действиями, связанными с производством основного продукта питания — хлеба. По-видимому, это произошло на основе частного, домашнего культа очага, хотя сначала пекари, а затем мельники вместе с животными, которые крутят жернов, и сам камень, стали участниками культовой церемонии и связанного с ней общественного праздника 9 июня (Ov. F. 6, 311–318), а позднее — и адресатом этого торжества:


Глава III КАДРЫ
1. Начала
Если Веста — последняя, extrema, в жертвоприношениях и молитвах, то Янус — первый: таково наставление Цицерона (О природе богов, 2, 27). Они образуют, таким образом, самые общие литургические рамки. Но такое положение Януса не ограничивается литургией. Блаж. Августин выписал у Варрона определение, достойное внимания. В нем первое место (prima) сочетается с другой превосходной степенью: Янусу принадлежит prima, а Юпитеру — высшая должность (summa). Замечателен комментарий, сопровождающий эту формулировку: отсюда следует, что Юпитер сполным правом является царем, ибо summa превосходят prima, поскольку в случае prima речь идет о превосходстве во временнóй последовательности, а summa указывают на уровень dignitas[397]. Все, что нам известно о Янусе, подтверждает и это правило, и такое понимание. Это относится как к формулировке обетования, где с Януса начинается длинный перечень божеств, так и к «личной» части песнопения салиев, где стихи ianuli упоминаются до стихов iouii, iunonii, mineruii (Fest. c. 95 L2); а также к важному ритуалу арвальских братьев, в котором Yanus pater, — за которым всегда следует Юпитер, — начинает список, завершаемый Вестой, как и во вступлении двух аграрных обрядов, описанных Катоном (О земледелии, 134, 141). Первым к Янусу взывают и в богослужении, где он занимает первое место. Какую бы функцию или церемонию мы ни рассматривали, в любое время, всё всегда логически вытекает из его заботы о prima или, как в другом месте говорит блаж. Августин, из его власти над всеми началами (“omnium initiorum potestatem”, ibid., 7, 3, I; “potestatem primordiorum”, ibid., 7, 10). С некоторых пор появилась мода оспаривать способность к абстракции у римских варваров начального периода, хотя их язык дает для нее (абстракции) множество возможностей и несмотря на то, что ею широко пользовались в своей теологии родственные им древние индийцы и иранцы, а также и греки, и скандинавы или ирландцы. Эта мода пройдет, однако в течение лет тридцати она (кроме других пагубных последствий) привела к тому, что возникли сложности в материалах о Янусе, которые были очень ясными и уравновешенными. Если не допускать предвзятости и a priori не приносить в жертву этой доктрине подлинные факты, то можно следующим образом представить этого бога. Его имя с основой на —о или, в древнем варианте, на —и (откуда производные ianua, Yanuarius, хотя этот последний, возможно, образован по аналогии с Februarius) — характеризует его, собственно, как «переход». Оно образовано от основы *y-ā-, расширения основы *ei-, которая в другом западном индоевропейском языке, где она дала производное слово, также означает «переход». Так, ирландское àth (представленное в официальном названии Дублина, — Baile Átha Cliath — от *yā-tu) означает «брод». Цицерон (Nat. d. 2.27) был прав, когда по поводу бога напоминал, что «открытые проходы (transitiones peruiae) называются iani», и что «двери у входов в жилые помещения (fores in liminibus profanarum aedium) называются ianuae». В самом деле, существуют две возможности понимать начало: либо как «рождение», и тогда это — сфера Юноны, либо как «переход» из одного состояния в другое, и тогда это сфера Януса. Отсюда вытекают разные отношения, сближения между Юноной и Янусом, на многие из которых уже указывалось выше. Однако в то время как первое понимание применимо лишь к некоторым «началам», второе легко подходит ко всем начинаниям, даже к самым абстрактным. Отсюда и бóльшая обобщенность Януса в деятельности. Он руководит понимаемыми таким образом началами не только в религии, но и в пространстве, во времени, в существовании, бытии. 1. Пространственно он пребывает на пороге домов, у дверей — ianitor. Он управляет этими двумя началами — входом и выходом, и еще двумя другими началами — открыванием и закрыванием дверей. Он — Patulcius («Открывающий [врата храма]») и Clusius («Запирающий»). Эти два эпитета говорят сами за себя. Нам известно, какую важную роль играет это понятие в особом случае — в мире и войне, в том, что Вергилий называет belli portae, и мы видели, как это понятие вызвало создание сложного наименования «Янус-Квирин», из которого некоторые комментаторы пытались извлечь выводы, которых оно отнюдь не подразумевало. Легенда о возникновении Рима тоже поместит его у ворот Капитолия (Ov. Met. 14, 782–790), и можно понять, как из этой позиции на пороге естественно вытекает роль custos[398] (Ov. F. I, 120–123; Lyd. Mens. 4, 2). Однако есть более важный порог: внешний холм, который как бы поставлен перед Римом, — холм бога — Яникул. В этом, самом материальном аспекте, у Януса есть коллега — Портун, который строго принадлежит этому месту и которого Варрон характеризует как deus portuum portarumque praeses («бог, председательствующий над портами и воротами»; Schol. Veron. Aen. 5, 241). За этой двойственностью кроется единство, о котором свидетельствуют сами слова и которое Бонфанте (G. Bonfante) предлагает отнести к тем временам, когда предки римлян переживали период свайных построек: доступ к деревням на сваях был одновременно и «пристанью», и «воротами». Так же как Януса, Портуна изображают с ключом в руке (Paul, с. 161 L2). Как мы видели, именно фламин Портуна смазывает жиром оружие Квирина, исполнявшего те же функции, что Mars qui praeest pace (Марс, который предводительствует миром), вследствие чего возникло отождествление Квирина с Янусом. Справедливо подчеркивалось также временнóе совпадение: dies natalis храма Януса на Forum holitorium (Овощном рынке), когда его восстановили при Тиберии, — это также и день Портуналий (17 августа). Если бы понадобилось, то это родство двух богов подтвердило бы этимологию имени «Янус»: название «брода» в некоторых кельтских языках, на гэльском, — *yātu-, а в языке галлов и бриттов — *ritu- (т. е. *pŗtu-): ирландскому áth соответствует галльское Ritu- в Ritumagos «Riom» («Поле брода») и валлийское rhyd (Rhydychen «Ox-ford»). 2. Янусу было доверено имя «начала года», что сохранилось до нашего времени; и именно в качестве бога «первого месяца» реформированного года — иногда в безосновательно расширенном значении в качестве бога года — почитали Януса многие древние авторы. Макробий (I, 13, 3), говоря о Нуме и о его календаре, подчеркивает аспект «перехода» в этом покровительстве: январь — это точка контакта двух лет. Первый праздник года — 9 января — это агоналии Януса. Параллельно Юноне, которая здесь была подлинной госпожой, Янус присутствует в первый день каждого года — в календы. Этот факт одновременно был оспорен Куртом Латте и подтвержден господином Робертом Шиллингом (и прав, конечно, этот последний). Нет никаких оснований отвергать мнение ни Макробия (I, 9, 16), утверждавшего, что к Янусу взывали, называя его «Юноний» (Yunonius), поскольку он начинал не только месяц январь, но и все другие месяцы, ни Лида (Mens. 4, 2), который — со слов Варрона — говорил, что Януса называли «богом с пирогами», по-гречески ποπάνων, потому что ему дарили сладкие пироги πόπανα в календы. Разве мы не знаем из других источников как раз о некоем сорте пирога, который предназначался Янусу и назывался ianual (Paul, с. 227 L2), и разве Овидий не дает в связи с январскими календами рецепт этого пирога (Ov. F, I, 127)? Из времени дня Янусу, по-видимому, принадлежало утро. Слишком просто было бы не обратить внимания на стихи Горация под предлогом их шуточности (Serm. 2, 6, 20–23), в которых он говорит: «Отец утра, или если ты предпочитаешь, чтобы тебя так звали, — Янус, — ты, с помощью которого по воле богов люди начинают свой труд и свою деятельность (primos… instituunt), — будь началом моей поэмы.». Ученая теория, связанная с солнцем, которую бесстрастно излагает Макробий (Некоторые утверждают, что Янус является солнцем. I, 9, 9), могла лишь испытать благотворное влияние этого утреннего покровительства. Наконец, Янус был включен в историческое время на вполне ожидаемом месте — в его начале. Как говорили, он был первым царем Лация, причем в его золотой век, когда люди и боги жили вместе (Ov. F. 247–248). Войдя таким образом в «историю», он получил обычные принадлежности человеческой жизни — жену, детей, друзей, которые здесь не имеют значения. Но другие сюжеты заходят гораздо дальше: когда изначальный Хаос греков дойдет до Рима, местные мыслители настолько же отодвинут назад Януса (Fest. c. 157 L2): «которому сначала поклонялись как будто отцу и считали, что он положил начало всех вещей» (Ov. F. I, 102–112). Уже в песнопении салиев его, по-видимому, характеризовали как dyonis cerus (Var. L. L. 6, 26) или cerus manus (Paul, с. 249 L2), и это понимали как creator bonus. Поэты усердствуют еще больше. Так, Септимий Север (фр. 3, E. Baehrens. Fragmenta poetaram romanorum. 1886) обращается к нему следующим образом: «О искусный создатель вещей, о основоположник (начало) богов». В конце концов, станут говорить, что он был «самым древним местным богом Италии» (Геродиан. I, 16, 1), «первым из древних богов, которых римляне называли Пенатами (Procop. B. Got. I, 25), etc. Именно опираясь на тексты, подобные этому, забывая, что речь идет только об уточнении описания prima среди многого другого, многие авторы построили особую теорию, согласно которой Янус действительно более древний бог, чем Юпитер, «главный бог» древнейшей религии, которая якобы подверглась реформе, исказившей ее в пользу Юпитера. 3. Многие природные начала находятся под покровительством Януса: он играет роль в зачатии эмбриона, давая доступ к семени (Августин. О граде Божием, 6, 9, 5; 7, 2 и 3, 1). Он — великий изобретатель: это он основал религию, построил первые храмы (Lid. Mens., 4, 2; Макробий, I, 9, 3). Это он учредил Сатурналии (Макробий, I,), придумал металлические деньги (Плутарх. Нума, 19, 6–9). Все эти фантазии, а также иные, появившиеся в разные другие времена, доказывают только одно, но доказывают убедительно: подлинность и продуктивность фундаментального определения бога. Понятие двуликости Януса, по-видимому, весьма давнее. Оно также вытекает из его определения: ведь любой переход предполагает два места, два состояния: то, из которого выходишь, и то, в которое входишь. В Индии говорили, что у Адити «два лица»: то, с которым она начинает церемонию, и то, с которым ее заканчивает. От древнего Вавилона до западной Африки боги, имеющие сходные функции, характеризуются похожей выразительностью. Единственное скульптурное изображение, в котором отразилось это символическое представление, по-видимому, пришло в Рим из-за границы: либо из «двуликих Гермесов» Греции, либо из еще более далеких стран. Что касается templum Jani на Форуме, который не был собственно храмом и который, по преданию, воздвиг Нума, то его точное местоположение неизвестно. Тит Ливий называет подножие Аргилета (I, 19, 2), а Макробий — подножие холма Виминал (I, 9, 17). Археологи ищут до сих пор. Поскольку тексты противоречат друг другу, то продолжаются споры о числе знаменитых ворот — двое? (трое?), — а также о том, где они были расположены, и об их природе. До сих пор спорят и о смысле выражения Janus Geminus. Но это не имеет отношения к теории бога, а также не касается двух противоречивых интерпретаций, которые древние авторы дают о связи святилища с сочетанием «война — мир». По мнению одних, ларец Пандоры содержал здоровье, по мнению других в ней были заключены болезни, но когда он был открыт, то результат оказался одинаковым: то ли здоровье ускользнуло от человека, то ли болезни распространились. Точно так же обстоит дело с храмом Януса: что именно он содержит или удерживает, когда он закрыт — драгоценный мир или опасную войну? В беседе с автором Фаст Янус сам в этом не может разобраться: он говорит, что может «Мир из-под мирного выпустить крова…»[399] (I, 121–122), однако сразу же после этого сообщает, что под тем же кровом удерживает Войну за крепкими запорами (I, 123–124). А еще дальше тот же самый кров действительно служит тюрьмой, но уже держит в заключении Мир: Paci fores obdo, ne qua discedere possit[400]. Второй храм Януса, который в 260 г. построил консул Гай Дуилий, не создает столько проблем: там двуликий, по-видимому, был всего лишь одним из богов. Древние понимали оригинальность Януса: Овидий отмечает, что в Греции нет бога, подобного ему (F. I, 90). Для историка религии более важно то, что Янус в Италии, в самом Лации, представляется строго римским, за исключением того, что — и это важно — он был заимствован у других италийских племен, от этрусского Ани (Ani). Однако сравнительные исследования дают основание полагать, что он — весьма древний, и по своим функциям — индоевропейский бог. В самых известных структурированных теологиях (таких как скандинавская или индоиранская) существует один или несколько «первостепенных богов»[401]. Скандинавский Хеймдалль, в частности, в пространстве и времени напоминает Януса: он «стоит на границах земли», «на краю неба», он — часовой богов, он «родился вначале», он — предок человечества, он породил классы, он — учредитель любого общественного порядка. Однако он стоит намного ниже Одина, верховного бога. Малое Прорицание вёльвы характеризует его по отношению к Одину почти в тех же словах, в каких Варрон противопоставляет Януса, бога prima (первого места), и Юпитера, бога summa (высшей должности): Хеймдалль родился «перворожденным» (vard einn borinn öllum meiri)[402]. Впрочем, возможно, что «первоначальная функция» была обеспечена в других городах Лация, но воплощена в разных типах богов и, как часто бывает, с разной половой принадлежностью. По-видимому, именно так обстоит дело с Fortuna Primigenia, т. е. «первоначальной», в Пренесте. В отличие от Портуна, Янус не имеет фламина. Нередко говорят, что его собственным жрецом был священный царь. Это по меньшей мере — преувеличение. Царь, хотя и имел какие-то отношения с Янусом, тем не менее, у него слишком много других обязанностей, чтобы заниматься только им. Главенство царя заключается, скорее, в его верховности, а его отношения с фламином Юпитера, следы которых остались в древней царской власти, связывают царя, скорее, с Юпитером. Более того, к царю имеет отношение не весь Янус, а только его аспект «зачинателя времени». Например, нет никакого обряда, который требовал бы, чтобы царь переступал порог какого-либо здания, и ничто не требует присутствия царя на Яникуле. В тех случаях, когда кажется, что Янус дает сигнал для начала какой-либо деятельности, связанной с древней царской юрисдикцией (начало Луперкалий: Ov. F. II, 21; возможно, начало военного сезона: Латте, стр. 117–118), — нет никаких специальных ссылок на Януса. Но все же следует отметить, что между Хеймдаллем и царской властью, напротив, существует тесная связь. Не то, чтобы Хеймдалль был царем, но он создает функцию царя и порождает первого царя. В Индии были замечены аналогичные факты.2. Времена
Иногда поэты и резонеры представляли Януса как бога года, который начинается с месяца, носящего его имя (Ov. F. I, 62–64; Lyd. Mens., 4, I etc.). На одной древней статуе, которая изображает Януса, пытались в расположении пальцев на руках, которые были в очень неважном состоянии, усмотреть число 365 (Плиний. Естественная история, 34, 33 etc.). Жертвоприношения зерновых, происходившие в календы, тоже наталкивали на такое понимание, так что в конце концов пришли к странной идее создания двенадцати алтарей Януса, каждый из которых был посвящен началу определенного месяца, о чем свидетельствует Варрон (Макробий, I, 9, 16), но, по-видимому, все это никогда не выходило за рамки теории. Было ли у периодических делений времени специальные покровители? Кончено, они были. Так, мы видели, что иды принадлежали Юпитеру, все календы были во власти Юноны (Макробий, I, 9, 16), и Янус этим интересовался. Деление года на сезоны не было таким строгим, однако, не образуя структуры, важные праздники, связанные с особыми божествами, служили знаком начала[403] сезонов. В середине марта, в начале самого древнего года (чтобы не говорить о народном маскараде, изображавшем изгнание Mamurius Veturius — «старика-марта») это был праздник Анны Перенны, также народный, но официально признанный[404]: и публично, и приватно Анне Перенне приносится жертва, чтобы как следует прожить и сохранить год (Макробий, I, 12, 6; ср. Lyd. Mens. 4, 36). Это празднество побудило Овидия дать одно из ярчайших его описаний: толпа, plebs, устремляется к Тибру, располагается на лугах — либо под открытым небом, либо под случайными тентами, либо в беседках, увитых листвой. Люди крепко выпивают и просят столько лет, сколько выпито чар вина. Там есть мужчины, готовые пить в течение всех лет Нестора, и женщины, которые стали бы настоящими Сивиллами, если бы что-то зависело от выпиваемых ими полных чаш. Затем поют театральные песни, интенсивно жестикулируя при этом, и пляшут безудержно. Возвращаясь домой, идут отнюдь не прямо. Глядя на них, прохожие говорят: «Как они счастливы!» (Ov. F, III, 523–540)[405]. Никакой общественный праздник не отмечает ни равноденствие, ни летнее солнцестояние[406]. У них нет божества-покровителя, но период, включающий зимнее солнцестояние, имеет свою богиню. Время самых коротких дней в году — это волнующий период, кризис природы, который счастливо завершается с зимним солнцестоянием (bruma). Но если bruma, breuissima dies (кратчайший день), объективно указывает на солнцестояние, которое считается особой точкой на кривой линии времени, то беспокойство и тоскливое чувство, которое испытывают или изображают люди в период, когда светлая часть дня становится всё меньше и меньше, лучше отражает другое слово, образованное от того же корня, что angor. Во все времена считалось, что хорошему стилю латинского языка принадлежит слово angustia, обозначающее промежуток времени, который ощущается как слишком краткий — неприятно и болезненно краткий. Макробий охотно его употребляет и повторяет в тех случаях, когда драматизирует этот переломный период года (I, 21, 15): «Время, когда свет — недостаточный (angusta).; солнцестояние, день, когда солнце, наконец, появляется из затмения и тесноты (ex latebris angustiisque)…». После трех лет своей ссылки во Фракию, несчастный Овидий стонет. Он говорит, что его несчастье делает его неспособным чувствовать наслаждения, как во время сезонной тоски (Tr. 5, 10, 7–8): «Летнее солнцестояние не укорачивает мои ночи, а зимнее солнцестояние не делает мои дни короткими». Религия ощущала эти короткие дни (angustos dies) — выход из них обеспечивали богиня и культ. Точно так же, как богиня Беллона помогала наилучшим образом пережить кризис войны, а в малой мифологии богиня Орбона (Orbona), по-видимому, заботилась о родителях, которые теряли своих детей (Цицерон. О природе богов, 3, 63; Arn. Gent., 4, 7), так же были еще Пеллония, которая оттесняла врагов (Arn. Ibid. 4, 4), и Фессония, которая давала возможность путешественникам справиться с усталостью (Августин. О граде Божьем, 4, 21). А также была Ангерона (Diua Angerona), помогавшая преодолеть этот вид angustia. Ее праздник — Дивалии или Ангерона-лии — приходится на 21 декабря, наше солнцестояние. В этот день понтифики совершают в честь нее жертвоприношение в курии Acculeia (Варрон. L. L. 6, 23) или в святилище Волюпии, вблизи ворот Romanula — одних из внутренних ворот Рима на северной стороне Палатина (Макробий, I, 10, 7). В этой часовне, в святилище Волюпии (Макробий, ibid. 8), находилась статуя богини, у которой был запечатан и завязан рот, а также, по одному свидетельству (Solin. I, 6), она прижимала ко рту палец — жест, требующий молчания. Эта последняя черта, по-видимому, способствовала тому, чтобы сделать ее (в противовес некоторым другим богиням) кандидаткой на звание тайной богини in cuius tutela urbs Roma est[407] (Макробий, 3, 9, 3–4). Поза богини загадочна, но мы не имеем права отвергать ее наставление, ссылаясь на то, что в Риме любое скульптурное изображение — привозное. Римляне не предназначили бы Ангероне такую своеобразную статую, если бы завязанный рот и прижатый к губам палец не соответствовали чему-то, что они о ней знали, и это могло быть только ее намеренное молчание. Нельзя также — из-за того, что молчание характерно для смерти, — приписывать богине инфернальный смысл, на который не указывает ничто в сведениях о ней. Я предложил другое решение, основанное на сравнении мифов, которые в других индоевропейских обществах связаны с аналогичной ситуацией. Так, в Индии и в других местах молчание направлено на концентрацию мысли и воли, на внутренний монолог, а также на то, чтобы обрести ту магическую силу, которой не имеет произнесенное слово. Мифологии охотно ставят эту силу на службу солнцу, если ему грозит опасность. У скандинавов самый могущественный бог после Тора — это Видар, «к которому боги обращаются в случае грозящих им опасностей», — говорит Снорри. Фактически единственный известный случай такого вмешательства относится к Сумеркам богов: во время великого кризиса, когда исчезает старый мир, когда волк Фенрир поглотил Одина и когда солнце тоже было проглочено «волками» (Мл. Эдда) либо самим Фенриром (Vafprudnis-mài, 46), либо сыном Фенрира (Grimnismâl, 39), — именно Видар один справился с Фенриром (Völ. 55), дав возможность миру возродиться, и в этом мире вместо уничтоженного солнца выступает его дочь (Sól — женского рода), которая, к счастью, родилась прежде, чем Фенрир его поглотил (Vafpr., 47). Здесь следует отметить два тезиса: 1) эсхатологический кризис, когда Фенрир поглотил солнце, рассматривается как зима, «Великая Зима», Fimbulvetz; 2) бог, который обеспечивает возрождение, убивая Фенрира, — Видар, — характеризуется как «молчаливый ас» (hina pögli ass; Мл. Эдда), и это молчание должно быть связано с его исключительной силой и с его спасительным подвигом. Аналогия с задачей Ангероны во время angusti dies ежегодной зимы говорит о многом. Именно благодаря молчанию и концентрации мистической силы, которую оно дает, Ангерона делает свое дело и спасает солнце от опасности. Ведическая мифология применяет это средство — молчание (которое в других случаях широко используется в индийских ритуалах) — к кризису Солнца, который не был зимним, а являлся затмением: когда Солнце было скрыто демоническим мраком, один из древних героев — Атри — извлек его оттуда «с помощью четвертого брахмана» и воздал культ богам «обнаженным поклонением». Причины, подробно изложенные в 1956 г., позволяют думать, что «четвертый брахман» — это внутренняя речь, а «обнаженное молчание» — это молчание безмолвное, когда не произносят ни одного слова. Так объясняется взаимосвязь Ангероны и Волюпии, которая (вопреки мнению блаж. Августина) не есть Voluptas[408], а представляет собой солнцетворение — существительное, соответствующее древнему прилагательному uolup(e): это — удовольствие, порожденное удовлетворенным желанием и осуществленной волей. Так получает обоснование определение, которое дает один латино-греческий глоссарий: Angeronia (вариант: Angerona) — это «богиня воли (или совета?) и благоприятных моментов». Эта интерпретация, сочетающая исчерпывающий анализ римских фактов и уроки, вытекающие из мифологии двух родственных народов, может шокировать только тех, кто отказывает древнейшим жителям Италии в гибкости ума и в традиционных знаниях и опыте. Хотя летнее солнцестояние не отмечено никаким ритуалом, все же римляне имели близкий к нему по времени праздник (11 июня), посвященный другой богине, управлявшей временем — Mater Matuta. Мы говорили о ней в «Предварительных замечаниях», так как она — типичный пример тех божеств, которые до сих пор остаются загадочными и сравнение которых с ведическими богами объясняет все их особенности. Матер Матута — это Аврора. На ее празднике римские матроны подражают тем жестам, которые приписываются ей в мифах. И это хотят видеть ежегодно, во все дни ее краткого появления: оттеснение мрака, внимательное и ласковое отношение к Солнцу, сыну Ночи, сыну ее сестры, согласно ведическим мифам. Хотя еще недавно высказывалось такое предположение и несмотря на часто встречающееся в гимнах выражение («первая заря»), кажется сомнительной возможность культа Авроры в ведической религии, кроме ежедневного: например, возможность существования ежегодного праздника. Вызывает сомнение также предположение, что множественное число («Авроры») может подразумевать что-либо, кроме безграничного числа Аврор во все времена. Римский обычай сложился по-другому: публичные ритуалы один раз в году имитируют и поощряют ежедневную службу в честь этой богини, и можно думать, что множество участниц отражает, скорее, Аврор предстоящих двенадцати месяцев. И здесь близость солнцестояния отнюдь не случайна. Именно тогда, когда дни, как бы утомившись, начинают сокращаться, богиня Аврора вызывает наибольший интерес у людей: подобно тому, как Ангерона (как мы видели) привлекается в конце тревожного процесса сокращения длительности дня во время зимнего солнцестояния — как богиня, которая, наконец, увеличивает дни, ставшие короткими. Впрочем, C. Koch заметил, что был другой праздник, точно симметричный празднику Авроры 11-го июня: это праздник 11-го декабря, прославлявший «предка-Солнце» (Lyd. Mens. Fr. Caseol., p. 172 Wuensch). Возможно, что этот последний подготавливал усилие молчаливой Ангероны во время солнцестояния 21-го числа. Что касается замысла ритуалов Матралий, то идея второго обряда может быть двоякой: помогая симпатическим действием Авроре поддерживать Солнце, сына ее сестры (как U§as его нянчит и ласкает), матроны молятся за своих собственных племянников, которых они держат на руках. Первый ритуал может иметь только одну интерпретацию: своими действиями они помогают Авроре в изгнании тьмы. Однако, может быть, благодаря глубокому отождествлению мрака с этой несчастной рабыней, которая его олицетворяет, общественный порядок извлекает пользу из регулярного хода космического действа. Но эту гипотезу проверить невозможно. Остальные материалы, касающиеся богини Авроры, связаны со вторым обрядом, который их объясняет: поскольку она принимала нарождающееся солнце, то вполне естественно, что к ней обращались с молитвами о счастливом рождении, о благополучных родах. Действительно, в святилищах, не принадлежавших римлянам — в Цере, в Сатрике, — было найдено множество вотивных предметов[409], изображающих младенцев в пеленках. Страбон (и только он) дает имя Εkλείθυια — богиня-акушерка — в качестве греческой интерпретации для Матуты в Цере (5, 2, 8). В отличие от этих божеств, каждое из которых открывает определенный промежуток времени, которым ограничивается его юрисдикция, Вортумн напоминает о трансформации, о могуществе циклических изменений, порождающих времена года. Его имя представляется вполне латинским: по отношению к uorti — «поворачиваться, превращаться, преобразовываться» — оно является тем, чем alumnus — «питомец» — является по отношению к «ali» — питаться. Однако сами римляне подчеркивали этрусское происхождение этого имени, в чем не сомневаются современные ученые[410]. Имеются серьезные основания полагать, что его храм на Авентине, в котором находилось изображение Марка Фульвия Флакка в одежде триумфатора (Fest. c. 315 L2), был основан этим последним, который как раз в 264 г. взял этрусский город Воль-синии: хотя упоминаний об этом нет, но, возможно, он во время военных действий обращался с настойчивыми просьбами и даже заклинаниями к богу, о котором Варрон (L. L. 5, 46) говорит, что это был главный бог Этрурии (deus Etruriae Princeps). Но этот статус, возможно, был следствием приблизительного звучания? В самом деле, Этрурия не знает Вортумна. За пределами Рима упоминания о нем встречаются лишь в очень редких надписях в Умбрии (Tuder), в Апулии (Canusium), на Адриатике (Ancona), южнее Альп (Segusio). А в Этрурии никаких упоминаний нет. С другой стороны, богиня Вольсиний, имела имя близкое, но другое, в котором можно заметить начало названия города: она — Veltune — возглавляет изображенную на зеркале сцену с гаруспиками. Римляне латинизировали это название, изменив окончание, и слово получило форму Voltumna. В 427 г. Тит Ливий упоминает совещания этрусской конфедерации «в святилище Вольтумны» (4, 5, 7–8). Не произошло ли (вследствие сходства звучания имен) уподобление уже существовавшего ранее вполне латинского бога богине, которую хотели обрести: богине врагов-этрусков, — т. е. совмещение национального бога, олицетворяющего природные метаморфозы, связанные со сменой времен года, с богиней Вольсиниев? Это объяснило бы и точное функциональное значение бога, которое не слишком подходило божеству «покровителя города», а также двойственность его понимания римлянами: ибо, хотя они говорили, что Вортумн имеет этрусское происхождение (и особенно упорно отстаивали это мнение в окружении Мецената), тем не менее, в других случаях они утверждали, что он восходит ко временам, предшествовавшим появлению этрусков в Риме. Честь создания в городе древней статуи этого бога, которая стояла на vicus Tuscus (Тусской улице) на выходе с Форума, сразу за храмом Кастора, приписывали человеку, принадлежавшему к племени осков — Мамурию Ветурию, меднику Нумы, изготовлявшему щиты анцилии (ancilia; Проперций 4, 2, 59–64). Варрон (L. L. 5, 74) его относит — вместе с Квирином, Опс, Флорой и др. — к «богам третьей функции», введение которых он приписывает Титу Татию. Как бы то ни было, будучи местным божеством или рано натурализованным, он пополнил число богов-покровителей, которым поклонялись ежегодно. Очевидно, намекая на жертвоприношения, которые он получает, он сам говорит устами Проперция (там же, 13–18): «Это для меня синеют грозди раннего винограда, а колосья наливаются млечным соком. Здесь ты можешь видеть нежные вишни, осенние сливы, ягоды шелковицы, краснеющие на солнце лета. Сюда приходит выполнять свой обет садовник, принося венки из плодов — плодов, которые нехотя приносит грушевое дерево». Как мы видим, Вортумн не был абстрактным олицетворением течения времени. Его временами года были сочные и красочные сезоны — лето, осень, autumnus, откуда, возможно, взят последний слог его имени. Он был полностью готов преследовать и завоевать «нимфу» Помону в любовном романе Метаморфозы (I, 4, 623–771).3. Места
Покровительство, оказываемое богами местам, не менее важно для общества, чем покровительство, которое они оказывают временам. В Риме Янус стоит «на пороге» и места, и времени. Два божества — непоколебимые (pertinaces), соседствующие в его храме на Капитолии с Юпитером О. М. (а до них, по-видимому, два соответствующих аспекта Юпитера) — совместно обеспечивают Риму долговечность и стабильность. Наконец, участки земли, связанные с человеком, имеют своих покровителей — так же, как год, как солнцестояние, как особые дни месяца. Но только в отношении мест существует такое единство концепции, какого не было у времен, и которое отмечено обобщающим именем Лары (Lares)[411]. В общих чертах, древнейшие римляне разделяли ближнюю землю, которая одна только их и интересовала, на два больших региона — смежных, а иногда наслаивающихся друг на друга: это сфера, где обычно люди были властителями, и сфера, в которой они не чувствовали себя хозяевами, ощущали неуверенность. Первая сфера была четко разграничена. И в ней действовали разнообразные лары. Во второй сфере действовали различные боги, нечетко охарактеризованные, как и сама эта сфера. В частности, там действовал Фавн. Конечно, не следует пытаться выяснить (как это сделал, например, Виссова), какой вид лар был изначальным. В религии — как общественной, так и частной — есть один Лар и лары, непременно во множественном числе, причем в единственном числе существует только Lar familiaris. Лары властвуют над любым участком земли, которым один человек, либо группа людей, либо всё общество в целом, пользуются долго, регулярно, либо в неких важных случаях. Это частные поля и римские земли; это дороги, перекрестки, дома, кварталы, весь город, а также, в случае сражений, если судить по формулировке обетования, то и поле битвы, и даже, в случае морского плавания, — море. Засвидетельствованное без ротацизма в форме Lases в песнопении арвальских братьев, это имя не имеет ясной этимологии (ед. ч. Lar, множ. Lares), и его сближение с Larenta (Larunda) не представляется достоверным[412]. Уже давно было отмечено, что, в отличие от Пенатов (Penates), при которых всегда стоят слова dii, diui, слово Lares — не прилагательное, а обращение. Греки, у которых не было точного термина-эквивалента, приблизительно переводили его как ηρωες, а иногда как δαίμονες. В сельском или городском доме лар (или лары) охотно ассоциируются с другими покровителями — Penates, но, в то время как Пенаты специально покровительствуют хозяину и его близким, Лар защищает весь народ, всех людей без различий — и свободных, и рабов, всю familia, откуда и имя Lar familiaris (но, скорее, Lares Familiares — семейные Лары). Впрочем, по-видимому, — это общая черта: независимо от места лар должен защищать там всех людей, кем бы они ни были. Люди интересуют его как обычные обитатели или пользователи его владений. Вследствие этого и класс рабов, и класс свободных людей — нашли в этом культе прибежище религиозного характера, а иногда и элемент политической власти. В самóй домашней жизни главное значение лара — локальное. Начиная с последнего века Республики он станет синонимом дома, жилища. И это обычное его значение проявляется в различных обстоятельствах: приходя в свою виллу, свой сельский дом, pater familias первым долгом приветствует своего Lar familiaris (Марк Порций Катон. О Земледелии, 2). Персонажи Плавта молятся ему, отправляясь в путешествие (Хвастун, 1339), либо они собираются встретиться с другим Ларом, наведаться в другой город, другое государство (Merc. 836–837). И в это же время они взывают к ларам дороги, прося их о покровительстве — «чтобы вы [лары] сохранили меня» (ibid. 865). Они совершают в честь Лара жертвоприношение внутри дома — quum inrto aduenero, если кто-то из членов семьи, которого считали погибшим, возвращается домой (Канат, 1206–1207). Лару молятся, устраиваясь в новом доме, ut nobis haec habitatio bona fausta felix fortunataque euenat (Три монеты, 39–41). Молодая жена кладет один as (монетку, которую она держит на ноге) на алтарь Lares familiares (sic) и еще один as, который был у нее в кошельке, она кладет на перекрестке — на месте культа ларов данного квартала (Варрон в Non. 852 L), отмечая таким образом два места своего вселения. Великий уход, каким является смерть, сопровождается жертвоприношением умилостивительной жертвы в честь Lar familiaris (семейного Лара; Цицерон. О законах, 2, 55). В прологе к Аулуларии[413], семейный лар резюмирует в двух глаголах свои функции: hanc domum iam multos annos est quom possideo et colo[414]. В сельской местности местом культа ларов (собственно, покровителей земледелия) является перекресток — compitum. Здесь происходит синтез полей, смежных частных владений, всего округа, который здесь объединяется для некоторых совещаний (Isid. Etym. 15, 2, 15). Здесь же, по-видимому (как это нередко бывает в народном творчестве), общество оказывается в щекотливой ситуации контакта с «глушью», с опасными духами, охотно появляющимися на пересечении дорог. Там построены небольшие башни, имеющие столько входов, сколько поместий находится поблизости. На краю каждого из поместий напротив башни построен алтарь, так что каждый владелец может совершать жертвоприношение, стоя на своей земле. Там отмечают Компиталии — праздник, не имеющий закрепленной за ним точной даты. Обычно празднество происходило в самых первых числах января — во всяком случае, вскоре после декабрьских Сатурналий. Введение этого деревенского праздника приписывают царю-цензору Сервию Туллию: вероятно потому, что ритуал, эквивалент которого описан в ведических книгах, включает примитивную форму переписи. Дионисий Галикарнасский, повествуя об учреждении празднества и описывая часовни на перекрестках (4, 14, 13), отмечает лишь следующий обычай: «Он издал закон, повелевающий владельцам сопредельных владений каждый год совершать жертвоприношение в честь Ларов Компитальных (Lares Compitales), причем каждый дом должен был приносить свои лепешки». Кроме перечисления домов было еще одно, где указывались люди, причем рабы вносились в список наравне со свободными людьми, как это всегда было во владениях ларов. Так, Павел Диакон указывает, что в часовне на перекрестке (у Макробия: перед дверью каждого дома) подвешивались мячи (pilae), а также женские и мужские фигурки (Effigies; Макробий, I, 7, 34 maniae), причем число мячей соответствовало числу рабов, а число фигурок — числу свободных людей. Праздник представлял собой очищение (Prop. 4, I, 24). С помощью мячей (pilae) и мужских фигурок (maniae) каждый человек «искупал свою вину». Считали даже, что это было замещением принесения в жертву людей. Этих двух самых известных примеров достаточно для иллюстрации общего характера ларов, о которых Виссова, исправляя Джордана, уже в 1864 г. говорил, что «не существует ларов отдельного человека или групп людей, что представление о ларах всегда связано с каким-либо местом». Однако необходимо упомянуть еще и третий вариант: это Лары государственные (Lares Praestites) самогó Рима, т. е. земли, на которой стоял город и которой пользовались его жители. Им посвящен 51-й «Римский вопрос», а также блестящий фрагмент Фаст (5, 129–148). Изображение на одной монете подтверждает и иллюстрирует эти тексты, которые, по-видимому, оба принадлежат Варрону. Эти Лары изображены в виде двух юношей, вооруженных копьями, одетых в козьи шкуры и сопровождаемых собакой. Что бы ни говорили, но в этом изображении не всё — греческое. Весьма вероятно, что эти стражи и их собака охраняли Рим — подобно тому, как Престота охраняла Игувий. В изобретательном наборе примеров неверных этимологий Овидий дает им следующую характеристику:«Если последователи Хрисиппа полагают, что существуют такие низшие демоны, которые по велению богов карают нечестивцев и преступников, то, по мнению этих римлян, Лары — такие же демоны-мстители, вроде Эриний, надзирающие за жизнью и домом человека»[416].Противостоящие в каком-то смысле спокойным ларам Фавн и Сильван не вполне отделимы от них. А как же могло быть иначе? Представляется, что эти боги — имя Siluanus достаточно понятно — властвовали над землями, менее освоенными человеком, но достаточно доступными, чтобы люди ими заинтересовались и могли их использовать. Это, конечно, не глушь, не terrae incognitae — чужие земли с их неизвестными опасностями[417], — а близлежащий лес и даже поля, не входящие в черту эксплуатируемых владений: как бы единый мир с его сюрпризами, страхами, запахами, напоминающими о течке; зéмли, обладающие скрытыми способностями плодородия. Это — сельские земли, более дикие, чем земли ларов, и характеризующиеся своей противоположностью городу: Faunus — agrestis (Ov. F. 2, 193; 3, 315 etc.) во всех оттенках значения этого слова. Однако крестьяне знают, как с помощью жертвоприношений и с некоторыми предосторожностями использовать этих диких богов, которые увеличивают численность их скота, оплодотворяют их поля и предоставляют им лесные пастбища[418]. Придет время, когда Сильван покорно позволит включить себя в группу богов-покровителей, куда уже вошли Пенаты и Лары. Faunus Nympharum fugientum amator из очаровательной оды Горация в не меньшей степени приручен, с его зимней ярмаркой (Гораций, 3, 18):
«…Катон в своих Комментариях к гражданскому праву так объясняет это слово: mundus обязан своим названием небесному своду — mundus, находящемуся над нами. Действительно, как я узнал от тех, кто туда входил, mundus имеет форму, подобную той, которую имеет другой mundus. Что касается его нижней части, которая как бы посвящена богам Манам, то наши предки решили, что она должна всегда оставаться закрытой, за исключением дней, указанных выше. Они считали эти дни благочестивыми по следующим причинам: в то время, когда тайны религии богов Манов как бы выносились на свет и открывались, они хотели, чтобы в эти моменты не совершались никакие официальные действия. Поэтому в эти дни они не начинали боев с врагами, не мобилизовали войска, не проводили народные собрания (comitia), т. е. не занимались никакой официальной деятельностью, кроме случаев крайней необходимости».Некоторые ученые — Латте, мадам Луиза Банти — подчеркивали, что на практике в те века, о которых у нас есть сведения, эти предписания не выполнялись, в том числе в отношении народных собраний (в календарях три дня отмечены знаком C[omitialis]). Однако это не может служить основанием для того, чтобы оспаривать теорию: Фест, т. е. Веррий Флакк, говорит в прошедшем времени — в имперфекте, — указывая тем самым на то, что обычай не сохранился в чистом виде. С другой стороны, выражение, которым он характеризует положение вещей, требовавшее трижды в год открывать mundus, интересно не только тем, что он говорит, но и тем, о чем умалчивает: quo tempore ea quae occultae et abditae religionis deorum Manium essent, ueluti in lucem quamdam adducerentur et patefierent[429]. Здесь и речи нет о том, чтобы массовым образом извлекать умерших, что происходит в другое время — в февральские Фералии, во время «кризиса» конца зимы. Речь здесь идет только о том, чтобы неким образом открыто выставить напоказ темные тайны, которые мы, к сожалению, не в состоянии определить. Фраза Варрона, которую сохранил Макробий (I, 16, 18) говорит о том же: «mundus cum patet, deorum tristium et inferum quasi ianua patet»[430]. При этом не указывается ни то, что происходит, ни то, что появляется в этих очень узких дверях. Наконец, в другом объяснении Макробия (ibid. 17) уточняется, но по-гречески, что опасность заключается, скорее, в спуске, чем в подъеме: не следовало начинать войну, когда mundus был открыт, так как он был посвящен Диспатеру и Прозерпине, а также потому, что считалось благоприятнее отправляться сражаться, когда пасть Плутона закрыта. Невозможно реконструировать то, что было непонятно уже самим нашим информаторам, и о чем они, в общем, очень мало сказали. Этимология здесь не помогает: слово mundus не поддается объяснению через индоевропейский язык. Пенаты получили свое имя — di Penates — от особого места: penus, продуктовая кладовая. Однако поскольку римляне не слишком заботились о хорошем состоянии или обилии продуктов, а следили лишь за благополучием дома и его жителей, весьма возможно, что penus в этом производном слове следует понимать как что-то самое личное, самую интимную часть дома, находящуюся в его глубине. О таком значении свидетельствует родственное наречие, наверняка древнее, — penitus, а также присутствие этого корня в словах penetrare, penetralia[431]. Во всяком случае, именно из этого теоретического «центра» исходит их деятельность. Очаг — это одно из тех мест в доме, где люди легче всего вступают в контакт с богами. Недостаточная четкость собирательных понятий Lares и Penates привела к тому, что эти группы конкурируют или их смешивают, путают. Так, Сервий (Комм. к Энеиде, II, 211) говорит: «жертвенник богов-пенатов — это очаг», а Вергилий, напоминая о penus (кладовая), даже метонимически употребляет их имя вместо focus (очаг): «благовонья курили пенатам» (Энеида, I, 703). Однако Катон (О земледелии, 14), Плавт (Три монеты, 139) и другие авторы приписывают тот же самый очаг лару или идентифицируют его с семейным Ларом. Правда, оба понятия действительно весьма близки: одно обозначает место, а другое — сооружение, находящееся в этом месте. Здесь не обходится без третьей конкурентки — Весты, хотя ее редко называют прямо. Может быть, дело в том, что она сначала принадлежала, скорее, к общественному культу. Пенаты же они наверняка выдвинулись из приватного культа в публичный, где в эпоху Республики не играли большой роли. Встреча Весны с di penates (богами-пенатами), тем не менее, создала связь. Цицерон с полным основанием скажет (О природе богов, 2, 68): «Почти ту же власть [Весты] имеют и боги-пенаты». И именно в храме Весты (где, однако, имелся penus) развилось понятие Penates populi Romani. Среди святилищ, сгоревших при Нероне во время великого пожара, Тацит указывает на «святилище Весты с Пенатами римского народа» (Анналы, 15, 41). То, что Пенаты находились в очаге, подтверждается одним обрядом. Перед каждой едой, когда семья собирается вокруг стола, на очаг ставится полная миска patella, либо часть еды бросают в огонь — для божеств, которыми могут быть только Пенаты. Присутствующие молчат до тех пор, пока раб не заявит, что «боги» удовлетворены (Сервий. Комм. к Энеиде, 2, 469). Позднее они получили часовню в атриуме, что не помешало, при распределении частей дома между богами, отвести Пенатам culina — кухню (Сервий. Комм. к Энеиде). Виссова справедливо отметил, что (в отличие от Lares) имя Penates требует, чтобы перед ним стояло существительное «боги», т. е. penates — прилагательное. Их личность совпадает с местом их локализации. Они — те, которые принадлежат penus, подобно тому, как Arpinates — это граждане Арпиев. Римляне в течение долгого времени довольствовались этим обозначением, но затем они стали считать пенатами всех богов, мужского и женского рода, которых чтили в доме, независимо от причины поклонения. Сервий говорит (Комм. к Энеиде, 2, 514): penates sunt omnes dei qui domi coluntur[432]. Так развилось понятие, о котором свидетельствуют знаменитые фрески Помпеи: каждый хозяин дома мог свободно выбирать для себя в пантеоне богов тех, кого хотел иметь в качестве богов пенатов (di penates), и это слово обозначало уже только функцию, которую можно было предложить самым различным кандидатам, в том числе самым знатным — таким, как Юпитер, Венус, Фортуна, — без каких-либо ограничений. Виссова заметил, что ритуальная клятва магистратов, которые должны были клясться Юпитером и богами Пенатами (а в эпоху Империи еще Гением правящего императора и его предшественников, которые уже стали богами), однажды в Лузитании встретилась в формулировке, преобразованной следующим образом: Juppiter O. M. ac diuus Augustus ceterique omnes di immortales[433] (CIL. II, 172). С другой стороны (и, быть может, это связано с незасвидетельствованной особенностью древней концепции), форма «чета, пара» нередко встречается в различных вариантах расширенных формулировок. На фресках Помпеи чаще всего боги распределены по группам, причем в таких разнообразных сочетаниях, что они «пенатизируются». Что касается Penates publici, когда впервые в III в. римское государство воздвигло в их честь отдельный памятник на склоне Велии, то они там были изображены как двое юношей наподобие Диоскуров. Дионисий Галикарнасский видел их своими глазами (I, 68, 1): «…В этом храме помещены изображения троянских богов, которых могут видеть все. При них есть надпись, указывающая, что это — Пенаты. Это двое сидящих юношей, держащих копья. Это — древнее произведение». На многих монетах I в. изображены головы Диоскуров с надписью D(i) P(enates) P(ublici). Из этого не следует делать вывод, что Penates publici — это Диоскуры. По-видимому, изображение было заимствовано у этих богов. Однако чтобы такое было возможно, должно было быть в них нечто, что ориентировало на греческих близнецов. Возможно, что это просто ассоциация с парой[434]. Однако Варрон (L. L. 5, 59) категорически возражал, не допуская мысли, что боги на Велии действительно могли быть Пенатами. Он использовал это имя только в тех случаях, когда речь шла о таинственных предметах, хранившихся в penus Vestae — столь таинственных и недоступных, что древние выдвигали на их счет различные предположения, которые здесь для нас не представляют интереса. Дионисий Галикарнасский называет их «троянскими богами». Они действительно фигурировали в троянской легенде: Эней якобы принес их из Азии, обеспечив преемственность и даже идентичность двух городов. Промежуточные этапы, о которых известно из других преданий и с которыми должна была считаться новая легенда, — Ланувий, Альба[435], — разместились между Энеем и Ромулом. Таким образом, Рим почувствовал себя непосредственно затронутым Пенатами этих городов или, по крайней мере, Пенатами первого города — единственного выжившего. Рим считал их — наряду с местной Вестой — идентичными своим Пенатам (Варрон, L. L. 5, 144; Плутарх, Cor. 29, 2); и каждый год, вступая в должность, консулы отправлялись в соседний город, чтобы совершить жертвоприношение в честь этих божеств (Макробий, 3, 4, 11; Сервий, Комм. к Энеиде, 2, 296, etc.)


Глава IV ЧЕЛОВЕК
1. Живой
Во всякой религии, в любые времена, существуют группы представлений, которые несут в себе и влекут за собой противоречивость: и потому, что они по своей природе подвижны (так что применимы только к невидимой части живого существа, человека), и потому, что они легко сочетаются с чуждыми представлениями, которые и сами неустойчивы. Главная из этих групп представлений относится к жизни человека — физической, эмоциональной и рассудочной, — а также к его выживанию. Что заставляет человека оживляться, чувствовать, думать? Из чего состоит и чем сопровождается «я» каждого человека? А когда он умирает, что остается от частей и от спутников его «я»? Этнографы знают, что выявить «психологию» какого-нибудь американского или африканского племени — это сизифов труд. Стоит только вообразить, что удалось выяснить, сколько душ приписывается человеку, определить их соотношение и названия, как тут же обнаруживается некий языковой оборот или рассказ, где те же самые слова употребляются в другом значении, а какая-нибудь душа исчезает. Этнографы — миссионеры или светские ученые — также знают, как им трудно не внести в свои наблюдения категории, присущие их собственной религии или вычитанные в учебниках, с которых они начинали свои научные занятия. Что касается представлений об умерших, то незачем даже покидать Европу: цветы на могилах в начале ноября являются прекрасным доказательством того, что наше воображение до сих пор помещает под могильный камень что-то из наших верований, касающихся Чистилища или Рая. Так же обстояло дело и в Риме, причем, по-видимому, с самых древних времен. Пытаясь навести полный порядок в материалах и хронологии, мы сталкиваемся с тем, что противоречия, которые там обнаруживаем, заранее обрекают нас на то, что выводы наши будут произвольными. Первое понятие, которое мы встречаем, — это понятие Genius. Его исследователи допустили немалую неосторожность. Поскольку было произнесено слово «душа», необходимо прежде всего отметить, что ни один из терминов, которыми мы могли бы выразить наши представления о ней, — не имеет религиозного значения. Это такие слова, как animus, anima, mens, ingenium. Когда Плавт пишет по поводу какой-либо трапезы: facite nostro animo nolup[436] (Cas., 784), — или же о многочисленных любовных историях Юпитера: recte facit, animo quando obsequitur suo[437] (Amph., 995), — то удовлетворяемый таким образом animus — это не больше, чем возвратное местоимение. Однако в веселых выражениях Плавта animus имеет дублет Genius. Тунеядцу, живущему за чужой счет, тщетно ждущему пирушку, на которую он рассчитывал, строптивая жертва отвечает: hic quidem Genium meliorum tuum non facies[438] (Stich., 622); Genio suo multa bona facere — значит «много тратить на наслаждение» (Pers., 263); а скупой Эвклион, пришедший в отчаяние о того, что не получит обратно свою шкатулку с деньгами, — почти сожалеет о том, что так ревностно ее хранил: «Я сам потерпел урон, отнял ее у себя, у своего духа и у своего Гения, а теперь другие используют ее для своего наслаждения — за мой счет» (Aul., 724–726). Чем же здесь является Genius? Это душа, моя душа? Однако тунеядцы у самого Плавта охотно используют слова Genius meus, говоря о том, кто их кормит: «твоего сына и моего Гения» (Capt., 879); «есть кто-то, кто мне укажет, где Федром, мой Гений?» (Curc., 301); «держу за руку своего Гения» (Men., 138). Значит, это источник жизни? Но здесь примешиваются моральные понятия: «поскольку я молю тебя десницею [моею] и Гением твоим, а также твоей верой…», — читаем у Теренция (Андрия, 289). Или это ангел-хранитель? Вспомним начало определения Горация (Послания, 2, 2, 183): «дух Гений, попутчик с рождения, который направляет звезду [нашу]». Умирает ли он вместе с человеком? Да, если верить продолжению определения Горация — «бог он природы людской, умирает [одновременно с каждым человеком]». Нет, если прислушаться к его современнику Овидию (Ov. F, 2, 545), который говорит об Энее: «он духу отца приносил ежегодные дары». Не следует пытаться уменьшить противоречия: они — внутри самого материала, они ожидаемы, и не заставляют усомниться в интеллекте римлян. Уже с самых древних времен этимология слова, имеющего ясный корень, но непрозрачную суффиксацию, вызывала множество споров, касающихся сущности Genius, и дискуссии не прекратились, вовлекая и современных ученых. Имеет ли корень gen- (gigno, а также архаическое geno[439]) в этом слове активное или пассивное значение? Значит ли он «порождать» или «рождаться»? В обоих случаях: кто тот субъект, — который порождает или который рождается? Второй предмет споров, о котором уже говорилось выше, кроется в следующем вопросе: Гений существовал изначально в женщинах так же, как в мужчинах, или же он был присущ только мужчинам, поскольку женщины имели свою Юнону? Большинство авторов в последнее время — несмотря на прекрасный анализ Вальтера Ф. Отто (RE VII, 1912, 1157–1158) — считают, что объединение Гения и Юноны в пару, чету, относится к древним временам, и делают вывод (Латте в этом вопросе не вносит ничего нового по сравнению с Виссовой), что первоначально Гений обозначал «специфическую мужскую силу» («die spezifische Manneskraft»), «способность порождать», в противовес женской природе, — способности родить, которой покровительствовала Юнона Луцина. В таком случае, Гений — это тот, кто порождает (gignit). Подтверждение этому усматривают в названии супружеского ложа lectus genialis. Выше мы видели, какие причины побуждают, напротив, считать, что введение в это дело Юноны произошло в поздние времена, после Плавта. Мы также видели, почему не следует считать, что древнейшая Юнона покровительствовала только физиологическим функциям женщины. Что касается значения Гения (Genius — древнее существительное редкого типа), то нельзя быть уверенным, что оно активное. Сложное слово ingenium — тоже древнее, но не столь редкого типа, и оно имеет только пассивное значение. Однако наряду с ним существует глагол ingignere, имеющий активное значение «порождать». Так, высказываясь об инстинкте самосохранения, Цицерон говорит (О природе богов, 2, 124): tantam igenuit animantibus conseruandi sui natura custodiam[440], а говоря о другом инстинкте, считающемся более благородным (Fin. 2, 46), он использует слова: natura cupiditatem homini ingenuit ueri uidenti[441]. Более материалистично пишет Лукиан (6, 439): herbasque nocentes rupibus ingenuit tellus[442]. И, тем не менее, ingenium — это не то, что заставляет родиться, вселяет, quod ingignit, а свойство, врожденное качество (или характерная черта, темперамент), quod ingenitum est. Если бы слово Genium существовало как неодушевленное, то оно также было бы — без оттенка значения, имеющегося в in-, — тем, что должно быть порождено («quod genitum est»), физической и моральной суммой того, что только что родилось. Как одушевленное, Гений — это то, что персонифицировано и в значительной степени обожествлено. Отделенное от имени Юноны и с исправленной этимологией имя Genius вполне соответствует тому, чем и является. Так, Цензорин (3, 1) говорит: «Гений — это бог, под чьей защитой каждый рожденный живет». Справедливо отметил Отто (1159, I. 45 — 1160, I. 23), что если бы Гений был тем, «который рождает», то следовало бы ожидать его причастности к половой жизни, для чего немало поводов есть в языке авторов комедий, но этого никогда не случается, тогда как выражения типа Genio indulgere («предаваться Гению») часто используются, когда речь идет об удовольствиях, которые доставляет еда. Кроме того, Гений часто упоминается в тех случаях, когда речь идет о тунеядцах, живущих за чужой счет. Гораздо раньше, чем в праве выделилось юридическое понятие лица, в религиозных текстах в сходном значении встречается Гений. И опять-таки Отто (1158, II. 15–28) подчеркнул, что часть человеческого тела, образно связываемая с Гением, — это не фаллос, как утверждают некоторые авторы[443], а лоб: «лба (объявленного священным) Гению, откуда мы, молясь богу, касаемся лба» (Сервий. Комм. к Энеиде, 3, 607). Наконец, в празднике, посвященном Гению, нет ничего сексуального. Для каждого человека это — только день рождения, его dies natalis (Цензорин, 2, 3). Что касается lectus genialis, то здесь анализ Отто (1160, II. 23–40) менее убедителен. Это выражение не доказывает того, что ему приписывают. Текстов, предлагающих его объяснение — три: 1. Сервий (Комм. к Энеиде, 6, 603) пишет: «Собственно geniales можно считать (постели), подготовленные для молодоженов. Их так называют из-за рождения детей, a generandes liberis». 2. Павел Диакон (с. 226 L2): «genialis lectus — это брачное ложе, подготавливаемое при свадьбах в честь Гения, от которого оно получило свое название». 3. Арнобий (2, 67): «Когда вы выходите замуж, вы устилаете тогой постельки и взываете к Гениям ваших мужей». В объяснении Сервия Гений не упоминается. По-видимо-му, оно прямо соотносится с идеей плодовитости, заключенной в корне gen-; и, например, в текстах Плиния слово genialis употребляется как синоним слова fecundus[444]. Это, конечно, не древнее значение слова genialis, и весьма возможно, что два других текста, которые вводят Гений, опираются на подлинные обряды (in honorem Genii; maritorum Genios aduocatis[445]). Но что они доказывают? В то время, когда создаются материальные условия, рамки и опора рождений (а, следовательно, и Гения) в будущем, разве не естественно упомянуть о рождении того, кто будет действующей силой этого размножения (и потому почитают его Гения и взывают к нему)? Здесь Гений фигурирует вовсе не в качестве бога размножения, кем он никогда и нигде не является. Он выступает здесь, как всегда и везде, в роли обожествленной «личности» человека: такого, каким он пришел на этот свет, порожденный целым рядом других людей, у каждого из которых был свой Гений, и сам призванный порождать через своих сыновей другой ряд, каждый член которого также будет иметь своего Гения. Посвящение брачного ложа Гению данного представителя ряда людей и почести, оказываемые ему той, которая была избрана для продолжения ряда[446], понимается не в сексуальном смысле, а в смысле gens, продолжения рода и, следовательно, и Гениев. Отзвуки этого можно заметить в поэме, которую Тибулл (I, 7) посвящает Мессале в день рождения, т. е. в праздник его Гения. Перечислив военные подвиги этого триумфатора, поэт призывает Нил, Осириса, присоединиться к радости этого дня (стихи 49–56):«Иди сюда и прославляй вместе с нами его Гения игрой и танцами! Пусть у тебя закружится голова от потоков выпитого вина! Пусть благовония капают с блестящих волос бога, пусть его голову и его шею увенчают гибкие гирлянды! Да, иди сюда, бог этого дня, и я воскурю тебе фимиам, и я принесу тебе сладкие пироги, пропитанные медом Аттики! А ты, Мессала, пусть твои дети растут и добавят свои подвиги к подвигам отца, и пусть они окружают его, прославленного, когда он достигнет старости!»[447]Доказывает ли это пожелание, что Гений Мессалы предназначен для того, чтобы облегчить ему порождение детей? Отнюдь нет. Поэт желает ему только того, чтобы достойные дети пришли ему на смену в его роду, приняли эстафету от прославленного отца (tibi succrescat proles). Молодые жены, прежде чем начать исполнять свои функции, maritorum genios aduocant, — именно это они и делают. Если мой Гений, таким образом, одновременно или в соответствии с определенной точкой зрения, является личностью, которая возникла при моем рождении, моим двойником, имеющим мои качества и мои вкусы, и, в конце концов, существует отдельно от меня и охраняет меня, то вполне естественно, чтобы другие люди, связанные со мной какими-либо отношениями, его почитали. Так объясняется обычай, засвидетельствованный уже в комедиях, что раб клянется Гением своего хозяина (Плавт. Пленники, 977, etc.), и тем же объясняется тот факт, что весьма часто встречаются надписи, в которых высказан обет раба Гению хозяина. И было бы весьма странно, если бы Гений имел сексуальное значение. В совершении культовых церемоний, посвященных этому Гению, участвует вся семья: «когда все приличествует, чтобы мы вместе пышно праздновали», — говорит один pater familias в день рождения (Мошенник, 163). Но это участие — упорядоченное: первым приступает к ним главное лицо (Цензорин, 2, 3). У классических авторов, на фресках Помпеи, Гений нередко представлен в виде змеи — змеи, которая, конечно, любит появляться на брачном ложе (Цицерон. Deu. I, 36; Jul., Obs., 58), хотя змея, породившая первого Африканца (Gell., 6, I, 3), — это, скорее, Юпитер. Но здесь явно заметно греческое влияние. Такое понятие требовало дополнения. И это дополнение происходило двумя путями: 1) слиянием с другими понятиями и 2) распространением на всё более обширные сферы. Прежде чем аннексировать понятие δαίμων, δαίμων ογαθός, Гений был сопоставлен с Ларами, и его даже путали с самым известным членом этой группы. Тексты многих надписей сближают Гения и Ларов, Genio и Laribus. До крайности доходит Цензорин (3, I), который говорит, что «многие древние авторы, и в том числе Граний Флакк — в книге De indigitamentis, которую он посвятил Цезарю, — якобы утверждает: “он же есть Гений (дух) и Лар”». Во времена, которые не поддаются точному определению, естественная аналогия привела к тому, что даже самим богам был приписан Гений: разве они не «личности», как люди, и (хотя в мифологии они бессмертны) разве мифы, находящиеся под греческим влиянием, не приписывают им рождение? Самый старый пример нельзя считать слишком древним, так как он относится к 58 г. до н. э., однако обычай, о котором идет речь, наверняка более ранний: «Если кто-то в этот храм принесет вещь, пожертвованную Юпитеру Либеру или Гению (духу) Юпитера, пусть это будут священные меха и шкуры», — читаем мы в конце законов храма Юпитера Либера в Фурфе (CIL, IX, 3513). В эпоху Империи примеров больше (это эпиграфические и литературные свидетельства) — вплоть до Гения Приа-па у Петрония (гл. 21) и до Гения Юноны в часовне Марциана Капеллы. Эта Юнона составляет конкуренцию Гению в случае богинь. Но юридический дух на этом не останавливается: «моральным субъектам» — каковыми являются семьи, государство, провинции, коллегии, военные части — приписывают Гения. Этот Гений — просто покровитель, поскольку здесь уже не идет речь о таком существенном событии, как рождение; однако, по-видимому, имеется в виду выражение оригинальности, личности, иногда корпоративного духа — как характерной черты этих различных коллективов. Самый примечательный — это Гений самого города Рима, который, правда, «родился» и имел свой день рождения (dies natalis). Как мы видели выше, комментатор Вергилия (Энеида, 2, 351) говорит, что на Капитолии был щит, на котором было написано: Genio urbis Romae siue mas siue femina[448]. В 218 г., после череды ужасающих знамений, между Требией и Тразименским озером — пять больших жертвенних животних были принесены в жертву Гению (Liv., 21, 62, 9), и этот Гений мог быть только Гений римского народа (Genius populi Romani; или его эквивалент), о котором неоднократно говорится в дальнейшем, причем всегда, когда речь идет о чудесах (Дион Кассий. 47, 2, 3; 50, 8, 2). Он имел тогда храм на Форуме, вблизи от храма Согласия, а в эпоху Империи многие календари (CIL. I2 214, 245) предписывали совершать жертвоприношение Публичному Гению (Genio Publici) на Капитолии, а Аполлону — на Палатине. Присоединенный таким образом к великим Сущностям, он пользовался популярностью, ассоциируясь с Гением государя. Еще дальше от строгого понятия, но под воздействием отождествления Гения с Ларом сформировалось представление, согласно которому у каждого места есть свой Гений: «нет ни одного места без Гения», — говорит Сервий (Комм. к Энеиде, 5, 95). Однако оно сразу же так распространилось, что у дверей, терм, хлевов, рынков и у любых закоулков появился в каждом случае свой Гений. Но зато, вопреки другому широкому определению того же автора (Там же, I, 302: «Гением древние называли природного бога каждого места или вещи (rei), или человека»), по-видимому, все же res в значении материальных объектов не персонифицировались. В своем ограниченном значении, хотя Гений людей был всем знакомым понятием, до вмешательства философов и авторов, испытавших греческое влияние, он не был понятием важным. Лары и Пенаты больше занимали умы римлян, и в их отношениях с богами Гений — сущность среднего значения, которая могла быть посредником, — не играет никакой роли. Ни один полководец не обращается к Гению на поле боя, ни один магистрат, ни один оратор, даже в бурных политических дебатах, не упоминают его. Всё происходит в прямых отношениях между человеком и богами: uos ego obsecro («вас я заклинаю»). Религиозная наука не вдавалась в тонкости по поводу этого эго — постоянного партнера богов, взаимодействовавшего с ними душой и телом, кровью и волей, дыханием и мышлением; либо, если бы это эго подверглось анализу в древних рассуждениях (что весьма маловероятно), — то эти спекуляции были бы перекрыты и преобразованы знамениями, понятие о которых шло из Греции. А религия ничего такого не сохранила. Такая сдержанность в вопросах изучения человеческого существа, это нежелание предаваться словесным ухищрениям — характерные черты римлян. Однако эта сдержанность в не меньшей степени присуща ведическим индийцам, хотя они и склонны к великой мечтательности. В то время как их иранские собратья в свете дуализма выделяют в каждом человеке его фраваши, его Даэна[449] и т. д., поэты и специалисты по ритуалам из Ригведы, так внимательно относящиеся к деталям мира богов, нисколько не интересуются невидимой структурой человека. В языке их религии — так же, как в языке римской религии — лексика, относящаяся к душе, весьма скудна и незначительна. К Варуне взывает или восхваляет Индру человек в своей целостности[450]. Поэтому отнюдь не следует приписывать скудость этой главы, посвященной римской теологии, какой-то неспособности римлян к анализу и воображению. Скорее, дело в том, что в центре Лация (как и на пороге Индии) завоеватели были целиком обращены к земному миру, полностью проявлялись в честолюбии, в действиях, для которых более важна была дисциплина души, чем ее знание, и практика великодушия была важнее, чем изучение духа.
2. Умершие
Что остается от человека после смерти? То, что можно заметить в римских верованиях из существовавшего в них до влияния этрусков и греков, — примитивно и неясно. Но и здесь не следует забывать, что и в ведической Индии дело обстоит не лучше. Для брызжущих жизнью ариев, а также и для латинских солдат-пахарей, занятых трудом из поколения в поколение, потусторонний мир малопривлекателен, лишен очарования. Вплоть до самоотверженности героев — только земной мир имеет значимость, а также слава, которая сохранится в памяти людей. Во всем остальном царят весьма приблизительные представления. Отношения между умершими и живыми лишены задушевности и доверия, тем более, что, согласно римским верованиям, умерший человек, как бы его ни любили, прежде всего — источник осквернения. Об этом свидетельствует двойной смысл таких слов, как funestus (скорбящий, оскверненный): familia funesta не только живет в трауре и горе, она, кроме того, осквернена, испорчена и заразна до тех пор, пока не обретет снова состояние familia pura (чистая семья)[451]. Многие функции священнослужителей требуют от них быть Patrimus и matrimus, Αμφιθαλής, т. е. иметь живых отца и мать. Умершие, по сути дела, неактуальны. Как удачно выразился Латте, «они вообще не участвуют в жизни людей; как ни велико влияние обычая старших (mos maiorum) в Риме, оно касается только воспоминаний о поступках живых, но не имеет отношения к деятельности умерших. Знаменитая клятва Демосфена, когда он поклялся воинами Марафона, была бы невозможна в Риме. Конечно, люди верили в то, что они властны отомстить за пренебрежение к семейному распорядку или за нарушение его правил, но в повседневной жизни никто не молится таким богам, как Diui Parentes (Боги Родители) или Manes (Маны). У римлян нет представления ни о царстве мертвых, о потустороннем мире, в котором они живут, ни о главе этого царства. Всё это развивается только под влиянием греков и частично под влиянием этрусков. Впечатляющая церемония процессий похорон (pompa funebris), в котором фигурируют умершие из gens со знаками отличия своих функций, связана не с культом мертвых, а с задачей дать прочувствовать в этом мире славу семьи. Эти разнообразные факты не должны наводить на мысль, что в Риме культ предков играл основополагающую роль». Когда Цицерон во втором письме книги О законах, 45, пишет «теперь… остается о законе умерших», то дальнейший текст показывает, что он думает только о февральских праздниках и о предписаниях — действительно скрупулезных, — касающихся погребения[452]. Лексикон в этой сфере неустойчив. Самое употребительное выражение, которое мы видим в текстах, — di(u)I Manes, либо просто Manes — несмотря на то, что его избегают Плавт и Теренций, и хотя в эпоху Империи оно распространяется, — несомненно древнее. То, как его употребляют Лукреций (3, 52; 6, 760: дважды d. M.) и Цицерон, наводит на мысль, что это традиционное выражение[453]. Однако с ним конкурирует другое, весьма странное, выражение diui parentum (Fest. c. 338 L2 в одном царском законе), позднее исправленное на diui parentes. Слово Manes большинством римских эрудитов интерпретировалось как эвфемизм — «добрые боги» (ср. manus — «добрый» с этимологическим его антонимом — immanis), и это действительно самое вероятное происхождение. Что касается генитива parentum в diui parentum, то это имело в качестве последствия то, что первоначально на diui был перенесен весь вес понятия: не «божественные», а «боги», причем невозможно выявить, какая связь ощущалась между этими «богами» и parentes, или предками, для которых они были богами. Эти два наименования имеют поразительную общую черту: они — во множественном числе, и они собирательно обозначают скопление мертвых — концепт, напоминающий понятие Питара (Pitàrah) в Ригведе, которые также не имеютформы единственного числа. Даже когда — вследствие отклонения от своего значения — «di Manes» станет обозначением души одного отдельного покойника, парадоксально сохранится множественное число (что, отметим мимоходом, доказывает древность данного слова): будут говорить «(diui) Manes alicuius», а мы сами говорим в торжественных случаях о «mânes (дух умершего) такого-то». Если существует нюанс, то можно думать, что в выражении diui parentum более заметна семантическая связь с предками, тогда как Маны, скорее, обозначают особый класс существ. Так можно было бы объяснить тот факт, что diui Manes, по-видимому, иногда, кроме умерших, указывают еще на всё неясно понимаемое население потустороннего мира. Представляется, что в некие точно неопределимые времена одна из греческих концепций δαίμονες переориентировала римские представления о Манах. С выражением из Энеиды (6, 743) quisque suos patimor Manes — «каждый из нас терпит своих Манов» — господин Pierre Boyancé сопоставил последние слова Похвалы Турии (Laudatio Turiae): похоронного похвального слова в честь жены, произнесенного ее мужем во времена несколько более поздние — после Вергилия: te di Manes tui ut quietam patiantur atque ita tneantur opto — «я желаю тебе, чтобы твои боги Маны позволили тебе быть в покое и защищали бы тебя». По крайней мере в этих двух случаях, (а вероятно — и во многих других) di Manes отличаются от души. Они — «демоны»-покровители, а при случае и мстители, которых можно сравнить с личными демонами человека, встречающимися в рассуждениях греческих авторов, о которых упоминает Сервий, говоря о стихах Вергилия: «Когда мы рождаемся, мы получаем двух гениев, один из которых призывает нас к добру, а другой — толкает нас к злу». Но это, конечно, идеи, свойственные не только римлянам. Периоды в году, в которые живые специально занимались умершими, — это только Паренталии (в феврале) и Лемурии (в мае). Паренталии длились с 13 по 21 февраля: дни поминальные, или траурные (Ov. F, 2, 548 и 34). В это время магистраты не носили свои знаки отличия, храмы были закрыты, на алтарях не горел огонь, а также не заключались браки (Lyd. Mens., 4, 29; Овидий. Ov. F, 2, 533). Только последний день, который в календарях назывался Фералиями, был публичным праздником, тогда как первые восемь дней, по-видимому, посвящались частным ритуалам, хотя календарь Филокал 13 февраля указывает: Virgo Vesta(lis) parentat (CIL. I2, p. 309). Слово parentare, которое, по-видимому, означает «заниматься родителями», предполагает, что каждая семья в это время занимается своими умершими: animas placate paternas, — комментирует Овидий, которому мы обязаны почти всеми сведениями об этом празднике («ублажайте отчие души», Ov. F, 2, 527–564). Люди носят на могилы венки и устраивают небольшое пиршество: соль, хлеб, смоченный в чистом вине, немного фиалок. Во время этих девяти дней покойники встают из могил, бродят там и сям, едят то, что им подали (Ov. F, 565–566). По-видимому, они не используют эти короткие каникулы для того, чтобы беспокоить живых, и не приходят в дома. Не вполне понятно, что отличает Фералии от предшествующих дней, поскольку Варрон (L. L., 6, 13) характеризует их так: ferunt tum epulas ad sepulcrum quibus ius ibi parentare[454](ср. Овидий, 569: «День последний из них Фералий название носит»). Единственное отличие, которое можно отметить (Fest. c. 202 L2), — это, пожалуй, жертвоприношение овцы. Однако и у Варрона, и у Феста, по-видимому, речь идет об этимологической игре слов (a ferendis epulis, a feriendis pecudibus). Что касается публичных ритуалов, то от них ничего не осталось. Впрочем, в этот день окруженная девушками старуха совершала жертвоприношение в честь некоей Тациты, которая (по словам Овидия, 615), якобы, была Мать Ларов (Mater Larum; может быть, здесь — игра слов, на основе laruae). Милая побасенка, которую он рассказывает, не вносит никакой ясности. На следующий день после Фералий, 22 февраля, семья собиралась на совместное пиршество, которое называлось Харистии (Ov. F, 2, 617 и т. д.). Другой аспект умерших лежит в основе ритуалов Лемурий, 9-го, 11-го и 13-го мая, несмотря на то, что и в этом случае совершаются жертвоприношения на могилах (Ov. F, 5, 425–426). Предки, под именем лемуры, выходили из могил. Они были смелее, чем в феврале, и посещали дома, в которых некогда жили. Этим нежелательным гостям следовало противопоставить жесты и слова, способные их умиротворить и удалить. Овидий рассказывает (429–444):
Глава V СИЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
1. Третья функция
Множество богов занимаются плодами земли и особенно — зерновыми, когда они приближаются к созреванию, либо, когда уже находятся в распоряжении человека: Robigus, Ржавчина, — чтобы защитить в ответ на молитву фламина Квирина; Флора — чтобы способствовать их цветению; Конс — чтобы защитить их, когда зерно находится уже в хранилищах; Опс — чтобы гарантировать обильный урожай; сам Квирин, празднеством которого завершается время сушки зерна в печах. Но самая широкая и самая продолжительная деятельность характерна для Цереры, богини роста, которая осуществляет ее в тесном сотрудничестве с Tellus — Землей[458]. Их взаимодействие прекрасно описал Овидий (Ov. F, I, 671–674):Тебя, Анна Перенна, Панда, Латона, Палес Нереиды [и] Минерва, Фортуна и Церера.Следовательно, в Риме Палес определенно богиня, и называть ее для иллюстрации трудностей, которые якобы испытывали римляне в ясном и полном понимании своих божеств, — значит злоупотреблять предыдущими текстами. Однако Палес, тем не менее, вызывает интерес: она двойственна (или даже, может быть, было две Палес). В одном из фрагментов календаря Антия 7 июля указывается праздник Palibus II, тогда как праздник Парилии отмечается 21 апреля. Более того, в 1951 г. господин Jacques Heurgon напомнил, что в одном отрывке Варрона (R. R., 2, 5, 1) все манускрипты указывают: Palibus. В течение четырех веков издатели совершенно напрасно исправляли это слово самыми разными способами. Однако достаточно вернуть фразу Варрона в ее контекст, чтобы констатировать, что она расположена на сочленении двух рассуждений о скотоводстве: сначала собеседники говорили о мелком скоте, а затем стали говорить уже и о крупном скоте. Человеку, который пришел с опозданием и попал именно на этот момент (не зная, до чего дошел разговор), Варрон, естественно, в забавной интермедии, внушает мысль извиниться, отдав дань «богиням Палес», т. е., конечно, «двум Палес»: той, которая покровительствует мелкому скоту, и той, которая ведает крупным скотом: dum asses soluo Palibus. Такая интерпретация подтверждается планом книги Георгик, где третья Георгика посвящена скотоводству: она разделена на две строго равных части, одна из которых посвящена крупному скоту, а вторая — мелкому. В начале второй части, так же как и в начале первой, поэт взывает к Палес (I и 289), тогда как в песне, посвященной полевым работам, Церера упоминается только в начале, как и Вакх в песне о садах и виноградниках. Автор опирается на двойственность праздников 21 апреля и 7 июля. О летнем празднике нет никаких уточнений, а длинное описание, которое Овидий (Ov. F, 4, 721–786) дает весеннему празднику Parilia, касается только мелкого скота. Трактаты же, посвященные сельскому хозяйству, дают возможность понять, в чем дело. Эти две даты — время случки животных. Для овец Колумелла (О сельском хозяйстве, 7, 3) указывает: «Согласно почти всеобщему мнению, первый сезон для их спаривания — это весна: во время Парилий (tempus uernum Parilibus) — для тех овец, которые для этого созрели; для тех, которые в это время оягнились, подходит июль (circa Julium mensem)». Однако он рекомендует первый из указанных периодов, так как «ягненок, родившийся осенью, лучше того, который родился весной». Что касается коров, то, напротив, рекомендуется только один период (6, 2): их надо спаривать mense Julio. Среди других причин указывается, что это у коров — время течки, «naturalia desideria, quoniam satietate uerni pabuli pecudes (т. е. здесь это значит boues — быки) exhilaratae lasciuiunt in uenerem». Обряды следуют этим условностям: в обрядах 21 апреля, где речь идет только об овцах, участвует только одна Палес. В июльские ноны, когда принимаются в расчет другие овцы, и особенно коровы, обращаются к Palibus II. Так как Овидий не описал в стихах июльские праздники, мы не знаем, о чем тогда просили двух богинь; но, по-видимому, если иметь в виду весь скот, то просили приблизительно о том же самом, о чем говорится в обращенном к одной из них апрельском дистихе[471]: о стадах (greges). Следовательно, незачем отнимать у Палес праздник Парилии (из *Palilia: cp. Caeruleus из *caeluleus — «цвета неба, синий») и делать из нее — с помощью весьма маловероятной этимологии, за которую современные специалисты гораздо меньше заслуживают прощения, чем древние авторы (Fest. c. 328 L2), — богиню родов (parere, а также parire у Катона и Плавта): ритуалы и молитвы, описанные Овидием, в достаточной мере доказывают, что цель не ограничивается родами (partus); просят о полном и постоянном покровительстве стадам и скотоводству, о потенции баранов с неизбежными последствиями — увеличением поголовья, но также просят и о здоровье животных, пастухов и их собак, об удалении волков и южных демонов; об изобилии трав и воды, о хорошей прибыли, о большом количестве шерсти и молочных продуктов; но в первую очередь, поскольку Парилии — это очищение жертвоприношением (lustratio), просят об отпущении невольных грехов, которые пастухи и животные могли допустить по отношению к сельским божествам. Богиня пастухов — Палес — руководит всем тем, что обеспечивают Парилии, и всё это нельзя выводить из понятия partus. Средства очищения, хорошо описанные Овидием, разнообразны: это и вода, вылитая на заре на сытых овец, и почва загона, выметенная и политая водой, это листва, это гирлянды, подвешенные на овчарне, но в первую очередь — это костры, сжигающие разное дерево, а также костры из соломы. Через всё это быстро проходят люди и животные. По-видимому, именно в эти костры бросают fumigatio, характерное для этого праздника, которое весталки изготовили из трех составных частей (Ov. F, 4, 731–734) — из пепла зародышей телят, сожженных 15-го числа во время Fordicidia, из лошадиной крови и из стеблей бобов, освобожденных от своих их плодов. Обычно (может быть слишком легко) соглашаются с тем, что первые два элемента предназначены для того, чтобы вдохнуть в живых существ то главное, что присуще двум самым мощным видам домашних животных — рогатому скоту и лошадям: плодовитость и силу. Стебли бобов, освобожденных от плодов, не могут быть «адским» приношением, так как лемуры и другие духи больше всего ценят в бобах именно их плоды. Кроме того, ничто не указывает на такую ориентацию ритуалов. Возможно (и были отмечены такие элементы символизма у индийцев), что главным словом в выражении Овидия: culmen inane fabae[472] — является прилагательное inane, и что ожидается «уничтожение осквернения» с помощью симпатической магии этой сожженной «пустоты». Церемония включает также жертвоприношение богине, но это бескровная жертва: просо в виде зерна и пирогов, а также еще очень горячее молоко. Неизвестно, почему летописи выбрали Парилии в качестве dies natalis Рима: якобы Ромул основал свой город именно в этот день. Может быть, потому, что двух близнецов продолжали считать вожаками пастухов, кем они когда-то были в детстве? Может быть, дело в том, что звучание согласных, к которому современные ученые оказались более чувствительными, чем древние, сближало Палес и Палатинский холм — место, где был заложен Рим? Или же дело в том, что более древние отношения связывали Палес не только со здоровьем стад и пастухов, но и со здоровьем всего сельского общества? Во всяком случае, эта аффектация придала некий блеск в литературе сельскому празднику и побудила большинство древних авторов считать, что этот праздник возник раньше, чем был основан город. Что касается имени божества, то его этимология неясна. Тот факт, что калечили лошадь (curtus equus), чего требовал один из ритуалов, связь с легендой о близнецах и с расселением римлян — всё это побудило меня к тому, чтобы сопоставить это божество с фигурой ведической мифологии, о которой, к сожалению, известно очень мало: с Вишпалой, т. е. с *Pala vis или visah; а мы знаем, что vis — это принцип функции пастухов-скотоводов, а во множественном числе — это название самих кланов, на которые разделено общество. Это божество принадлежит к циклу легенд о богах-близнецах; и, по-видимому, под ним подразумевают еще кобылу, потерявшую во время скачек ногу, которую ей заменяют близнецы. Однако различия в вымыслах весьма значительны, а прояснить что-либо с помощью непонятного — невозможно. Неизвестны также обстоятельства, вследствие которых во время войны, которую Марк Атилий Регул вел против салентинов,состоявших в союзе с жителями Пицена, в честь победы он затребовал себе храм пастушьей Палес (Flor. I, 13). Один комментатор Георгик (Schol. Veron., 3, 1) называет в этом случае богиню Палес Матуту, но это наверняка — ошибка, поскольку Матер Матута не имеет ничего общего с Палес. Теллус, Церера, Либера, Палес очерчивают границы обычного поля деятельности крестьянина. Все эти божества имеют широкую сферу власти, причем неоднократно в течение года совершается культ в их честь, т. е. это практически непрерывное действо. Эти богини управляют теми силами, которые (если отвлечься от частных особенностей времени и видов) приводят в действие земледелие и скотоводство, а может быть — и воплощают эти силы. Они в каком-то смысле представляют собой раздельные, но взаимосвязанные основы третьей функции. Все остальные божества, принадлежащие к третьей функции и стоящие на том же уровне, — за исключением Квирина, ориентированного по-другому, — покровительствуют отдельным процессам. Поэтому неудивительно, что эти боги занимали, по-видимому, весьма значительное место в римском обществе на его первых этапах. Скотоводство и земледелие не являются самоцелью. Они отвечают насущным потребностям, обеспечивают пропитание, причем — не только в торжественных трапезах и пиршествах богов, а в повседневной жизни людей. Была богиня, которая руководила заключительным эпизодом судьбы возделываемых растений и откармливаемых животных. Это — Карна, праздник которой 1 июня назывался бобовые календы (Kalendae fabariae), хотя в нем участвовали не только бобы. Это имя образовано от caro — carnis (подобно тому, как имя Флоры образовано от flos — floris). Макробий (I, 12, 32–33) пишет:
«Считается, что Карна управляет жизненными органами человека (uitalibus humanis praeesse). Следовательно, именно ее просят о поддержании в хорошем состоянии печени, сердца и вообще плоти — всего, что находится в теле (quaeque sunt intrinsecus uiscera)… Богине Карне приносят в дар пюре из бобов и сала — пищевых продуктов, которые в наибольшей мере способствуют приданию телесных сил (quod his maxime rebus uires corporis roborentur)».Овидий подробно[473] говорит об этом, не без ущерба: всё начало отрывка, где речь идет о нимфе Cranè, и где Карна намеками трактуется как богиня дверного крюка (cardo), — всего лишь игра. Во второй части, где богиня все еще остается нимфой Cranè, отмечается, однако, качество, которое ей подходит: рассказывается история о том, как — посвятив родителей в некоторые магические действия — она спасает маленького ребенка от истощения, от «вампиров», пожирающих его тело, и возвращает румянец на его бледное, обескровленное лицо. Третья часть посвящена ритуалу 1-го июня:
… о растение, Превратись в жир (для нас)… В жир, в почечное сало!..[474]Ведический гимн содержит ценное указание: в строфах 1, 5 и 6 — пища прославляется как нечто, содержащее физическую силу и передающее ее главным образом воинам ради их подвига. Если верно, что — как полагали некоторые древние авторы — месяц июнь получил свое название от того же корня, что iuuenis, iunior, Juno, то назначение праздника Карны на июньские календы было бы особенно оправданным, как и тот выбор, который легенда остановила на Юнии Бруте, отце свободы, сделав его основателем святилища, которое Карна имела в западной части Целия: Юний Брут, трибун целеров при последнем царе, т. е. военачальник, имевший самый высокий чин, — легендарный воин, как в заговоре, так и в войне, которая последовала за изгнанием Тарквиниев. При таком впечатляющем представлении сил, приводящих в действие земледелие и скотоводство, перед лицом Теллус, которая их поддерживает, и Карны, которая придает эффективность продукции этих видов деятельности, римляне не уделили воде большого божественного участия. Конечно, ключевая вода была по преимуществу водой очистительной (Ov. F, 4, 778, с комментарием Фрэзера; Вергилий. Энеида, 2, 719, с комментарием Сервия, и т. д.), и родники были священны: родники Камены, которые — из-за созвучия их названия (по-видимому, этрусского) с «carmen» — были отождествлены с Музами, получали поклонение в роще перед Капенскими воротами (Сервий. Комм. на Эклоги, 7, 21), и именно к их источнику ежедневно ходили весталки за водой, необходимой для их службы (Плутарх. Нума, 13, 2). Каждый год 13 октября был общественный праздник, Фонтиналии, посвященный естественным источникам, в которые бросали венки, и колодцам, на которые венки возлагались (Варрон. L. L., 6, 22). Обожествленный Фонт, который имел жертвенник на Яникуле (Цицерон. О законах, 2, 56), в 231 г. получил храм за пределами городских стен (по-видимому, перед Porta Fontenalis). Приблизительно в то же время Фонт, вероятно, был введен в генеалогию «первых царей» Лация как сын Януса: такое родство подсказывалось близостью понятий «источник — начало». Более прославленной — благодаря своей роли в Энеиде — была Ютурна (Diuturna). Поначалу считалось, что она происходит из Лавиния — со слов Сервия (Комм. к Энеиде, 12, 139); тем не менее, многие современные авторы считают, что она пришла от этрусков, а затем получила в Риме функции покровительницы источников, питавших озеро — источник Ютурны на Форуме, рядом с храмом Кастора. Этой богине поклонялись главным образом ремесленники разных специальностей, которые использовали воду как материал или как средство обработки — qui artificium aqua exercent. Из Греции, через италийских посредников, пришли нимфы (Лимфы, Лимпы) — сестры тех, кого в таблице Аньона (Vetter, № 147) в оскских землях относят (в дательном падеже) к помощницам Цереры: Diumpai Kerriiais «Lymphis Cerialibus»[475]. Будучи более практичными, чем лиричными, римляне поручили им предохранение города от пожаров (Цицерон. Har. Resp., 57) — в частности, в церемонии жертвоприношения в день Вулканалий. Это не спасло их храм, который сгорел в конце эпохи Республики (по вине Клодия) вместе со всеми административными документами, связанными с переписью, которые находились там неизвестно почему (Цицерон. Mil., 73). Наконец, хотя Тибр, Tiberinus pater, не имел ни фламина, ни древнего культа, Моммзен предложил признать его под другим именем в боге Вольтурне, который имел своего фламина (Варрон. L. L., 7, 45; Fest. c. 446 L2) и свой праздник — Вольтурналии (27 августа). Однако от этой гипотезы отказались[476], и река вернулась к своей религиозной бедности. Правда, поэты золотого века обеспечили Тибру прекрасный реванш[477]. Однако все эти фигуры, местные или заимствованные, выступали лишь в функции духа-покровителя отдельного водного участка или некоего типа водоема. Было ли у римлян божество, стоявшее над всеми ними, — подобное Теллус, управлявшей землей с помощью разнообразных Ларов, — которое олицетворяло бы всю силу воды, существующей на земле? Возможно. И это божество, может быть, очень древнее. Но, вследствие отождествления с Посейдоном, оно так обновилось, что очень мало осталось от его собственных черт. Это Нептун. Общепризнано, что изначально он не был хозяином моря, которым римляне раннего периода очень мало интересовались. Однако его определение, по-видимому, было достаточно обобщенным, если во времена переводов он сумел стать Посейдоном. Кроме этого заключения, которого требует здравый смысл, сведения о нем весьма скудны и сводятся к обрывочным данным археологии, а также к тому немногому, что удалось извлечь из теологии и ритуалов. Он имел храм на Марсовом Поле (судя по всему, вблизи от Тибра). Об этом храме Тит Ливий говорит уже в 207 г. (28, II, 4). Вероятно, храм был возведен на месте более древнего алтаря. Его праздник отмечался 23 июля, во время самой сильной жары. От солнечного жара защищались не матерчатыми тентами, а лиственными беседками — casae frondeae, сходными с греческими σκιάδες на Karneia в Спарте, и их точно так же называли тени (umbrae; Fest. c. 465 L2). Одна из его паредров (вторая — Венилия — еще не истолкована) звалась Салация (Gell. 13, 2), а подпрыгивание, на которое указывает его имя, — способность быть salax (ср. pertinacia от pertinax, etc.) — должно, согласно обычаю, подчеркивать характерное качество бога[478].
2. Вторая и первая функции
Все божества, которые были нами рассмотрены, относятся к частям того, что сравнительные индоевропейские исследования назвали «третьей функцией»: сельское хозяйство, пропитание и их опора — земля и вода. Благодаря своей значимости и той политической роли, которую она сыграла, Церера господствует над всем этим. Будучи олицетворением «произрастания», она оказалась движущей силой третьей функции — подобно тому, как Квирин покровительствует человеческим кадрам, сфере социального применения. Возникает вопрос: наряду с Марсом и Юпитером воплотились ли в божествах движущие силы двух высших функций, которыми они управляют, — воинская сила и священное могущество? Из самого названия войны — bellum — было извлечено имя богини Беллоны (Bellona)[479]. На первый взгляд, кажется, что она дублирует Марса: ее храм, как и храм этого бога, и по тем же причинам, расположен за пределами померия[480]. Если судить по одной чаше III в. с надписью Belolai pocolom (CIL, I, 441) и изображением головы со змеями в волосах, то объединение с греческой Энией, которую Илиада представляет как женское соответствие Ареса, — относится к древним временам. Вергилий поместит на более длительное время и в хорошем обществе на щите своего героя не менее устрашающую Беллону (Энеида, 8, 700–703):Часть III РАСШИРЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Глава I ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ АБСТРАКЦИИ
Возведение в ранг божества абстрактных понятий, желательных качеств или могущественных сил, uirtutes и utilitates[486](Cic. Leg. 2, 28) — это игра языка и мысли, которую охотно вели древние индоевропейские общества. Крайний случай представляет зороастризм, систематически заменявший многочисленных индоиранских богов Сущностями, выражавшими ту же функцию в самом чистом виде. Однако некоторые из них появились уже в Ригведе. Что касается древней Греции, Скандинавии и языческой Ирландии, то там легкость такого перехода обеспечивала грамматика благодаря богатому ассортименту суффиксов, с помощью которых формировались абстрактные существительные, чаще всего женского рода. Рим тоже использовал подобные возможности: Опа (Ops), Фидея (Fides), Церера (Cérès)[487] принадлежат к древнему контингенту таких персонификаций. Еще до книг понтификов, где их мог вычитать Авл Геллий (13, 23, 1), и с древней, не всегда ясной семантикой, появились Сущности женского рода, которых «совместные моления бессмертным богам по римскому ритуалу» присоединяли ко многим важным божествам и которые выражали их основные аспекты или виды деятельности. Это Луа Сатурнова (Lua Saturni), Салакия Нептунова (Salacia Neptuni), Нора и Вири-ты Квириновы (Nora et Virites Quirini), Майя Вулканова (Maia Volcani), Гера Юноны (Herie Junonis), Молы и Нериена Марсовы (Moles et Nerio Martis). Сходный прием можно заметить в умбрском ритуале Игувия (Турса Церфия (Tursa Çerfia), etc.). Но на протяжении веков вожди Рима, следя за событиями и обстоятельствами, постоянно создавали, таким образом, покровительниц своей деятельности, а частная инициатива вводила еще и других. Цицерон опирался не на свое знание философии, а на свое сознание как гражданина, когда давал удачное объяснение той легкости и частоте, с которыми рождались божества (Nat. d. 2, 61): «Что сказать по поводу Опы? Что сказать о Салюс (Salus)? О Конкордии (Concordia), о Либертас (Libertas), о Виктории[488] (Victoria)?[489] Поскольку каждое из этих понятий обладает слишком большой силой, чтобы можно было управлять им без бога, то само понятие получило звание бога». Происхождение таких культов не всегда известно. Так, мы не знаем, почему консул Маний Ацилий Глабрион во время сражения с Антиохом на Фермопилах в 191 г. торжественно пообещал Пиетас (Pietas) храм, который его сын спустя десять лет посвятил ей на Овощном рынке (Forum holitorium; Liv. 40, 34, 4). Конечно, сын публично выразил почтение и любовь к отцу (pietas), воздвигнув ему памятник в виде позолоченной конной статуи, причем раньше никто ничего подобного не видел. Однако каковы были мотивы отца, когда он давал свой обет?[490] Соседка Пиетас на Forum holitorium, Спес (Spes)[491], обязана своим храмом обету, который дал Авл Атилий Калатин во время первой Пунической войны: легче понять, если полководцу пришла бы на ум Спес, а не Пиетас, и мы охотно соглашаемся с объяснением, которое дает Цицерон (Leg. 2, 28): quoniam exspectatione rerum bonarum erigitur animus, recte etiam a Calatino Spes consecrate est[492]. Впрочем, Калатин был большим любителем таких Сущностей. По-видимому, именно он на месте древнего сацеллума (небольшого святилища) воздвиг храм Фидеи (Cic. Nat. d. 2, 61) на Капитолии. Из культов этого типа мы здесь выделим только два. Один — потому что он создал при своем введении определенные сложности, а второй — потому что он сыграл важную роль в политической жизни, и даже вызвал некую последовательную смену ролей. У ворот Капены, поблизости от главного храма Марса, находился двойственный храм Хоноса (Honos) и Виртус (Virtus)[493]. В последние века отсюда начинался в июльские иды парад кавалерии — transuectio equitum. У этого храма любопытная история. Здесь можно с интересом наблюдать, как хранители священной науки и победитель Архимеда трудятся над решением важной проблемы. Первоначально храм принадлежал только Honos (он был воздвигнут по обету, который дал Квинт Фабий Максим Веррукоз во время сражения против лигуров в 233 г.). Затем Марк Клавдий Марцелл, во время битвы при Кластидии против цизальпийских галлов, дал обет превратить это святилище в храм Honos и Virtus. Однако когда он пожелал в 208 г. сделать это двойное посвящение, этому воспротивились понтифики, не считаясь с соображениями совестливости по отношению к обязательным обрядам, как говорит Тит Ливий (27, 25, 7), хотя это настолько смущало великого Марцелла, что он даже задержал свой отъезд к войску. И у них были для этого серьезные основания. Хранители священной науки говорили, что неправильно посвящать одну целлу двум богам, если это не dii certi, т. е. не божества, сфера деятельности которых строго очерчена, и они комплементарны и, следовательно, по своей природе неразделимы[494]. Действительно, необходимо предусмотреть важный и часто встречающийся род событий: знамения. В случае поражения молнией или какого-либо другого знамения, произошедшего внутри целлы (святилища названных выше двух богов), было бы трудно снять его действие — осуществить procuratio[495], поскольку неясно кому из «совладельцев» помещения приносить дары, так как ритуалы не допускают совместных жертвоприношений двум адресатам. Несчастный uoti reus[496] вышел из затруднения, построив срочно для Виртус второй храм, прилегающий к первому, посвященному Хоносу. Но он не успел его посвятить. Вынужденный, наконец, присоединиться к своей армии, он почти сразу погиб, попав в засаду, устроенную Ганнибалом. Хотя были знаки, которые должны были бы его насторожить: в тот день, когда он совершал жертвоприношение, он не обратил внимания на дефекты печени, включенной в жертвоприношение. Гаруспик не одобрил последовательность внутренностей (exta), одни из которых оказались изувеченными и обезображенными, а другие — чрезмерно жирными. Марцелл, которому было более шестидесяти лет, оказался одним из римских полководцев, хотя и религиозных, но погибших из-за пренебрежения выводами, подсказываемыми внутренностями. Лишь семнадцать лет спустя после его обета его собственный сын Марк Марцелл, будучи молодым военным трибуном и получив всего лишь ранение во время схватки, в которой погиб его отец, смог поместить посвящение в храме Виртус у капенских ворот (Liv. 29, 11, 13). Этот памятник славился собранными в нем богатствами: sac de Syracus[497] казался весьма прибыльным. Второй храм, посвященный тем же двум божествам, был воздвигнут позднее Марием (Marius), вероятно, на Эсквилине. На этот раз не было отмечено никаких возражений со стороны понтификов (Cic. Sest. 116; etc.). Возможно, это двойное посвящение было намеком на двойную победу, поскольку Мариев храм Хоноса и Виртус был построен за счет военной добычи кимвров и тевтонов. Во всяком случае, этот храм был настолько гармоничен и изящен, что Витрувий похвалил его достоинства в двух отрывках (3, 2, 5; 7, praef. 17). Несмотря на эти два учреждения и на несколько других, менее известных, эти две абстракции не сыграли большой роли в мышлении римлян[498]. Иначе обстоит дело в отношении Конкордии. В начальный период Рима отношения между лицами, родами, а также, по-видимому, между племенами и куриями — были доверены только богам чистосердечия, соблюдения договоров и выполнения обещаний: Дий Фидий (Dius Fidius) и (видимо, очень рано, задолго до получения собственного храма) также Фидея. Ежегодная церемония, которую в виде исключения совместно проводили фламины Юпитера, Марса и Квирина, проезжая в одном экипаже через весь город, чтобы совершить жертвоприношение Фидее, не может быть нововведением, так как в исторические времена неизвестно ни одного случая, когда великие фламины получали бы новые обязанности, тем более — все трое вместе. То, что теперь мы знаем о значении первоначальной триады, проясняет смысл этого ритуала: fides (доверие) была основой отношений между людьми, или же между людьми и богами, внутри каждой сферы деятельности, на уровне каждой функции, которую представлял каждый из трех великих богов; и, кроме того, fides была основой регулярных отношений между этими сферами и этими функциями, а следовательно — и основой благополучной жизни сообщества и мира в обществе. Идеология, охватываемая именами Юпитера, Марса и Квирина, исключала всякое соперничество между группами людей, ведь каждая из групп имела свою причину для сохранения статуса-кво. Причина была та же, что и в известной басне о желудке и конечностях[499]. По легенде, это помогало успокаивать плебс во время его первых волнений; впрочем, ненадолго. Различие между плебеями и патрициями было на самом деле совершенно другого рода. Это уже были не упорядоченные и гармоничные отношения, а отношения, в основе которых лежали соперничество и враждебность. Это различие, по самим своим исходным данным, предопределяло такую конкуренцию, которая могла прекратиться только при условии полного удовлетворения одной из сторон и полного смирения и покорности другой стороны. Здесь уже было недостаточно Фидеи, которая, возможно, была слишком связана с аристократическим культом, но дело было также в том, что плебс все время продвигался вперед, снова поднимая вопросы, которые патриции могли считать решенными, и объявлял неудовлетворительными и устаревшими все условия компромисса. Не потому ли во время бурной галльской катастрофы появилась частично равнозначная, но исходящая из других побуждений абстракция: активное стремление к взаимопониманию, а не статичное соблюдение договоров, — вот, что предлагает Конкордия двум большим сословиям, между которыми все время возобновляется и регулируется конфликт. В этом новом продвижении вперед некоторые авторы пытались усмотреть единодушие (όμόνοια) греческих историков, ораторов и философов, которое имело в качестве богини алтарь на Олимпе. Однако ни время, ни обстоятельства не говорят в пользу такого толкования (так же, как и само столь латинское имя Concordia, для которого греческое слово όμόνοια стало позднее всего лишь приблизительным переводом). Как указывают летописи, лишь в 367 г. спаситель Рима Марк Фурий Камилл — патриций, бескомпромиссный в прошлом, но на старости лет ставший сторонником либеральной политики — обещал храм Конкордии. После трудных лет, когда деятельность государства была как бы заторможена усилиями плебса и его трибунов, требовавших доступа к должности консула, — неизбежное произошло. Отвергаемые в течение долгого времени требования — rogationes tribunitiae — восторжествовали в результате того, что Тит Ливий называет ожесточенной борьбой (ingentia certamina), и сразу же вопреки аристократам comitia назначили первого консула-плебея. Это был Секстий, который — вместе с Лицинием — стал вести политическую борьбу. Патриции отказали в утверждении этому назначению, и плебеи стали угрожать отделением, добавив ужасные предвестия гражданской войны. Но, как говорит Тит Ливий, раздоры были умиротворены предложениями Камилла, который был в то время диктатором:«Знать уступила простому народу, согласившись на избрание плебейского консула, а простой народ — знати, согласившись на избрание одного патрицианского претора, чтобы тот вершил суд в городе. Так после долгого обоюдного гнева сословия вернулись к согласию. Сенат признал это дело достойным и принял решение о подобающем (как никогда более) воздаянии бессмертным богам: чтобы были устроены Великие игры и к трем их дням был добавлен еще один. А когда плебейские эдилы отказались взять на себя это дело, патрицианские юноши в один голос заявили, что они охотно возьмутся за это в честь бессмертных богов. Все их благодарили, и Сенат постановил, чтобы диктатор предложил народу избрать двух патрицианских эдилов, а сенаторы утвердили бы все выборы этого [367 г.] года»[500].Книга VI заканчивается словами, которые ясно выражают облегчение, вызванное этим миром, впрочем, оказавшимся весьма непрочным. И хотя историк не говорит о храме Конкордии, Плутарх (Cam. 42, 2–3) драматично передает обет диктатора: в разгар мятежа, когда посланный народными трибунами ликтор уже занес на него руку, пока он говорил о делах на Форуме, он направился к Сенату и, прежде чем туда войти, «он обернулся в сторону Капитолия и помолился богам, прося их даровать начатому самый счастливый исход и обещая, если волнения улягутся, воздвигнуть храм Согласия (Concordia). В Сенате разгорелся ожесточенный спор, но из двух противоположных точек зрения верх одержала более мирная, согласно которой следовало пойти на уступки народу и позволить ему выбирать одного консула из своей среды. Это решение диктатор объявил народу, и тот сразу же, как и следовало ожидать, радостно примирился с Сенатом, а Камилла с восторженными возгласами и рукоплесканиями проводил домой. Назавтра римляне, собравшись, постановили: храм Согласия, который обещал построить Камилл, воздвигнуть, — в память о происшедшем, — в виду Сената и Народного собрания»[501]. Действительно, этот знаменитый храм, которому предстояло сыграть большую роль в истории Республики, был построен к северо-западу от Форума, у подножия Капитолия. Здесь часто собирался Сенат, и один теоретик даже назвал это место «одним из трех залов заседания Сената (senacula)» — тем, где сенаторы совещались с магистратами, подобно тому, как в храме Беллоны они принимали иностранных послов (Fest. c. 435 L2). Именно здесь в 63 г. Цицерон произнес свою четвертую речь против Катилины, а спустя 20 лет, после убийства Цезаря, всадники укрылись, чтобы оказать сопротивление консулу Марку Антонию. Такой богине предстояло прекрасное будущее в государстве, которое жило столь беспокойной жизнью. Неоднократно ее отвлекали от ее назначения и почитали, чтобы бросить вызов. В 304 г. странный человек, Флавий, внук освобожденного раба, писец, технический служащий при эдилах, стал эдилом сам. В это время, по словам Тита Ливия, на Форуме и на Марсовом Поле царила развращенность. Флавий нагло встретил презрение патрициев. Он сумел найти их уязвимое место: их престиж частично зависел от сохранения в тайне формулировок гражданского права (причем понтифики ревностно хранили этот секрет) и таблицы благоприятных дней, которые определяли судебную жизнь. Флавий разгласил формулировки и вывесил хронологическую таблицу благоприятных дней на Форуме. После этой успешной выходки он «посвятил храм Согласию на холме Вулканале, вызвав сильнейший гнев аристократов», — как говорит Тит Ливий. Эта смехотворная закладка храма усилила еще больше противостояние двух сторон: непредубеждунный народ, покровительствующий и почитающий все благое (integer populus, fautor et cultor bonorum) с одной стороны, и forensic factio, подонки общества — с другой стороны (Liv. 9, 46, 10). Этот храм фактически был всего лишь молельней, исчезнувшей во время преобразования главного храма богини, осуществленного по приказу Августа. Не менее вызывающее использование этого благородного божества было организовано, с противоположным значением, после того как непримиримым патрицием — консулом Опимием — были с жестокостью «физически уничтожены» Кай Гракх и Фульвий. Плутарх (C. Gracch. 17, 4 —18, 1) говорит: «Впрочем, сильнее всего огорчила и уязвила народ постройка храма Согласия, который воздвигнул Опимий, словно бы величаясь, и гордясь, и торжествуя победу после избиения стольких граждан! И однажды ночью под посвятительной надписью на храме появился такой стих:


Глава II БОГИ СОСЕДЕЙ
Диана со своим красивым латинским именем — не римлянка. Рим получил ее от своих соседей из Лация. В какой момент и при каких обстоятельствах — установить невозможно, хотя летописи, в которых говорится о возникновении Рима, изобилуют подробностями, да и анекдотов в них немало. Во всяком случае, введение культа Дианы было связано с военными и политическими движениями, которые обеспечили Риму главенство в латинской конфедерации. Из всех ее святилищ самым значительным было Арицийское, в альбанских горах. И оно действительно стало центром этой конфедерации. Не подлежит сомнению, что культ Дианы, введенный на Авентинском холме, был как бы ответом Рима на изначальный культ[507]. Материалы о Диане содержат весьма разнообразные элементы, и не следует пытаться определить a priori, какие из них первичны, а какие — вторичны. Ее имя, некогда звучавшее как трехсложное с долгими гласными — Diana — образовано от прилагательного dius, которое входит в несколько имен богов Рима: Dius Fidius, Dea Dia. В среднем роде (dium) оно означает «небесное пространство» (sub dio). Арицийское святилище находилось на берегу горного озера, в роще, от которой богиня получила своеобщепринятое имя — Diana Nemorensis. В ее культе примечательны два факта. Ее жрец носил титул rex Nemorensis (Suet. Calig. 35, 3), и был обряд, несомненно, древний, который делал этот статус шатким: тот, кто хотел стать царем, должен был убить действующего носителя этого звания, предварительно отломив ветку от определенного священного дерева. В классическую эпоху желающих сделать это можно было найти лишь среди людей низшего сословия или среди беглых рабов, так как обряд сохранял жестокость, но был лишен престижности. Один из порочных поступков, который Светоний приписал императору Калигуле, заключался в том, что он вызвал более сильного соперника для тогдашнего rex Nemorensis, так как считал, что тот слишком давно является обладателем священнического сана. Вопреки прекрасной книге, которую написал Фрэзер, нет никаких оснований полагать, что этот rex когда-либо был реальным царем, но виртуально всегда открытая возможность унаследовать царскую власть (regnum) в роще Дианы (nemus Dianae), по-видимому, отражала некую весьма важную черту миссии или характера этой богини[508]. С другой стороны, Диана, которую следует считать девственницей, поскольку ее отождествляли с суровой Артемидой, обладала властью над размножением и рождением детей. Раскопки обнаружили множество вотивных предметов, смысл которых несомненен: это изображения женских и мужских половых органов, статуэтки матерей с их младенцами, а также женщин в одежде, но с открытой передней частью тела[509]. Во время праздника Дианы, в августовские иды, женщины, неся факелы, длинной процессией шли в ее рощу, чтобы выразить ей благодарность за оказанные услуги (Ov. F. 3, 263; Prop. 2, 32, 9). В этой роще — в ручье — обитала некая нимфа, Эгерия (Egeria)[510], имя которой имеет отношение к родам у женщин (e-gerere), и беременные женщины действительно приходили с жертвоприношениями для нее, чтобы обеспечить себе легкие роды. Наконец, в этой роще обитал мужской гений — Вирбий (Virbius), совершенно загадочный. В нем мифы, созданные под греческим влиянием, признавали преображенного Ипполита. Эти сложные описания, судя по всему, имеют долгую предысторию. Недавно произведенное сопоставление с германскими и индийскими данными наводит на мысль о том, что индоевропейцы знали небесного бога, который, по-видимому, не был сам ни царем, ни отцом, но обеспечивал непрерывность рождений и заботился о преемственности царей. Это был своего рода «рамочный бог»[511], медленная деятельность которого — медленность хода мировой истории — ощущалась как резкий контраст с краткостью жизни поколений и малой длительностью царствования. В великой индийской эпопее, о которой (благодаря господину Stig Wikander) нам известно, что она транспонирует в своих главных героев богов до-ведической формы мифологии, — соответствующий «рамочный» герой является воплощением бога Dyauh («Небо»), который проживает столько поколений, сколько хочет. Он отказался от того, чтобы быть царем и чтобы быть отцом. Он возвысился как над борьбой за царскую власть (rājyam), так и над сексуальными желаниями. Его роль — следить в своей династии за тем, чтобы всегда были дети (не порождая, а заставляя порождать, даже если понадобятся искусные приемы, которыми изобретательно владеет священное право), и воспитывать в каждом поколении царя, стремясь — тщетно — избежать кровавого соперничества. В Скандинавии небесный бог, которого в некоторых отношениях можно назвать богом-небом — Хеймдаллем, — тоже «рамочный» бог: он первым рождается и последним умирает. Среди богов он также не царь, и если он порождает, то остается при этом неизвестным, ради законной пользы других отцов. Его роль, прежде всего, заключается в том, чтобы через эпонимов способствовать рождению различных классов общества (prœll, karl, jarl: рабов, крестьян, благородных воинов), затем сделать так, чтобы родился царь (konungr), и передать ему царские качества, которые он сам в себе имел, но не развил для себя. По-видимому, фигуру и функцию этого рода латиняне почитали в Dī-āna, которая соединила в себе — с оригинальными особенностями — небесный мир (dium), непрерывность, делавшую осмысленной контрастную смену событий, символическую «передачу» царской власти (regnum), а также покровительство родам. Если это так, то ее случай добавляется к тем, уже многочисленным, когда в Италии женскому божеству доверяется то, что индоиранцы и скандинавы поручают мужскому персонажу. Часто говорят, что ее храм случайно сыграл роль федерального святилища латинян, по причине того, что после падения Альбы во главе объединения стала Ариция (Висс. с. 247–248). Но уверенности в этом нет. Такая, какой мы ее только что видели, Диана была вполне способна придать самостоятельность и главенствующую роль как союзным государствам, так и индивидам, стремящимся к regnum. Часовни Дианы в Риме — diania — создавались, судя по всему, в разное время и по инициативе частных лиц. Нам известны часовни на северо-восточном выступе Целия, где праздновали gentilicia sacra[512] (Cic. Har. resp. 32), в верхней части Кипрской улицы, на Велии, а также часовня на улице Патрициев, между Циспием и Виминалом (Plut. Q. R. 3). По-видимому, эти святилища специализировались на самом «популярной» черте богини: ее покровительством родам. Например, в сацеллум[513] на улице Патрициев допускались только женщины. Однако главное святилище, храм Дианы на Авентинском холме, несомненно, было общественным учреждением. Его создание приписывают Сервию Туллию, и нет достаточных оснований оспаривать древность этого храма, хотя некоторые современные авторы подозревали, что имело место умышленное «состаривание» более позднего события, как нередко поступали летописцы, излагая историю царей[514]. Диана там воспроизводила, кроме древнего обряда, связанного со священнослужителем-царем, два аспекта своего арицийского персонажа: оплодотворяющий и политический. В ее dies natalis, 13-го августа, совпадавший с dies natalis Ариции, римлянки тщательно красили волосы и мыли голову (Plut. Q. R. 100). Вполне вероятно, что Эгерия, которая жила — согласно легенде, если не согласно культу — в Касмене, и которой приписывали роль нежной вдохновительницы Нумы (Liv. 1, 21, 3; Plut. Num. 13), была никем иным, как Эгерией из рощи у Ариции, прибывшей в Рим вместе со своей госпожой. С другой стороны, в легенде говорилось, а в одной (по-видимому подлинной) надписи утверждалось, что храм был собственностью латинской Дианы (Varr. L. L. 5, 43; ср. Dion. 4, 26, 4–5): якобы благодаря своему красноречию Сервий Туллий убедил латинскую аристократию в том, что закладка этого храма сделала Рим главою, о чем и шел спор, который столько раз пытались решить оружием[515] (Liv. 1, 45, 3). То, что эта Диана была по существу — иначе, чем Юпитер — передатчицей независимости, вытекает из истории, которую рассказывает Тит Ливий[516]: у одного сабинянина родилась необыкновенно большая и красивая корова. Прорицатели предсказали, что государство, гражданин которого принесет ее в жертву Диане, обретет главенствующую роль, ibi fore imperium. Счастливый этой возможностью возвращения власти, сабинянин поспешил в Рим, к храму на Авентинском холме. Однако священник, прослышавший об этом пророчестве, как добрый римлянин — послал сабинянина очиститься в водах Тибра, а в это время сам поспешил принести корову в жертву Диане; этим он весьма угодил и царю, и согражданам (Liv. Ibid. 3–7). Неизвестно, почему эта богиня — дарительница независимости — оказалась в Риме столь милой сердцу рабов, что ее dies natalis стал «днем рабов» (Fest. c. 432 L2; Plut. Q. R. 100): то, что закладку храма приписали Сервию, сыну раба, покровителю рабов, носившему рабство в своем имени, давало древним авторам естественное объяснение, которое нас не касается. Наименее искусственное предположение высказал опять-таки Виссова (с. 350): согласно этому толкованию, так как латинская Диана была первым иноземным божеством, пришедшим в Рим, рабы якобы настолько увлеклись ее культом потому, что в своем большинстве были латинянами. Однако это не очень убедительно[517]. Впоследствии римская Диана — поскольку она происходила из Ариции — была отождествлена с Артемидой и обогатилась сложной натурой греческой богини, ее родственными связями и ее историей. Это произошло, вероятно, потому, что Диана была девственницей и жила на лесистой горе. Возможно, все эти подробности ведут свое начало из Капуи, где Диана имела святилище на горе Тифате. Во всяком случае, уже в начале IV в. она была достаточно эллинизирована, чтобы фигурировать, — странным образом в качестве жены Геркулеса, — в первом совместном лектистернии (lectisterne collectif). Особый случай в религиозном опыте римлян представляет собой Кастор (Castor). Иноземный бог, пришедший откуда-то из Великой Греции в Лаций, он проник в римский померий и устроился ближе к храму Весты, чем любой другой национальный бог[518]. Римляне чувствовали эту аномалию, поскольку в ее оправдание возник рассказ (впрочем, чисто греческий по содержанию). Согласно этому повествованию, Кастор и его брат сами установили место своего культа, и людям оставалось лишь следовать их указаниям, радуясь такой услуге. Вот как в легенде описываются обстоятельства этого властного появления. В 499 г. во время битвы, в которой на землях Тускула, у Регильского озера, Рим противостоял латинской коалиции, диктатор Авл Постумий, видя, что его пехота разгромлена, приказал своим кавалеристам спешиться и бросил их в схватку. Латиняне отступили, а римские кавалеристы снова сели на коней и изгнали их, ведя за собой пехоту. Чтобы не упустить никакой помощи со стороны богов или людей, Постумий дал обет воздвигнуть храм всаднику Кастору, а также пообещал вознаграждение двум солдатам, которые первыми войдут в лагерь врага. Победа пришла немедленно. Диктатор вместе с командующим кавалерией триумфально вернулся в Рим (Liv. 2, 20, 10–13), а несколько лет спустя был освящен храм (ibid. 42, 5). Однако существует и другой вариант рассказа об этих событиях, в котором вместо обета происходит богоявление: в самый трудный момент битвы появились два всадника, которые были больше и красивее всех других, верхом на белых конях и одетые в пурпурные трабеи. И вот, в тот же вечер, этих двух всадников, одетых так же, видели на Форуме. Они напоили своих коней в ручье Ютурны (Juturne) и, провозгласив победу, исчезли (Dion. 6, 13, 2). Эта вторая форма рассказа переносит в Рим способ появления Диоскуров, известный в Греции, а также в Великой Греции: за несколько лет до битвы при Регильском озере, в сражении при Сагре, оба близнеца в красных хламидах и на белых конях появились в рядах локров, чем способствовали поражению кротонцев, а затем исчезли, тогда как известие о произошедших событиях почти сразу же распространилось в Спарте, в Афинах и в Коринфе (Justin. 20, 3). В самом деле, до тех пор, пока религия не подпала под греческое влияние, святилище на Форуме принадлежало только Кастору: его брат Поллукс оставался в тени[519]. Греческие братья Диоскуры были красивыми атлетами, но преуспевали в различных видах состязаний: Полидевк побеждал в кулачных боях, а Кастор — в конных соревнованиях[520], причем только последнему было поручено командование частями войск, отличившимися в тактических действиях Постумия, тогда как кулаки Поллукса остались неиспользованными. Таким образом, Кастор вошел в Рим как образец и командующий всадниками. Его культ подтверждает такое понимание. Свидетельством этому является то, что Дионисий Галикарнасский пишет о жертвоприношении в его храме (6, 13, 4) во время transuectio quitum, парада кавалерии, который с 304 г. происходил ежегодно 15 июля по распоряжению цензора Квинта Фабия Максима и во время которого молодые всадники следовали от ворот Ка-пены до Капитолия, от Марса к Юпитеру. До последних лет ученые были склонны искать происхождение римского Кастора в Тускуле. Однако господин Ferdinando Castagnoli опубликовал в 1959 г. древнее посвящение, найденное в Лавинии, «за пределами древнего города, в месте, называемом Madonnella» (SMSR. 30, 1959, c. 109–117). На двух строках, написанных справа налево, можно прочесть: Castorei Podlouqueique qurois[521]. Господин Шиллинг отметил, что Ютурна (Juturne), так тесно связанная с близнецами в легенде Регильского озера, а также топографически — с их культом, тоже пришла в Рим из Лавиния, где существовал ручей, носивший это имя (Serv. Aen. 12, 139). Он пишет: представляется, что нигде связь Диоскуры — Ютурна не имела «прецедента» более ясного и более близкого к Риму, как в Лавинии. Тем не менее, римский культ остается подлинным. Как в Тускуле, так и в Лавинии, а также у других народов Италии, где они известны, Диоскуры всегда появляются вместе, и их характеризуют как «сыновей Зевса»: iouiois puclois — на бронзе в Сульмоне у пелигнов (Vetter, 202); [i]ouies pucle[s] — на одном камне в марсовых землях (ibid. 204); tinas cliniiaras — на этрусском зеркале (Hammarström, SE. 5, 1931, 364); а теперь и qurois — сокращенная транскрипция Διοσκούροις — в Лавинии. В Риме, напротив, всякие связи с Юпитером разорваны, и если Поллукс остается в тени брата, то именно его брат — всадник Кастор — захватил и земли, и культ. Что касается способа, каким был введен молодой бог, то он остается загадкой: никакая известная процедура не могла поместить этого иностранца внутри померия (точно так же, как и его союзницу Ютурну[522]). Однако нет сомнений в том, что в очень древние времена существовали особые связи между Римом и Лавинием. Неизвестно, когда и как в Риме был введен культ Феронии (Feronia), получившей храм на Марсовом Поле, а в одном календаре отмечен ее dies natalis (CIL. I2 335). Правда, Ферония лишь кратко упомянута в исторических повествованиях: во время бедствий 217 г. — в то же самое время, когда ко всем великим Юнонам были обращены призывы государства или просьбы замужних женщин — освобожденных рабынь призывали собирать средства для жертвоприношения этой богине. Ее связь с вольноотпущенницами подтверждается единственным посвящением с ее именем, найденным в Риме — в самóм городе, и оно было на щите (CIL. VI 30702). За пределами Рима ее культ широко представлен в Италии. Об этом свидетельствуют надписи в Амитерне на границе земель сабинян и вестинов, у жителей Пицента, в Пизавре в умбрских землях, в Требуле Мутуске в сабинских землях. Писатели говорят о ее храмах в Таррацине и Кампании, и в особенности около Капены, у подножия горы Соракт, на месте контакта между этрусками, сабинянами и латинянами. Если собрать все данные, разбросанные, но достаточно многочисленные и близкие по смыслу, то создается следующий образ богини. Все места поклонения находятся за пределами городов, причем довольно далеко от них. Древняя Капена и священная роща Феронии, как установил господин Raymond Bloch (с. 65, 74), располагались вдоль капенской реки, теперешней Gramiccia. Город был построен на холме, приблизительно в восьми километрах от слияния этой реки с Тибром, в пяти километрах к северо-западу от нынешней Капены, а святилище возвышалось лишь в одном километре от слияния этих рек. Следовательно, расстояние между святилищем и городом было весьма значительным. В Кампании (Campanie) святилище Феронии находилось у третьего мильного столба, считая от Таррацины (Ps.-Acr. в Hor. Sem. 1, 5, 24). Они располагаются также в рощах. Если можно это утверждать в отношении святилищ, известных только по надписям, то это достоверно в отношении святилища Capène (lucus Feroniae; lucos Capenos у Вергилия), и это вероятно для святилища Terracine (Aebischer, c. 6). В самóм Риме, на Марсовом Поле, ее храм так же должен был находиться в священной роще (lucus), как об этом свидетельствует одна надпись (G. Gatti, NS. 1905, c. 15). Что касается Капены, то об одной надписи с посвящением, относящейся к III в. до н. э., господин Bloch предполагает, что может реконструировать слово tesco (c. 67–68): tescum, древний религиозный термин, предположительно сабинского происхождения, обозначал место, посвященное божеству, но место сельское и лесистое, иногда дикое на вид (Varr. L. L. 7, 10: loca quaedam agrestia quod aliquoius dei sunt, dicuntur tesca). К несчастью, эта реконструкция не слишком надежна. Богиня дорожила этой отдаленностью от города, этим одиночеством. И не без основания, — говорит Сервий, — Вергилий пишет о святилище в Кампании (Aen. 7, 800): и зеленой рощей наслаждается Ферония. Когда однажды священная роща загорелась от внезапного пожара, и жители — желая спасти божественные статуи — собирались унести их в безопасное место, роща вдруг снова зазеленела. Так, когда появилась угроза перенесения в другое место ради спасения, Ферония предпочла совершить чудо. Это пристрастие и это желание богини выразились еще и в другом: «Перестали возводить в военное время башни между Таррациной и святилищем Феронии, — говорит Плиний (N.H., 2, 146), — потому что все они, без исключения, nulla non earum, были разрушены молнией». Таким образом, богиня отвергала всякую связь или солидарность с соседним городом. В этих различных местах, а также в других точках Италии, где местная топонимика сохраняет воспоминания о Феронии (например, Aebischer указывает Ferronia, Ferogna), Ферония имела свой ручей. Раскопки рощи Капены дали множество предметов, связанных с обетами, которые свидетельствуют о том, что Феронии приписывали целительную силу: глиняные ноги, руки, головы, глаза, а также фигурки запеленутых младенцев — были обнаружены в большом количестве, наряду со статуэтками, изображавшими пахотных животных (Bloch, c. 65–66, 76, прим. 6). Комментарии, которым нельзя отказывать в доверии, вопреки мнению Виссовы (RE. VI, 1909, 2219), называют Феронию dea agrorum (Gloss. Lat. IV, 238, 25; 342, 18; V, 599, 27; сюда, вследствие игры этимологии, V, 456, 23 и 500, 47, добавили inferorum), что можно понимать либо как «антигородскую» черту (поскольку обычно земля — ager — противопоставляется городу: urbs), либо — позитивно: как вклад в улучшение плодородия полей. К такому осмыслению склоняют primitiae frugum donaque alia («первые плоды и другие дары»; Liv. 26, 11, 9), которые жители Капены приносили в храм своей рощи — lucus, а также тот факт, что ярмарка этих мест, широко известная в Италии, привлекала в огромном количестве земледельцев, ремесленников и торговцев (Dion. 3, 32, 1). Везде (как об этом свидетельствуют и упоминания в литературе, и надписи) Ферония поддерживает освобождение рабов. Главные данные об этом — причем, как показал Латте, все же не избежавшие греческого влияния — дает Таррацина. По словам Сервия, здесь она — богиня вольноотпущенников (libertorum dea), и именно в ее храме рабы с бритой головой получали pileum[523]. К этому Сервий II добавляет, что в храме была каменная скамья с надписью: пусть они садятся как достойные рабы и восстают — как свободные люди (bene meriti serui sedeant surgant liberi). Действия освобожденных римских рабынь в 217 г. упоминались выше, а господин Bloch опубликовал надпись с посвящением (с. 70), сделанную одной вольноотпущенницей в священной роще Капены незадолго до того, как здесь прошел Ганнибал. Эта надпись добавляется к не менее древнему посвящению, которое адресовано Требуле Мутуске неким вольноотпущенником, а также к посвящениям некоего раба и прислужницы эпохи Империи (Bloch, ibid.). Наконец, несмотря на свою доброжелательность к людям, Ферония имеет локальные связи (или мифологическое родство) с богами или с героями — либо неистовыми, либо вызывающими тревогу. Это сказывается в мифах. В Требуле Мутуске единственный другой бог, культ которого засвидетельствован, — это откровенно воинственный Марс (Jul. Obs. 42), а таинственный picus Feronius (Fest. c. 308 L2) напоминает picus Martius, которого Дионисий Галикарнасский (1, 14, 5) отмечает в Tiora Matiene[524]. На горе Соракт Ферония оказалась столь близкой соседкой дикого отца Сорана (Soranus pater), что Страбон (5, 2, 9) перенес на нее необузданный ритуал поклонников бога «разбойников» — волков Сорана, которые ходили босиком по раскаленным углям без каких-либо повреждений. Вергилий (т. е., по-видимому, через него местные летописи) говорит, что в Пренесте Ферония была матерью опасного Герула — героя с тремя жизнями, из-за чего его пришлось убивать три раза (Aen. 8, 563–567). Предлагалось немало объяснений для этого сложного божества, причем, как это обычно бывает, одно из его качеств считали изначальным и выводили из него все остальные черты. Я думаю, что недостаточно учитывались те качества, которые были здесь названы в первую очередь, и не принимались во внимание некоторые обстоятельства: например, то, что Ферония располагалась за пределами городов, в диких местах (в частности, в Капене), а также то, что богиня либо отказывалась покидать такие места, либо не соглашалась на то, чтобы приблизить их к городам с помощью промежуточных построек. Мне кажется, что все можно понять, отталкиваясь от этого. Будучи богиней другого типа, чем Фавн, Ферония, однако имеет нечто общее с ним, а именно — такую локализацию. Она покровительствует «природе», но стремится поставить дикие силы природы на службу людям: их питанию, их здоровью, их плодовитости. Поэтому — соседствуя с отцом Сораном и Марсом, породив Герула — она, тем не менее (подобно римским богам Фавну и Сильвану), предпочитает сельские, земледельческие районы. Обладая огромными резервами жизни, она оплодотворяет и исцеляет. То, что ей в дар приносят первины урожая, вовсе не говорит о том, что ее можно уподобить «мастерице произрастания» типа Цереры. На фоне всех материалов, касающихся Феронии, эти приношения следует понимать, скорее, как благодарность за более серьезную услугу — за превращение incultum в cultum, за укрощение таких сил, которые обычно хаотичны, беспорядочны: как, например, произрастание, возникновение зелени, чудесный пример которого она дала в своей роще. Расположившись в «сельском захолустье», она созывает на ярмарку соседние народы — не только сабинян и римлян, но и самые дальние народы, которым она предоставляет для торговли и обмена своего рода нейтральную территорию, где мир не должен нарушаться (Dion. 3, 32, 1–2). Однако вопреки тому, что иногда предполагалось, она не имеет политической компетенции, как Диана. Наконец, весь этот контекст должен прояснять ее участие в освобождении рабов: является ли раб человеком? Ведь, попадая в рабство, он становится таким же неспособным ни на какое правовое действие, как мертвец: seruitus morti adsimilatur[525], — как скажут юристы. Согласно мнению, которое приводит Варрон (R. R. 1, 17, 1), орудия земледелия бывают трех видов: орудия говорящие, бессловесные и безмолвные, из которых говорящие — это рабы, бессловесные — это быки, а безмолвные — это повозки. Если перечитать в особенности ужасную 21-ю главу Катона у Плутарха, то станет понятно, что собой представляет освобождение из рабства: это поистине переход от юридического небытия к юридическому бытию, моральные переход от высшей формы животного состояния к статусу человека. Но Ферония — не специалист по освобождению из рабства, для чего в Риме существовали определенные процедуры (uindicta, censu, testamento). Однако поскольку она во всем способствует приручению дикого, она — в религиозном плане — руководит социальными изменениями, которые в какой-то мере опасны для бывшего говорящего орудия (instrumentum uocale), но также и для той группы, в которую бывший раб включается. Те, кто знаком с религиями Индии, вероятно, заметили, что существует аналогия этих черт и этих действий с характеристиками одного ведического и постведического бога, имя которого было названо выше в связи с римским Фавном — Rudrà. Рудра — это бог всего, что еще не было охвачено цивилизацией: того, что латиняне называют словом — вероятно, родственным этому имени — rude[526]; а также он вообще бог лесной чащи или джунглей, откуда всегда грозит опасность, но эти дебри остаются необходимыми и незаменимыми. Этот бог — «господин животных» (в Индии земледелием интересуются мало). Благодаря травам, растущим в его владениях, Рудра столь же могущественный целитель, как и Ашвин. Однако он покровительствует не освобожденным рабам, а людям, живущим вне закона, людям маки (maquis), и даже разбойникам. Если преобразовать «в лучшую сторону» недоброжелательные и опасные элементы, то мы близко подойдем к Феронии[527]. Само имя Ферония легко поддается истолкованию. Вопреки мнению многих авторов, а также невзирая на недавние гипотезы, которые выдвинул господин Jacques Heurgon, представляется маловероятным этрусское происхождение Феронии. Господин Bloch, напротив, привел убедительные основания для восстановления ее италийских, сабинских корней. Ферония входит в группу божеств, имена которых образованы с помощью суффикса —ona, — onia от существительного, обозначающего некое тягостное состояние, либо какой-то трудный или опасный момент. При этом Ферония способна лишь помочь человеку выйти из такого состояния наилучшим образом, либо извлечь из него максимальную пользу: основные случаи были указаны выше, когда речь шло о богине, помогающей избежать коротких дней солнцестояния зимой, — о богине Anger-on(i)a. Все, что было сказано выше о поведении Феронии, наводит на мысль, что ее имя произведено в латинском языке от слова ferus, с кратким е, а во всех других индоевропейских языках, где оно встречается, — с долгим е: греческое θήρ, θηρίον, древнеславянское zveri, литовское zvérìs. Звук е в Feronia — долгий (греческие варианты, имеющие ε, ο, явно основаны на неверной этимологии). Можно думать, что — в отличие от латинского языка — италийский говор (по-видимому, сабинский), в котором возникло это слово, подобно греческому и балто-славянскому, вероятно, имел долгие гласные[528]. Первоначально ferus имел значение «не обработанный, не возделанный» (Thesaurus: «non cultus, non domitus»), «полевой, лесной, необработанный, не взрыхленный возделыванием» (Forcellini: «agrestis, siluester, indomitus, nullo culto mitigatus»), а Павел Диакон толкует ferus ager как «необработанный» (incultus). Не та ли это обстановка, в которой охотно пребывают Феронии из Таррацины и из Капены, вторая из которых направляет свою силу на пользу человеку? Может быть, это близко также к латинскому слову rudis, корень которого, по-видимому, дал имя ведическому богу Рудре? Как бы то ни было, историческая и археологическая судьба священной рощи Капены стоит того, чтобы о ней рассказать. Во время второй Пунической войны храм был во всем своем блеске, обогащенный дарами, которые приносились в течение нескольких веков. В 211 г. Ганнибал перешел через Аниен, и дважды в тот момент, когда он собирался начать решительный бой с армией, защищавшей Рим, разражался ужасный ураган, препятствовавший сражению. Вскоре после этого он узнал от одного пленника, что поле, на котором он расположил свой лагерь, было продано на торгах в Риме, причем оккупация этого поля Ганнибалом цену его не снизила. Разъяренный недоброжелательством богов и наглостью людей, Ганнибал отомстил следующим образом (Liv. 26, 11, 8—10). Он вернул свой лагерь на берега речки Турии, в шести милях от Рима. Оттуда он направился к священной роще Феронии, храм которой тогда славился своими богатствами. Жители Капены и другие соседние народы приносили туда пер-вины урожаев и другие дары в благодарность за изобилие, так что там скопилось много золота и серебра. Ганнибал разграбил храм, забрав все дары. После его ухода были найдены груды металла (aeris acerui), так как солдаты, охваченные религиозной щепетильностью, оставили там слитки золота и серебра, из которых не были отчеканены монеты (rudera). В описаниях, которые историки оставили о разграблении этого храма, нет расхождений. В 1952 г. археологам удалось идентифицировать поблизости от замка Scorano местоположение священной рощи. Важный материал был найден в длинном рве (длиной в 54 метра и шириной в 8 метров), по-видимому, принадлежавшем святилищу. Однако в списках находок нет ни одного металлического предмета. Более того, было обнаружено около сорока небольших каменных фундаментов (macco), с которых еще в эпоху античности были сорваны статуэтки (вероятно, бронзовые), причем ни одной статуэтки не найдено. В некоторых случаях на верхней стороне этих опор сохранились врезанные в камень свинцовые крепления. Господин Bloch пишет: «Очень соблазнительно предположить, что исчезновение всяких металлических предметов в подземных хранилищах при Скорано и кража бронзовых статуэток, оторванных от фундаментов (macco), были связанны именно с этим грабежом, совершенным карфагенянами. По-видимому, солдаты Ганнибала захватывали все металлическое — золотое, серебряное или бронзовое. Но религиозный страх побудил их оставить в нашем подземном хранилище то, что не возбуждало их алчность: основания статуй, глиняные сосуды или вотивные предметы (ex-voto)… Весь материал, собранный в этом подземном хранилище, по-видимому, подтверждает такую гипотезу, поскольку те предметы, которые поддаются точной датировке, как, например, кампанские вазы, должны быть отнесены к III в. до н. э. Впрочем, насколько нам известно, это первый раз, когда передвижение Ганнибала по Италии, кажется, удалось выявить археологическими методами». С Венерой связана особая проблема: ее имя, очевидно, представляет собой древнее абстрактное существительное изначально среднего рода, но перешедшее в женский род (что заметно только в аккузативе), от которого образован глагол uenerari (uenerare): подобно тому, как глагол operari образован от opus. Твердо придерживаясь этих достоверных фактов морфологии и соблюдая оттенок значения, присущий слову uenerari, отличающий его от других слов, означающих «набожность, почитание, любовь», господин Шиллинг предложил для слова среднего рода *uenus, встречающегося очень редко, приемлемый смысл, который трудно полностью передать с помощью одного слова. В древние времена uenerari употреблялось только для обозначения движения, а чаще позиции человека по отношению к богам, причем не в смысле, выражаемом фразами типа do ut des — «просьба-договор», основанная на справедливости (ius) и доверии (fides), а для выражения усилия, прилагаемого для того, чтобы очаровать богов, получить их благожелательность. Глагол uenerari имеет значения: «стараться понравиться», «благодарить бога», «делать ему приятное» — в надежде получить в ответ, без каких-либо условий, другую милость — uenia. Вложенный здесь смысл — это не буквальное религиозное проявление любви — bhakti. Римский вариант почитания не включает излияния чувств, однако в строгом смысле precor, ueneror, встречающиеся в формулировках, добавляют порыв покоряющего доверия, желание быть обаятельным, соблазнительным, в расчете на то, что бог-адресат не устоит перед этим обаянием. Таким должен был быть в этом религиозном обычае смысл исчезнувшего существительного *uenus. Вероятно, это слово использовалось и для обозначения других намерений, имея более магическое, непреодолимое значение в производном слове uenenum (*uenes-no-), передающее смысл φίλτρον. Можно себе представить, что, в профаном контексте, женское обаяние, при его умелом применении так сильно воздействовавшее на мужчин-партнеров, характеризовалось с помощью того же слова, что и ловля (captatio) человеком бога. Конечно, это объяснение всего лишь гипотеза, но оно, тем не менее, более правдоподобно, чем все, что предлагалось ранее. Именно этот *uenus стал олицетворением, которое в слове женского рода прекрасно подходило для обозначения всевозможных сил. Было ли это результатом спонтанного развития? Или это ухищрение, направленное на то, чтобы получить для Рима и латинского языка эквивалент греческой соблазнительницы, очаровательной Афродиты, либо ее этрусской тени — Туран? Такое влияние более чем вероятно. На юге Италии, также встретившись с греческой Афродитой, оски дали ей другой перевод, не менее ученый и также представляющий собой абстрактное существительное — Herentas, т. е. слово, связанное с корнем her- «хотеть», нечто подобное латинскому uoluptas (а не uoluntas[529]), связанному с корнем uelle. Поэтому с самых первых проявлений Венеры, надо иметь в виду «Иностранцев», а в конечном счете «Иностранку», которая ее породила. Фактически до III в. в Риме был известен только один из ее культов — культ Calua, касающийся женского обаяния как одного из ее средств воздействия, в течение долгого времени никем не оспоренного, — это волосы: это либо было напоминанием о жесте замужних женщин, принесших в жертву свои волосы во время галльской осады, чтобы дать материал для изготовления канатов для машин, либо — «когда правил Анк», — отражало надежду получить возможность восстановления волос, которые женщины утратили во время эпидемии. Якобы тогда была возведена статуя «Лысой Венеры», что, возможно, следует понимать как «Венере лысых»[530]. Однако за пределами этого древнего культа, оставшегося непонятным (по-видимому, Обсеквенту), Венера Лация и Венера Рима полностью находятся под влиянием троянской легенды. О них пойдет речь позже. Происхождение Фортуны неизвестно. Если обычно считается, что она пришла к римлянам из других мест Лация, то потому, что действительно древние культы этой богини — более авторитетные, чем римские — существовали в Пренесте и Antium, и они оказали влияние на римские культы (по крайней мере, культ в Пренесте). Однако это отнюдь не является доказательством того, что римляне независимо, сами, не обожествили по-своему эту абстракцию, имеющую понятное (и такое живое во все времена в их языке) имя, первоначально — в смысле «удача, шанс». Как бы то ни было, она получала все новые культы, иногда весьма живописные, с особыми именами, которые в легендах более или менее объяснялись. Древние составили список этих имен. Само понятие провоцировало такую дробность. Влияние греческих представлений Τύχη, маловероятное вначале, стало действительно реальным позднее, с появлением поэтов, писавших по-гречески[531].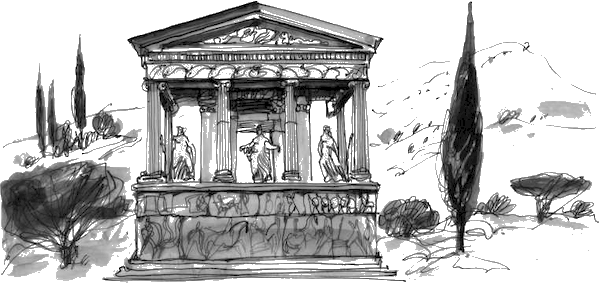
Глава III БОГИ ВРАГА
За исключением коротких периодов, жизнь в Риме не была спокойной, и если трудно допустить, что при третьем царе Рим был уже достаточно силен, чтобы разрушить Альбу и занять ее место, то нет сомнений в том, что царская власть оставила в наследство Республике не только значительное могущество, но и сильное стремление — tu regere imperio populos… [532]. Войны, победы, завоевания обогатили мир богов Рима. Формы инкорпорации богов завоеванных или разрушенных городов, по-видимому, с самого начала были разнообразными, и они изменились так, что систематизация, которую неоднократно предлагали постфактум эрудиты последних веков Республики, не вполне отражают даже то, что хорошо известно. Самая известная и одна из древнейших форм — это euocatio (склонение на свою сторону). Римляне были убеждены, что любой город находится in alicuius dei tutela (под покровительством какого-то бога). Поэтому, когда осада подходила к концу, и они были близки к тому, чтобы захватить город, римляне обращались к богам — его покровителям — с традиционной формулой, определенной песней (certo carmine), призывая их отказаться от своей родины и благоприятствовать осаждающим, обещая за это воздать им в Риме такие же или еще бóльшие почести (Macr. 3, 9, 2; Plin. N. H. 28, 18, как пишет Веррий Флакк). Они поступали так либо потому, что были не уверены, либо, скорее, во избежание святотатства (Serv. Aen. 2, 351), считая непозволительным держать богов в плену. И тогда совершалось жертвоприношение, и рассмотрение внутренностей показывало, принять ли предложение римлян или нет (Macr. ibid. 9). Макробий (ibid. 7–8) переписывает текст carmen euocatio (текст присяги), причем тщательно отличает его от carmen deuotio (текста обета) в случае, когда речь шла о взятии вражеских городов (ibid. 9). Однако поскольку он его использует в связи с поздним и, как полагают, сомнительным упоминанием богов, покровительствовавших Карфагену, некоторые авторы не склонны сохранять саму формулировку, несмотря на то, что в ней присутствует архаичная симметрия (которую можно видеть, например, в молитвах Турсе ритуала Игувия): богов, и в первую очередь главного бога, просят, в частности, ut uos populum ciuitatemque Carthaginiensem deseratis, loca templa sacra urbemque eorum relinquatis[533], а затем Roman ad me meosque ueniatis nostraque uobis loca templa sacra urbs acceptior probatiorque sit[534]. Обещание Римского культа, эквивалентного отмененному на вражеской территории культу, делает «эвокацию» процедурой религиозного права, отличающейся от магического и принудительного действа, обозначаемого глаголом excantare (excantare fruges, например, т. е. «перенести хорошие урожаи с чужого поля на свое»). Как и обет (deuotio), это — предложение о соглашении, которое совершающий эвокацию считает настолько соблазнительным для богов, что не предполагает отказа. Нет никаких оснований считать, что дело когда-либо обстояло иначе. Вероятно, с такой просьбой обращались только к тем богам, которые были приемлемы для Рима, либо имелось раннее и устойчивое истолкование, или же некое созвучие, идентифицировавшее того или иного бога с римским божеством. Аналогично, и ведический поэт просит Индру, например, отказаться от жертвоприношений других «арьев», и принять его жертвоприношение: но такой же призыв, обращенный к богам не-арийским, к богам варваров, совершенно немыслим. Аналогично этому существует хеттский ритуал «эвокации», который Ludwig Deubner и Всеволод Базанов удачно сравнили с римским ритуалом. Он включает призыв к богам осажденного города выйти тремя путями, окрашенными в белый, красный и синий цвет. Это предполагает классификацию индоевропейских богов с помощью тех же символических цветов трех функций, что и у индийцев и иранцев. Фактически, единственный достоверный случай эвокации, который упомянут в летописях, это эвокация, обращенная к Юноне Царице (Regina) в Вейях, совершенная Камиллом в 396 г. — в конце этой долгой и ужасной войны, ход которой был расцвечен эпическим повествованием. Так вот: Юнона Царица уже давно имела резиденцию в Риме на Капитолии, когда ее двойник из Вейев — по-видимо-му, вариант Уни (Uni) — откликнувшись на призыв, располагается на холме Авентин. Все это было в большой мере приукрашено, однако подробности (выдуманные или реальные), тем не менее, прекрасно отражают цель ритуала и состояние духа тех, кто его совершал (Liv. 5, 21, 3—22). Пообещав Аполлону Дельфийскому десятину с добычи в благодарность за благоприятные предсказания, — говорит легенда, — диктатор обратился к богине осажденных: «А тебя, Юнона Царица (Regina), покровительствующую сейчас Вейям, я прошу последовать за нами — победителями — в наш город, который скоро станет твоим — туда, где тебя примет храм, достойный твоего величия». Жители города Вейи еще не знали, что они обречены. «Они не знали, что их собственные прорицатели и иноземные оракулы уже предали их, что уже некоторых богов звали на дележ захваченных у них трофеев, и что другие боги, к которым обращались из их города с обетами, уже смотрели в сторону храмов и новых жилищ, которые ждали их у врага. Короче говоря, они не знали, что проживают свой последний день…». Как только город был захвачен и разграблен, а граждане, libera corpora, проданы с аукциона, Камилл засвидетельствовал свое повелительное уважение богине, которая так удачно предала своих первых почитателей (Liv. 5, 22, 4–7): «Из всей армии были отобраны юноши, чисто вымыты и одеты в белые одежды, чтобы переправить в Рим Царицу Юнону. Они с благоговением вошли в храм, но не осмеливались дотронуться руками до статуи, так как — согласно этрусским обычаям — только священник из определенной семьи имел право на это. Тогда один из них, то ли по божественному вдохновению, то ли по юношеской дерзости, сказал богине: “Ты хочешь прибыть в Рим, Юнона?” А остальные юноши воскликнули, что богиня кивком ответила утвердительно. Позднее даже добавляли, что ее ответ был услышан, и что она сказала: “Да, я этого хочу”. Во всяком случае, рассказывают, что ее очень легко подняли с места, и казалось, что она охотно следовала за теми, кто ее нес; что статую целой и невредимой поставили на холме Авентин — ее вечное место пребывания: там, куда ее призвал обет римского диктатора, и где сам автор обета Камилл затем освятил ее храм». Но почтительное заклинание было не единственным, и даже не обычным, что выпало на долю богов побежденных городов: побежденные вместе с городами, эти боги подпадали под власть полководца и римского народа. Щепетильность, о которой говорят Макробий и Сервий, описывая происхождение эвокации — поскольку полагают, что непозволительно держать богов в плену, во избежание святотатства, — опровергается следующим фактом: сацеллум Минервы Пленницы находится «в том месте, где Целий начинает спускаться к долине, и где дорога почти не имеет наклона». Из всех объяснений, которые Овидий дает этому имени, приемлемо только одно — то, в котором слово capta сохраняет свое обычное значение (F. 3, 843–844): «…Либо дело в том, что она прибыла в Рим пленницей после полного покорения фалисков (Falisques), как об этом свидетельствует древняя надпись?». Этот жестокий эпитет в достаточной мере доказывает, что в 241 г. богиня, после окончательного захвата Фалерий (Liv. per. 20), уже не почиталась как Юнона из Вейев, а что с ней обращались как с побежденной, следуя закону победителя. Этот закон будет по-прежнему существовать, и даже, скорее, будет ужесточаться по мере того, как пределы завоеваний Рима будут отдаляться от ближних, хорошо знакомых земель. Тертуллиан этим возмущается (Nat. 2, 17): «Римляне совершили столько же святотатств, сколько захватили трофеев. Они победили столько же богов, сколько народов: в качестве доказательства я приведу только захваченные в плен статуи». Дигесты (11, 7, 36) рационально и холодно обосновывают закон победителя, которому следовали римляне: «Когда места захвачены врагами, там не остается ничего святого (religiosa) и священного (sacra)». Однако уже Плавт (Amph. 258) так описывал капитуляцию: «святыни, и имущество, и город, и детей сдают»[535]. Тит Ливий вторит этому в формулировке, которую приводит в самом начале своей работы (1, 38, 1–2) по поводу капитуляции сабинян вКоллации: царь Тарквиний спрашивает: «Являетесь ли вы представителями и глашатаями, посланными коллатинским народом, чтобы заявить о том, что вы сдаетесь — вы и коллатинский народ? — Да, мы ими являемся. — Свободен ли коллатинский народ распоряжаться собой? — Да. — Вы сдаетесь — вы и коллатинский народ, отдавая земли, воды, город, межевые столбы, храмы, движимое имущество? Отдаете ли вы в мою власть все божественное и человеческое, а также во власть римского народа? — Да, мы сдаемся. — А я принимаю все, что вы отдаете». Этими священными предметами (sacra), переданными им в полное владение, Рим и его вожди распоряжаются вольно, без каких-либо ограничений, кроме разве совестливости в сфере религии, если они могли испытывать такое чувство. Конечно, во многих случаях культы исчезали, когда уничтожались физически или юридически те, кто их исповедовал. По отношению к государствам или родам, попадавшим в полную власть римлян, Рим лишь распространял на них практику, вследствие которой исчезали мелкие личные священные предметы вместе с родом, к которому они принадлежали. Но так же, как (следуя другому обычаю) государство вмешивалось, чтобы спасти либо родовые священные предметы, значительные, но пришедшие в упадок, либо общественные священные предметы (sacra publica), богослужение в которых было на обязанности родов, — победоносный Рим, самодержавно распоряжаясь sacra побежденных, мог спасти и их. Арнобий (3, 38) говорит, что обычно римляне разделяли на две части культы завоеванных городов: одна часть дробилась, попадая частным образом в римские семьи, а другая часть присоединялась к общественным священным предметам, и иногда доверялась семье полководца-победителя. Впоследствии Рим, уже ставший Империей, внес некие оттенки в отношения с побежденными народами, и возможности для статуса их богов стали более разнообразными. Часто суровость в отношениях сохранялась. Так, после взятия Капуи (Capoue), которая заслуживала строгой кары, все захваченные статуи были переданы коллегии понтификов, чтобы установить, какие из этих статуй священные, а какие — светские (Liv. 26, 34, 12): ни одна статуя не была оставлена в городе. Однако в других войнах, которые вел Рим, могли сложиться такие условия, когда покоренному противнику все же оставлялась некоторая свобода, причем (в соответствии с древним обычаем) степени этой свободы были различны. Так, в связи с некоторым милосердием, проявленным Сципионом в Испании, Тит Ливий (28, 24, 7) говорит, что существовал древний обычай, согласно которому побежденный народ не считался усмиренным и не получал соответствующего обращения до тех пор, пока он не отдал все священное и человеческое, что он имел, не передал заложников, не сдал оружие, не принял гарнизоны в свои города (за исключением случаев, когда с ним был заключен договор о дружбе или в результате переговоров на равных условиях был заключен союз). Следовательно, foedus, leges aequae[536] удерживали священные предметы на месте. Что касается союзных государств, то они свято хранили свою независимость, и до тех пор, пока они не переходили — насильно или добровольно — в римское государство, их боги считались иноземными: такой осталась Фортуна из Пренесты, вопрошать которую о судьбах Сенат не разрешил Лютацию (Lutatius), победителю в первой Пунической войне, потому что в случае необходимости просить совета у богов государство должно использовать свои национальные средства, а не чужеземные: patriis, non alienigenis[537]. После вступления в гражданство культы союзников, хотя и не включались в римский общественный культ, все же входили в юрисдикцию понтификов. При Тиберии это старое правило было использовано специалистами по священному праву для решения одного щекотливого вопроса. Во время болезни Ливии (Livie) всадники дали обет совершить жертвоприношение Фортуне Конной (Equestris). И вот, по словам Тацита (Ann. 3, 71, 1–2), хотя Фортуна имела много храмов в Риме, у нее не было храма под этим прозванием. Однако вспомнили, что такой храм есть в Антии (возможно, вариант, отличавшийся от двух знаменитых Фортун этого города, или, может быть, речь идет об одной из них?). При этом вспомнили также, что «все италийские культы, храмы, статуи богов были в римской власти и распоряжении», и дар всадников был переправлен в Антии. Когда была придумана гибкая формулировка для городов, имеющих право самоуправления (формулировка, которой предстояло столь богатое будущее), — религиозный устав стали приводить в соответствие со статусом учреждения, причем иногда магистраты, даже в худшем случае, сохраняли за собой попечение о священных предметах (curatio sacrorum), либо ограничивались только соблюдением обрядов (Liv. 9, 43, 24). Такой консерватизм, хотя бы частично, был характерен для деятельности понтификов: Фест определяет как municipalia sacra — «те, которые соответствующие народы исповедовали издавна, до получения римского гражданства (ciuitas Romana). Понтифики считали, что традиционные формы культов должны сохраняться» (с. 273–274 L2). Благодаря искусному владению юриспруденцией и политикой, вожди и священнослужители Рима сумели придумать для частных случаев весьма полезные процедуры, но мы мало о них знаем. После подавления восстания латинян в 338 г. хотелось бы знать, какая судьба постигла священные предметы каждого из побежденных городов, с которыми (за исключением Велитров, Тибура и Пренесты) обошлись весьма мягко. Однако, хотя Тит Ливий и говорит, что с каждым городом были заключены особые отношения и декреты, все же он дает сведения только о политических и военных соглашениях, о судах, которые были конфискованы у Антия, чтобы украсить их рострами трибуну на Форуме. Упоминается только особый удел Юноны Sospita (Спасительницы), т. е. Seispes из Ланувия: «Право гражданства было предоставлено жителям Ланувия, и им вернули их sacra, правда с условием, что святилище и священная роща Юноны Соспиты будут общими для граждан Ланувия и для римского народа» (Liv. 8, 14, 2). Это странное сочетание, своего рода священная передача (communication sacrorum), в которой самоуправляющийся город остался престолом Юноны (Junonia sedes; Sil. Ital. 8, 360), имело интересные последствия. Знамения, происходившие в этом храме, обнародовались в Риме, который решал, каким будет искупление: в те годы, когда через Италию прошел Ганнибал, произошло несколько знамений. Все они были тщательно нейтрализованы. Эти знамения свидетельствовали о том, что богиня, привязанная к месту, все же интересовалась делами метрополии. Во времена Цицерона самым высокопоставленным магистратом Ланувия (которого еще называли диктатором) был римский гражданин, живший постоянно в Риме: его клиент Милон (Milon). Когда Милон, к счастью или к несчастью для себя, встретился с Клодием 18 января 52 г. в три часа пополудни, недалеко от Бовилл, и когда его рабы — без его приказа и без его ведома (если верить адвокату) — воспользовались этим случаем и окончательно лишили неугомонного демагога возможности наносить вред, он сам как раз невинно двигался по дороге в Ланувий: дороге обыкновенной, законной, необходимой (iter sollemne, legitimum, necessarium), — где он должен был назначить фламина Юноны (Cic. Mil. 27; 46). Однако дело не ограничивалось этими формальностями, подтвержденными второстепенными людьми. Каждый год (по-видимому, после вступления в должность) все консулы должны были совершить жертвоприношения этой Юноне (Cic. Mur. 90). Правда, в те времена — плебей Лициний Мурена является тому примером — наиболее почитаемый вольный город Ланувий давал Риму консулов (пока не дошло до того, что в лице Антонина Благочестивого он дал Риму императора). Священнослужители, ланувийские жрецы (sacerdotes Laniuini) — которых отбирали из римских всадников и которые являются аналогами тускуланских жрецов (sacerdotes Tusculani) — известны из надписей (CIL. IX 4206–4208, etc.). Modus vivendi 338 г. не помешал римлянам захотеть иметь на своей собственной земле объект в совместном владении, находящийся в шести милях от Рима. В 194 г. Гай Корнелий Цетег построил храм для Юноны под титулом Юнона Соспита, на Овощном Рынке. Построить такой храм он обещал еще три года тому назад, находясь по эту сторону Альп во время войны против галлов инсубров (Liv. 32, 30, 10; 34, 43, 3). Там были возданы почести Юноне, на которой было ее военное снаряжение. По-видимому, именно этот римский храм, а не храм в Ланувии, стал поводом для приключения, хорошо проясняющего форму религиозности, господствовавшей в Риме в начале I в. до н. э. В 90-м году Цецилия Метелла, дочь победителя при Балеарах (Baléares), заявила, что ей приснился сон, в котором она с великим трудом удержала молитвами Юнону Соспиту, желавшую покинуть свой храм. Его осквернили гнусностями, женщины предавались в нем грязной проституции, и, кроме того, у подножия статуи богини ощенилась сука (Jul. Obs. 55). Поэтому по приказу Сената консул Луций Юлий Цезарь реставрировал здание храма (Cic. Diu. 1, 4). Следует ли понимать это так, что в то время храм настолько пришел в упадок, что в нем происходило то, что обычно происходит в темных закоулках больших городов?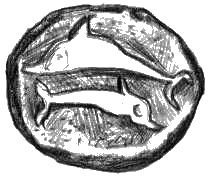

Глава IV БОГИ ТОРГОВЦЕВ
В конце царской эпохи, когда расширившийся Рим дал доступ весьма разнородному населению, в него проникло множество культов. В первую очередь, их приносили отдельные семьи. Это продолжалось в течение всего периода Республики: нумизматика обнаруживает приверженность Диоскурам со стороны Фонтеев, которые были родом из Тускула, а Тории и многие другие семьи, происходившие из Ланувия, поклонялись Юноне тех мест. Руководители официальной религии не видели в этом ничего плохого, и даже считали их приверженность своим богам желательной. Из этой благосклонности вышло несколько общественных культов. Случалось, что государство более активно интересовалось теми ритуалами, которые допускало, а иногда даже давало — при отсутствии полной натурализации — признание прав, место для совершения культа за пределами частных домов. И если сабинские верования Варрона не оказали воздействия, то, по-видимому, Аврелии (Aurelii) ввели бога Солнце, которого не было в прежнем списке религиозных праздников. Так, Фест говорит (с. 120 L2): «Полагают, что род Аврелиев, происходивший из сабинян, был так назван в честь солнца, поскольку римский народ дал им за счет государства место, где они могли совершать жертвоприношения Солнцу. Они были названы производным от имени солнца Аузелиями». Это указание идет, несомненно, от Варрона, который (L. L. 5, 68) приводит слово ausel в качестве сабинского названия солнца (Sol ausel — весьма убедительная коррекция для непонятного solauel, встречающегося в манускриптах). Однако, по-видимому, этот культ не получил распространения. И он, вероятно, не связан с puluinar Solis — священным местом на Квиринале, рядом с храмом Квирина (Var. Ibid. 5, 52). Обозначение места как puluinar, «подушка», упоминание названия вечерней звезды в надписи времен Квинтилиана (1, 7, 12) наводят, скорее, на мысль о греческом происхождении. Но могло быть и так, что один из этих культов, обретя слишком большую значимость и став общественным культом, был не только натурализован, но и национализирован. Нам известен лишь один пример такого процесса. Эта исключительность поставила под сомнение в глазах многих критиков рассказ историков о передаче, однако если не обстоятельства, то смысл развития сомнению не подлежит. Вот как Геркулес стал важным богом римского государства. На широком выходе к Тибру долины Великого Цирка — перед Палатином (per ima montis Palatini, Tac. Ann. 12, 24) — и у подножия Авентина два места связываются легендой и культом со знаменитым персонажем греческих мифов — Геркулесом: пространство у Тройных ворот и пространство у Великого Алтаря (Ara Maxima), самое важное в исторические времена Рима. В обоих местах легенда связывала главный памятник с самим героем: Храм Геркулеса Победителя у Ворот был построен рядом с алтарем Юпитера Изобретателя (Inventor), воздвигнутым Геркулесом; а Эвандр, либо опять-таки Геркулес или его спутники, оставшиеся в Италии, воздвигли Ara (алтарь) по случаю его победы над Каком. Таким образом, Рима еще не было, когда Геркулес освятил уже для него место. Геркулес и Как — это имена, которые вызвала в нашей памяти прелестная книга Мишеля Бреаля (Michel Bréal), хотя и устаревшая, но такая умная (1863): это было время, когда существовало восторженное увлечение индоевропейскими исследованиями. На самом деле легенда об их весьма недружественной встрече была еще не слишком древней, когда Вергилий оказал ей поддержку своим искусством. Вместе с вариантами это всего лишь одна из форм сказаний, популярных у италийских греков. Когда Геракл проходил через полуостров со своими быками, которых он захватил где-то на западе, отняв их у Гериона, пастуха Солнца, — несколько смельчаков захотели их у него похитить. В Кротоне это был некий Лакин или Лакиний. Его Геракл убил, а также, нечаянно, убил и Кротона — зятя разбойника, который хотел помешать краже. В качестве компенсации победитель пообещал, что Кротон даст свое имя могущественному городу (Diod. Sic. 6, 24, 7). В Локрах вором был царь — тоже Лакин, а невинной жертвой стал Локр, эпоним города (Conon Narr. 3). По-видимому, один из этих рассказов был принят на берегах Тибра. Роль злодея была приписана Каку — древнему персонажу, который нам известен только в трактовке Вергилия. Что касается имени, которое Геракл получил в Риме (Hercles, затем Hercoles, затем Hercules), то оно входит в число многочисленных искажений, зарегистрированных в Италии (этрусское Her(a)cle, Hercla, Erkle; в центральной Италии Hercle; оскское Hereklos; sabell. Herc(o)lo-), но никаких сведений о точном его происхождении нет. Фактически мы ничего не можем сказать о происхождении святилищ Геркулеса. Квартал, в котором они находятся, Бычий форум, был центром оживленной торговли. Окруженный обрывистыми тремя холмами — Авентином на юге, Палатином на юго-востоке и Капитолием на севере — он находился на пересечении двух главных путей, обеспечивавших Риму могущество: водного пути — Тибра, по которому приходили корабли, встречавшиеся с сушей в Остии, и сухопутного пути, который — через мост Sublicius[538], через Велабр и Субуру — связывал центральную Италию и Сабинию с морской Этрурией. Частично отвоеванный у болот, этот внутренний порт, вероятно, очень рано был заселен космополитами, создававшими оживление во всех крупных торговых центрах. Геркулес приходил сюда, причем, по-видимому, неоднократно приводил с собой своих поклонников из италийских городов[539]. До последних лет IV в. культ Великого Алтаря был частным, и его совершали члены семьи Potitii, с которой была связана — как подчиненная — семья Пинариев: два рода неизвестного происхождения, которые нет оснований считать иноземными, как нет и причин не доверять им как родам[540]. Легенда также связывала с Геркулесом их привилегии. Доказательством древности данного культа (менее головокружительным, но значительным) можно, по-видимому, считать глиняную статую Геркулеса fictilis (глиняного), игравшую важную роль в ритуалах: ее предполагаемым автором был тот же художник, который создал и Капитолийского Юпитера, — этруск Volca (Plin. N. H. 35, 157). Однако критик должен также допускать возможность того, что это достопочтенное произведение искусства не предназначалось изначально для того места, на котором оно находится. Многие этрусские города, и в первую очередь Вейи, были разграблены, лишившись своих богатств и своих богов. Как бы то ни было, в 312 г. все изменилось, и нам очень хотелось бы знать, в каких условиях произошло это изменение. Летописи утверждают, что цензор Аппий Клавдий убедил Потитиев уступить их семейное жречество государству, допустив к участию в ритуалах общественных рабов. За их самоотречение он заплатил, по словам Festus, хорошую цену — 50.000 асов. Бог не одобрил эту сделку, в которой он не был получающей стороной, или же он возмутился разглашением его тайн: в этом году Аппий Клавдий ослеп, а через год умерли все члены семьи, способствовавшие продаже (Liv. 9, 29, 6; Dion. 1, 40, 5; etc.). Однако божий гнев ограничился этими двумя наказаниями: с тех пор каждый год от имени Рима городской претор приносил в жертву быка (или телку) на Великом Алтаре. Какой подлинный факт кроется за этим рассказом? Некоторые считают, что главное — сама процедура — выдумано, и что следует думать (вопреки временной последовательности), что если государство взяло на себя совершение культа, то это потому, что вымерла семья-владелица. Как известно (Cic. Leg. 2, 47; ср. 2, 22), государство следило за тем, чтобы значительные личные святыни не исчезали вместе со служителями культа, так что в данном случае оно осуществило приобретение в собственность по наследству (usucapio pro herede). Однако трудно понять, почему столь банальное событие было так резко заново интерпретировано, что сюда проникло понятие продажи. Поэтому другие (например, Жайн Байе) полагают, что действительно имела место передача от семьи государству — либо путем communication sacrorum, либо юридически как in iure cession. Всё же причины этой весьма необычной операции остаются неясными. Согласно летописям, инициатором был цензор, а семья всего лишь дала свое согласие. Правдоподобное объяснение дает Жан Байе, хотя оно, возможно, слишком «экономическое». По его мнению, культ Великого Алтаря, хотя и был частным, но уже обретал в какой-то мере публичный характер вследствие введения налога — десятины (об этом речь пойдет ниже). Так как культ распространялся, то государство якобы сочло нужным его контролировать, а собственники сочли, что расходы становятся слишком обременительными — ведь десятина взималась в пользу бога, и их не обогащала. Поэтому они с облегчением приняли сделанное им предложение. Ежегодный праздник Великого Алтаря с возведением алтаря в священной роще и обустройством сацеллума, где находилась древняя статуя, происходил 12 августа. Его можно себе представить по описанию жертвоприношения, совершаемого Эвардром, которое Вергилий дает в восьмой песне Энеиды (268–305). Существуют и другие данные, подтверждающие весьма интересные стороны празднества. Ритуал был сочтен греческим (Serv. Aen. 8, 276). На совершавшем жертвоприношение человеке не было головного убора (Macr. 3, 6, 17, со слов Варрона; Serv. II, Aen. 8, 288), но был лавровый венок, собранный на Авентине (Serv. Aen., 276). Женщины к ритуалу не допускались (Macr. 1, 12, 28, Plut. Q.R. 60), как во многих греческих культах Геракла. Однако форма совершения жертвоприношения — оригинальная: обряды совершались утром и вечером, жертвоприношения проводились до полудня, а внутренности (exta) преподносились в конце дня, с пением гимнов, после того, как проходила процессия с зажженными факелами (Verg. Aen. 8, 281–305). Такой большой промежуток времени не укладывается в римское определение между закланием и возложением на алтарь (inter exta caesa et porrecta), которое, впрочем, касается культа только в одном случае — в летние Виналии. Вопреки обычной римской практике (обращение к Янусу или Янусу и Юпитеру, etc.), жертвоприношение Геркулесу не сопровождается упоминанием какого-либо другого божества (Plut. Q. R. 90, со слов Варрона). Наконец, тогда как существовал список — длинный, но с ограничениями — продуктов, которые можно включать в жертвоприношения другим богам, Геркулес мог есть и пить всё («Герсулесу же вся еда и питье»; Festus, c. 358 L2). Это обжорство, приписываемое Геркулесу легендой, распространялось и на тех, кто совершал культ в его честь, поскольку, — как говорит Варрон (L.L. 6, 54), — они съедали на месте все животное, даже его кожу (Serv. II, Aen. 8, 183), подобно тому как во время голода ели ремни. Но в еще большей мере, чем ежегодный ритуал, Алтарь характеризуется сбором налога-десятины, для чего, видимо, не было определенного времени. В легендах имеются многочисленные подтверждения: так, в одном из вариантов описания похождений Кака, его противник Рекаран принес в жертву Великому Алтарю десятую часть своего скота, следствием чего и явился «обычай Геркулесу десятую часть приносить в жертву» (Aur. Vict. Or. 6 5–7). Или же сам Геркулес посвятил в этот обычай Потита и Пинария (Potitius, Pinarius), принеся в жертву десятую часть отнятых у Гериона быков, которых тот вел в Аргос (Fest. c. 343 L2). Во всяком случае, десятина укоренилась и в немалой степени способствовала славе алтаря и культа. Сохранились живописные примеры, которые погружают нас прямо в «жизнь незнаменитых людей» Рима. Так, Мазурий Сабин во второй книге своих Достопамятных вещей рассказывает следующее (сохраненное Макробием в 3, 6, 11): Октавий Херсенн (Херенн?) в раннем детстве играл на флейте. Но это занятие ему наскучило, и он занялся коммерцией. Он собрал целое состояние, посвятив его десятую часть Геркулесу. Впоследствии, совершая плавание по делам, он подвергся нападению пиратов, храбро дал им отпор и победил их. Во сне Геркулес сказал ему, что спас его он. Тогда Октавий добился от магистратов, чтобы ему дали участок земли, и воздвиг там статую бога, назвав его в выгравированной на ней надписи победителем: Victor. Важнейшие слова в этом рассказе — это mercaturam instituit (занялся коммерцией). Этот молодой музыкант становится, если можно так сказать, клиентом и должником Геркулеса в тот день, когда — отвергнув свое искусство — он стал торговцем. Именно таково призвание бога. Поскольку его принесли с собой греки, которые не были ни философами, ни поэтами, а были негоциантами, — то приводимые в рассказе примеры его достоинств, вкусов, энергии, проявляемой в его земной деятельности, естественно оказались соответствующими предприимчивой и опасной жизни его почитателей. Так же, как Геракл, они путешествовали по миру. Поэтому жертвоприношения адресовались ему «возле дороги и совершались в момент отправления» (Fest. c. 334 L2). Как и Геракл, каждый из них шел своим путем, переживая бесчисленные эпизоды приключений, в которых они то с трудом добивались успеха, то вели рискованную борьбу на суше и на море. Поэтому они почитали Геркулеса под именем Победитель (Victor), в котором, может быть, просвечивает греческое καλλίνικος, но прежде всего за этим именем стоят и преодоленные трудности, и отброшенные нападающие. Опять-таки под именем Непобедимый (Inuictus) его чтут как непобедимого. Подобно Гераклу, они привозили с края света с трудом добытые богатства и пригоняли скот (как он некогда — быков Гериона). Соответственно, в дар Геркулесу приносится десятина из всего, что было заработано, спасено, накоплено. Остальное шло как что-то, достающееся сверх меры. Когда полководцы также заинтересуются Геркулесом и станут тоже давать ему десятину от своей добычи, то и тогда, конечно, сохранится старый меркантильный дух. Разве битва — это не великое и обогащающее приключение? Однако оно окрашено всем тем, что воин мог найти (в большей мере, чем торговец) в своей силе, своей отваге, своем мужестве, и в палице, и в легендарной тактике такого персонажа как Pourfendeur (вояка). Можно ли вознамериться ограничить значимость того влияния, которое эллинизм оказывал на людей самых разных профессий? В действительности много небольших святилищ Геркулеса в течение веков было создано удачливыми и образованными полководцами: в 187 г., возвращаясь после военной кампании в Этолии, Марк Фульвий Нобилиор построил между цирком Фламиния и Тибром объединенный храм Геркулеса и Муз (Cic. Arch. 27; Serv. II, Aen. 1, 8; Plut. Q.R. 59; etc.), где вызывали восхищение статуя Геркулеса, играющего на лире, и статуи муз, которые вылепил из терракоты Зевксида (Plin. N. H. 35, 66). Тесть Августа Луций Марций Филипп перестроил этот храм, окружив его портиком — настоящий музей греческой живописи. Великий Помпей реставрировал храм Геркулеса Помпейского около Великого Цирка (Vitr. 3, 2, 5; ср. Plin. N. H. 34, 57: храм Помпея Великого). Витрувий считал, что колонны портика слишком удалены друг от друга. Это не имеет значения, а примечательно само название, поскольку оно, видимо, представляет этого бога покровителем человека. Сам храм Геркулеса Победителя — круглый храм, по-видимому, перестроенный в 213 г. после большого пожара, опустошившего весь квартал, — сыграл свою роль в триумфе — особой церемонии, восхвалявшей в своего рода апофеозе личную доблесть и удачливость победоносного вождя: кортеж, который следовал от Марсова Поля к Великому Цирку, а затем доходил до Sacra Via и Капитолия, сначала пересекал Бычий форум и проходил перед храмом; бронзовую статую Геркулеса (шедевр Мирона) покрывали роскошными одеяниями, причем статую ставили на пороге храма, чтобы она могла участвовать во всеобщем воодушевлении. В этом IV веке, в котором произошло так много нового, Геркулес дважды проявил свою двойственную природу: ведь он был признан римлянами, будучи иноземным, и, по-видимому (как показал Байе), становился все более чуждым — по мере того, как знакомство с греческой реальностью укрепляло связи с космополитичным искусством. С одной стороны, когда Рим, в последней трети века, выпустил свои первые денежные знаки, — Геркулес был изображен на монете в четверть асса, quadrans, несмотря на свое греческое имя. С другой стороны, в начале века первый совместный лектистерний — великий момент в развитии graecus ritus (греческого обряда) — соединил Геркулеса с Дианой, которая была равнозначна Артемиде, и это создало одну из трех «умиротворенных» пар на трех великолепных ложах (Liv. 5, 13, 6). Геркулес появился на набережных Рима с приходом туда греческих торговцев, и он был для римлян не столько богом торговли, сколько богом той энергии, которой требовало это ремесло. Чистым мастером этого дела был Меркурий, который тесно связан с деятельностью, отраженной в его имени. Его происхождение выяснить невозможно: на одной гидрии, найденной в окрестностях Капуи, имеется посвящение Mirikui (Vetter, № 136), а на довольно многочисленных черепках чаш из фалискских земель видны слова tito(i) mercui efiles (Vetter, № 264): «эдилы — по-видимому, это рыночные чиновники — Титу Меркусу». В надписи перед именем бога стоит еще мужское имя, понять которое невозможно. Таким образом, за пределами Рима подтверждено u в Mercurius, тогда как в римском латинском языке имеется только основа merx, состоящая из согласных. Отсюда был сделан вывод (возможно, несколько поспешный), что это имя не римское, а заимствованное. Во всяком случае, культ Меркурия древний, а в летописях говорится, что он появился (как и культ триады Церера — Либер — Либера) сразу после изгнания Тарквиниев. Тит Ливий указывает на посвящение храма Меркурия (aedes Mercuri) в Великом Цирке в майские иды 495 г. — того самого года, когда умер Тарквиний Гордый, будучи в ссылке в Кумах (2, 21, 7), и за два года до введения культа плебейской триады (493 г.). Он уточняет, что это вызвало конфликт между плебсом и патрициями: народ, — чтобы оскорбить консулов, — поручил совершение обрядов центуриону (2, 27, 5–6). Обстоятельства закладки храма показывают, что культ Меркурия в то время был связан с торговлей, в особенности со снабжением продовольствием: до публичного оскорбления патрициев, Сенат принял решение, что тот из двух консулов, которому народ доверит посвящение, будет руководить также продажей зерна и организует коллегию торговцев. Прямо или косвенно (через этрусского Турмса), греческий Гермес, несомненно, стоит за Меркурием, и римляне это прекрасно поняли, так что при первом же общем лектистернии (399 г.) они присоединили Меркурия к морскому богу Нептуну-Посейдону и создали одну из трех пар. Однако Гермес, которого он представлял, долго был только покровителем всех трудов (Fest. c. 251 L2). И именно в этом качестве он предстает перед зрителями в первых стихах Амфитриона, пользуясь тяжеловесным лексиконом коммерции, хотя «труд» (negotium), которому он покровительствует в пьесе, не имеет ничего или почти ничего общего с торговлей:Ut uos in uostris mercimoniis emundis uendundisque me laetum lucris adficere atque adiuuare in rebus omnibus…[541]Даже Овидий, взывавший в Фастах (5, 663–692) сначала к Меркурию, который является Гермесом во всей своей обобщенности, сразу же возвращает его к его римскому масштабу, чтобы описать ритуалы его празднества в майские иды. Он говорит:


Глава V ПЕРВЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ БОГИ
Однажды иноземная старуха принесла Тарквинию Гордому девять книг, в которых (по ее словам) содержались божественные истины, и предложила продать ему эти книги. Царь поинтересовался ценой. Она ему назвала такую чрезмерную цену, что царь подумал, что она страдает старческим безумием, и рассмеялся. Женщина поставила перед ним переносной очаг, сожгла три из девяти книг и спросила царя, не купит ли он у нее оставшиеся шесть книг за ту же цену. Царь рассмеялся еще сильнее. Старуха сожгла еще три книги и невозмутимо предложила ему купить три последние книги за ту же цену. Увидев такую уверенность, Тарквиний посерьезнел, подумал и купил эти книги, не торгуясь. Женщина исчезла — передав, таким образом, Риму через тщедушного этрусского царя один из великих инструментов религиозной науки: книги Сивилл (libri Sibyllini), к которым, как к оракулу, имели доступ только дуумвиры, затем децемвиры, затем квиндецемвиры — до тех пор, пока государство не стало беспокоиться о знамениях. Авл Геллий говорит (1, 19, 1), что он нашел эту историю в древних анналах. Позже мы рассмотрим этот щекотливый вопрос, но здесь нам следует об этом упомянуть, потому что многие историки используют старуху, чтобы дать римское прошлое богу будущего — Аполлону. Так как Сивилла была родом из Кум, а последующие летописи благодаря имени Аполлона гарантировали влияние и вес этим писаниям, то — несмотря на отсутствие свидетельств — был сделан вывод, что культ этого бога существовал с царских времен. Такой вывод неправомерен. Составленные изначально, по-видимому, из формулировок различного происхождения: этрусских, латинских, греческих — эти писания, в конце концов, получили название сивиллиных. Вероятно, они долго существовали независимо и были самодостаточными. В течение долгого времени они хранились в храме Юпитера, правителя всего мира. Что касается древних связей, через Кумы, с Аполлоном оракулов: с Аполлоном, который говорил в Дельфах, — то они маловероятны. Совет, за которым сыновья Тарквиния и Брут якобы ходили к Пифии, — всего лишь легенда, целью которой было придание значимости, с помощью фольклорной темы, «уму дураков». Столь же маловероятно, что обращение с вопросом по поводу альбанского озера и обещание десятины могли бы быть историческими фактами: повествование об этих годах и о деяниях Камилла — это литература, которой для предвосхищения Энеиды недоставало только сформировавшегося литературного языка, поэта и аудитории. Когда Тит Ливий, начиная со своей десятой книги (8, 2), называет главными в священнослужениях Аполлону — дуумвиров, выполняющих священнодействия, в ведении которых находятся иноземные культы и которые имеют доступ к Сивиллиным книгам, то это всего лишь анахронизм, так же не проясняющий происхождения, как треножник и дельфин, которые позднее стали знаками отличия этих священнослужителей. Единственный Аполлон, которого знали в Риме V в. — это Аполлон-целитель, который не связан с Книгами ни в каком отношении. Обещанный в 433 г. во время эпидемии, этот храм был посвящен в 431 г. консулом Корнелием Юлием Менто на фламиниевом лугу, у подножия юго-западного склона Капитолия. Тит Ливий — сказав, что храм Аполлону ради здоровья народа был посвящен, — добавляет, что дуумвиры, ex libris (т. е., как он думал, согласно Сивиллиным книгам), много сделали для того, чтобы умиротворить богов и отвести бедствие. Однако сам порядок следования фраз исключает возможность того, чтобы он считал, будто обещание храма тоже было ex libris (4, 25, 3; ср. 29, 7). В другом отрывке Тит Ливий уточняет, что место, где был воздвигнут храм, уже раньше называлось Святилище Аполлона (Apollinar, Liv. 3, 63, 7). Нет никаких причин подвергать сомнению это указание, однако не следует делать вывод, что прежде существовал общественный культ этого бога. Там могла быть часовня или место для приватного совершения культа — наподобие тех, какие, по-видимому, имел Геркулес, прежде чем быть признанным римским родом, а затем и государством. Его аспект как врачевателя (Medicus), кажется, особенно запомнился римлянам, до того как появились более надежные контакты с греческой религией и до кризиса во время второй Пунической войны. Даже в первом объединенном лектистернии в 399 г., куда вошли три пары — Аполлон и Латона, Диана и Геркулес, Меркурий и Нептун, — Меркурий назван первым, увлекая за собой, по крайней мере, мать и сестру. И вот что дало повод для этой греческой церемонии: тяжелое и чумное для всего живого лето (Liv. 5, 13, 4). Впрочем, судя по эпиграфической документации, не создается впечатления, что этот культ — учрежденный Сенатом, возможно, благодаря тому, что ранее существовало поклонение небольшой группы людей — получил большое влияние до наступления великого пунического кризиса. И даже тогда не образуется ничего значительного или длительного. Это был только политический и религиозный интерес, который Август позже придал богу своего отца, что ненадолго сделало Аполлона одним из главных покровителей жизни и литературы Рима. Другой целитель, более техничный, появился в начале III в.: Асклепий — ранее Aisklapios — получивший имя Aesc(u)lapius. В то время вошли в обиход греческие обычаи. В этот самый год впервые квириты присутствовали на Римских играх с венком на голове, а также впервые, по греческому обычаю, победителям вручались пальмовые ветви. Поэтому, когда в сельской местности и в городе разразилась эпидемия, которую можно было бы счесть за знамение, обратились к Сивиллиным Книгам, откуда узнали, что надо вызвать Эскулапа из Эпидавра и доставить его в Рим. Из-за нехватки времени, поскольку консулы были заняты войнами, на тот момент ограничились днем суппликации[543]. Однако вскоре посланные в Эпидавр уполномоченные привезли священную змею, представлявшую бога. Позднее стали рассказывать, что — сев на корабль в Греции — Эскулап по собственному желанию высадился на южной оконечности Тибрского острова, и что, как только он появился, болезнь прекратилась. Ему был посвящен храм, расположенный именно в этом месте (в 291 г.). Подобно Асклепиевому, священное здание было окружено портиком, куда больные приходили для incubatio, т. е. проводили там ночь в надежде на то, что им откроется рецепт для выздоровления. Так же, как в Греции, змей и собак содержали священнослужители (Fest. c. 233 L2). В русле Тибра были найдены благодарственные вотивные предметы. Божественное управление здоровьем в обществе, действующее в Эпидавре — Аполлон, Асклепий, Гигея (Paus. 2, 27, 6), — пополнилось в следующем веке. Эпидемия так долго свирепствовала в Риме и в Италии, что в 180 г. — после смерти консула, претора и многих высокопоставленных людей — было решено отнести эту эпидемию к разряду знамений. Тит Ливий говорит (40, 37, 2–3):«Великому понтифику Гаю Сервилию приказали постараться смягчить гнев богов, децемвирам — обратиться к Сивиллиным книгам, а консулу — торжественно обещать Аполлону, Эскулапу и Здоровью[544] дары и поставить им золоченые статуи, что он и исполнил. Децемвиры объявили в Риме, а также по всем городкам и торжищам двухдневное молебствие о здравии народа; в нем, украсившись венками и с лавровыми ветвями в руках, участвовали все старше двенадцати лет»[545].Рассудочные римляне этим не ограничились. Они заподозрили, нашли и казнили по крайней мере одну отравительницу или женщину, которая имела такую репутацию (ibid. 5–7). Интересно наблюдать, как Сенат вводит в действие одновременно четыре независимых и дополняющих друг друга процедуры, подведомственные великому понтифику, децемвирам, консулу и претору. Лет через сорок после Эскулапа, Книги представили Риму более впечатляющую пару. В 249 г., в трудный момент первой Пунической войны и после целого ряда угрожающих предсказаний, децемвирам снова пришлось обратиться к колдовским книгам. Позднее рассказывали, что надо на Марсовом Поле три ночи подряд проводить Тарентинские игры (или Терентин-ские) в честь Дита (Dis) и Прозерпины, а также принести им черные жертвы; и, в конце концов, надо пообещать возобновить ритуал спустя эпоху, т. е. сто лет (Варрон, в Censor. 17, 8)[546]. Последнему пункту предстояло принести плоды: отделенный от двух адских божеств, этот вид греческого обряда породил Вековые Игры[547]. Их последовательность известна, причем во времена Августа хронология была подправлена с целью оправдать год, который он выбрал для «своих»[548]. Богач Дит — полное соответствие греческому Πλούτων, а имя Прозерпина — это искаженное Περσεφόνη, результат народной этимологии (либо, скорее, этрусский вариант произношения). Как мы видели, раннее представление римлян о потустороннем мире было весьма смутным. Манам нечего было делать с царем или царицей. Таким образом, пополнение принесло с собой новое понимание, которое, правда (как нам представляется) не оказало глубокого влияния на верования римлян. В этом отношении, как и во многих других случаях, блестящая литература последних веков, испытавшая греческое влияние, вводит в заблуждение. В северной части Марсова Поля, вблизи от Тибра — по-видимому, в месте, называвшемся Тарент (Терент?; Fest. c. 420 L2; Serv. Aen. 8, 63), — царь Преисподней и его супруга, вероятно, имели подземный алтарь, доступ к которому был открыт в редкие моменты, когда отмечался их праздник. При этом точное представление, в общем, вполне утешительное, которое связывалось с их именами, должно быть, начало беспокоить не одну неудовлетворенную душу.
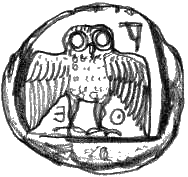

Глава VI ПОПЫТКА УСТАНОВЛЕНИЯ ХРОНОЛОГИИ
Эскулап, Дит и Прозерпина, хорошо отграниченные и контролируемые, — это всего лишь начало. И сами обстоятельства их признания уже предвещают значительное пополнение. Настало время вернуться к вопросам хронологии. Мы проследили и распределили по типам — с конца царских времен до кануна величия Рима — многочисленные способы, к которым прибегала древняя теология для своего расширения, не претерпевая еще искажений. Теперь следует уточнить, насколько это возможно, т. е. в общих чертах, статистическую сторону и выяснить, как эти способы распределялись во времени, и — шире — как в течение веков, при малой осведомленности о них, Рим вел себя по отношению к богам и к различным иноземным культам. Самые древние политические и религиозные отношения Рима с ближайшими соседями выявить невозможно. Нам кажется, что мы смутно различаем особые связи с Тускулом, Лавинием, Тибуром и некоторыми другими городами Лация. Представляется, что именно эти связи позволили Риму позаимствовать у этих городов культы, которые сразу же стали расцениваться как национальные культы, внедрившиеся в померий. Можно также обнаружить неоднократные реорганизации Лация, происходившие в условиях сменявших друг друга гегемоний. Самый заметный след в религии, кроме некоторых аспектов культа Дианы, оставил культ Юпитера Покровителя Лация (Jupiter Latiaris), который достигший господства Рим взял под свою ответственность. То, что осталось от этрусского периода в религиозной сфере и от оставленного этрусками наследия, трудно оценить. Это позволяет допускать преувеличения. Хотя календарь происходит от этрусков, однако даже самая древняя его форма, которая нам известна, уже не является царским календарем. Там есть лишь несколько случаев вмешательства священного царя в несущественных упоминаниях (Q(uando) R(ex) C(omitiauit) F(as); regifugium…). Т. е. это упоминание было либо целиком вставлено, либо подправлено уже после изгнания этрусских царей. Кроме того, содержание календаря, занесенные в него празднества, в подавляющем большинстве случаев — чисто латинские. Можно предположить, что Etrusca disciplina (Этрусские знания) — некоторые приемы подачи информации и указания о священных действиях — сохранились после изгнания, однако также и здесь понадобится много времени для того, чтобы искусство предсказания по внутренностям жертвенных животных (haruspicine) стало использоваться государством. Искусство авгуров в собственном смысле слова — со своим вполне римским названием — всегда отличалось от haruspicine. Капитолийская триада, хотя и окрашена влиянием этрусков, тем не менее, как мы видели, любые попытки оценить его ведут к гипотезам, среди которых трудно сделать выбор, а некоторые их них, через Этрурию, уводят уже в Грецию. В конечном счете, одна из главных услуг, оказанных «Тарквиниями» Риму, заключается в том, что открылся путь для более отдаленных влияний, в частности для греческого влияния, а также в том, что Рим получил образец интерпретаций: Туран-Афродита, Уни-Гера, Тиния-Зевс, и такдалее. Постепенно такие интерпретации распространились почти на весь пантеон, благодаря чему великолепная греческая мифология вытеснила древние латинские легенды. Соответственно, появление в Риме первых статуй, строительство первых храмов этрусскими мастерами, которые сами прошли греческую школу, привело к тому, что боги постепенно становились более человечными, обретали тело и душу. Хотя невозможно точно определить, насколько плебейская триада Церера — Либер — Либера, противостоявшая капитолийской триаде, испытала влияние греческих концепций, и носят ли Сивиллины книги характер анахронизма, все же остается вероятным, что, по крайней мере, рамки, объединение трех аграрных божеств — двух женских и одного мужского — восходят к Великой Греции. Кроме того, мы помним, что греческие художники (Дамофил, Горгас) участвовали в украшении храмов. Хотя невозможно точно установить, что культ Геркулеса возник на берегах Тибра, все же он, несомненно, является весьма древним культом и, должно быть, восходит к до республиканским временам, когда господствовало процветание торговли. Поскольку не было устойчивой власти, гегемония этрусков обеспечила навигацию, передвижение по суше, и связала Рим с обширным миром. История двух следующих веков, заполненная борьбой с ближайшими соседями, затем со все новыми соседями, круг которых все время расширялся, — обнаруживает большой перерыв в мирном нашествии греческих богов: через эвокацию, через захват, через смешение происходит процесс обретения Римом богов Лация или Этрурии[549]. В V веке нет ничего греческого, кроме возведения храма Аполлона в 431 г. — после эпидемии чумы в 433 г. Но даже и этот бог-целитель не был незнакомцем: как мы видели, более древнее Святилище Аполлона (Apollinar(e)) делает его современником в Риме мастера Алтаря Геркулеса (Ara Maxima). Даже в начале IV в. первый большой лектистерний действительно собирает попарно богов либо греческих, либо отмеченных греческим влиянием. Однако сам ритуал происходит не из Великой Греции, а с Севера, а именно, как представляется, — из этрусского города Цере; а Сценические игры (ludi scaenici), учрежденные в 363 г., — не греческие, а этрусские. Следует ли отнести к безвестным векам или к еще более ранним временам — к царской эпохе — один из самых необычных римских праздников? Кроме процессии 17-го марта, о которой мы ничего не знаем и которая делала остановки у часовен, находившихся в четырех районах, носящих имя Сервия Туллия (однако авторы называют их то sacella Argeorum — небольшое аргейское святилище, то Argea, и даже Argei — Аргеи), это наименование, которое ясно отсылает к «аргивянам» (грекам), относилось к похоронному обряду 14-го мая. Тогда так назывались манекены, изображавшие мужчин со связанными руками и ногами, которых понтифики и магистраты торжественно проносили по мосту Sublicius, откуда весталки сбрасывали их в Тибр. При этом присутствовала одетая в траурный наряд фламиния Юпитера. Смысл и происхождение этого обряда, в совершении которого участвовали и миряне, и понтифики, и самые высокопоставленные государственные деятели, были непонятны уже тем эрудитам, которые донесли до нас эти сведения, однако вполне вероятно, что речь идет о некоем очищении, о козлах отпущения, каждый из которых, возможно представлял какой-то квартал Рима. Были ли эти манекены заменой человеческих жертв (как до Виссовы полагали некоторые древние авторы)? Или же этот ритуал всегда ограничивался функцией символического изображения (как считает Латте)? Ничто не позволяет делать какие-либо выводы, хотя вторая гипотеза представляется более правдоподобной. Примечательно, однако что фигурки, которые сбрасывались в Тибр, носили имя аргивян. С этим можно лишь сопоставить, к сожалению, достоверные случаи ритуальных убийств, если не человеческих жертвоприношений в собственном смысле слова, засвидетельствованные в исторические времена. Обычно для этого выбирались попарно двое мужчин и две женщины, которых погребали живыми на Бычьем форуме. По-видимому, в 228 г. инсубры, состоявшие в союзе с другими галльскими племенами, стали угрожать Италии. Под воздействием великого страха — причем Плутарх (Marc. 3, 4) считает, что к этим варварским действиям прибегли впервые — на основе указаний Сивиллиных книг, римляне казнили не только одного галла и одну галльскую женщину, но, кроме того, и одного грека и одну гречанку — «кому, по словам биографа Марцелла, они и сегодня тайно приносят жертвы, которых никто не видит». Ладно уж галлы, которые в то время были врагами, но почему греки? Не было предложено никакого ясного объяснения[550]. Может быть, это было не началом, как думает Плутарх, а возобновлением древнего позабытого обряда, в котором в роли «аргивян» выступали назначенные жертвы? Такое же жертвоприношение было возобновлено после Канн в 216 г., из книг судьбы, и состав жертв был таким же — галлы и греки (Liv. 22, 57, 4: «чуждые римским священнодействиям»), тогда как греческие и сицилийские союзники Рима еще сохраняли ему верность, так что ожидать, скорее, следовало (если бы выбор не был навязан традицией) может быть, галлов, но прежде всего — испанцев и африканцев. В этот, уже второй, раз речь шла об искуплении преступления, которое сочли знамением: распутство многих весталок, которых следовало осудить на пытки. Хотя имеются расхождения в именах весталок, тем не менее, именно четверное убийство 216 г., скорее всего, имеется в виду в 83-м Римском Вопросе, где Плутарх говорит: «Поскольку случай показался слишком жестоким, священнослужители получили приказ справиться в Сивиллиных книгах. Там они прочитали предсказания этих преступлений и бедствий, которые последуют, если для их предотвращения неким странным иноземным гениям не будут принесены в жертву два грека и два галла путем погребения заживо». Хотелось бы знать, как звали этих гениев, но, по-видимому, это всего лишь гипотеза ученого Плутарха: Тит Ливий, который сдержанно рассказывает об этом факте, не представляет его как жертвоприношение. Падение Вейев, блистательное завоевание Галлии — значительно расширили сферу деятельности Рима. Начинается рост его влияния в Италии. Приходит осознание своей значимости и организация политической системы. С 343 до 283 гг. самнитские войны позволяют Риму углубиться в греческие земли, захватить Кумы, Капую, проникнуть в Неаполь — то в функции покровителя, то в роли завоевателя. После сложных перипетий осуществляется объединение Италии, причем оно настолько прочно, что может противостоять восстанию в Таренте, отразить натиск Пирра и Ганнибала. С этих пор Рим снова и навсегда принимает греческих богов. Первым проявлением этого было, может быть, водворение Геркулеса на Великом Алтаре. Отныне магистрат — городской претор — будет совершать культ Геркулеса по греческому обряду. Конечно, многочисленные боги, в честь которых полководцы создавали храмы во время последних самнитских войн, — это боги абсолютно римские, так что даже кажется, будто возродилась древнейшая религия. Например, в 293 г. Квирину воздавались почести рядом с Юпитером, однако в то же самое время на играх, которые праздновали ob res hello bene gestas (за подвиги на войне), присутствовали граждане увенчанные венками (coronati), а победители награждались пальмовыми ветвями. Поскольку в том же году в городе и в сельской местности свирепствовала эпидемия, то Сивиллины книги потребовали призвать в Рим Эскулапа-Асклепия из Эпидавра. Впервые Рим обращается напрямую к самой Греции, минуя колонии. Такому открытому приему культа извне способствовало значительное изменение жреческой системы. В течение тех веков, когда происходило завоевание Римом Италии, в стенах города произошло немало событий: победоносная борьба плебеев за равенство, завоевание ими права занимать пост консула (367 г.) и эдилла с курульным креслом (364 г.), доступ к должностям цензора (351 г.) и претора (337 г.). Однако оставалась еще самая охраняемая сфера — религия. До конца IV в. руководство государственной религией осуществлялось исключительно патрициями. Только они могли входить в великие коллегии — коллегии понтификов и авгуров, тогда как дуумвирами (duumuiri), затем decemuiri sacris faciundis[551], с которыми были связаны культы за пределами Рима, — были с 367 г. в половине случаев плебеи. В 300 г. плебс одерживает последнюю победу — право входить в коллегии понтификов и авгуров. И как могли бы плебеи не принести с собой на эти высокопоставленные должности благоприятное отношение (присущее им традиционно и как бы от природы) к богам и культам, существовавшим за пределами Рима? Более того, многое указывает на то, что (как мы видели) именно в это же самое время, в период между 380 и 270 гг. была создана — на основе легенд, иногда гораздо более древних, чем то представление о своем прошлом, которое имел Рим, — предание о возникновении города. Вникая в подробности трудов эрудитов, в рассказах, которые мы там находим о Ромуле, Нуме, Тарквинии, мы замечаем явные следы греческого влияния. Но, прежде всего, свидетельства, соответствующие его статусу в настоящем. В писаниях, относящихся ко временам, предшествовавшим летописям, подтверждается значимость уже существующих рассказов, так что хотя бы некоторые из них позволяли связать возникновение римского народа с великими греческими мифами. В Геркулесе они усматривали аркадийца Эвандра, Энея считали пришедшим к ним из Илиона. Если первый, которым заинтересовалась литература, не оказал влияния на развитие религии, то со вторым дело обстоит иначе. Троянский миф — благодаря тому, как он описал Венеру — не только принес в Рим тип божества, которому предстояло блестящее будущее, но кроме того (благодаря роли, которую он традиционно приписывал Зевсу и Гере в судьбе героя, ставшего основателем) этот миф способствовал омоложению самогó центра древней теологии. События второй половины III в. не замедлили подтвердить эти рассуждения. Судьба Энея[552] в Италии, затем в Риме, обсуждалась еще долго. Недавно появившаяся гипотеза (более правдоподобная, чем остальные) приписывает фокейцам принесение этой легенды, которая, по-видимому, сначала была принята этрусками. Во всяком случае, несколько статуэток, относящихся самое позднее к первой половине V в., обнаруженных в Вейях тридцать лет назад на вотивном столбе святилища «Аполлона» и в Кампет-ти, представляют Энея, несущего на плечах своего отца Анхи-за. Хотя они не гарантируют, что уже в это время Эней был италийским героем (чего ему не приписывают древние греческие летописи), тем не менее, они свидетельствуют о том, что он уже был популярен в этрусской Италии, и что близка уже была его натурализация. Параллельно этому, есть уверенность в том, что самая древняя «Венера», переданная латинянам этрусками, действительно была матерью полубога, которому предстояло стать зачинателем величия Рима. Действительно, за пределами Рима два святилища были связаны с Троянской Афродитой. В отношении Лавиния, где культ был федеральным, до последних лет единственным источником для нас был Страбон (5, 3, 5), но недавно в окрестностях участка было найдено надгробие, на котором было написано посвящение Лару Энея (Lare Aineia dono), возможно, относящееся к концу IV в.[553]: следовательно, в этом месте Лация легенда уже достаточно сильно укоренилась не только для того, чтобы стало возможно здесь локализовать «троянские Пенаты», спасенные от пламени достопочтенным Энеем, но также и для того, чтобы этот герой дал свое имя покровителю этого места, хотя обычно имя покровителя оставалось неизвестным. Правда, мы не знаем, какое имя носила в этом святилище мать героя. Но зато мы знаем, что в Ардее ее звали Frutis. В этом слове многие авторы усматривали этрусское искажение имени Афродита. Как говорили, ее культ ввел непосредственно сам Эней, когда прибыл в Лаций: Венере Марсовой, которую называют Frutis (Solin. 2, 14)[554]. Какой отклик закладка этих латинских храмов и их легендарный контекст вызвали в Риме? В религии очень долго реакция была незначительной. Если в Венере Милостивой (Vénus Obsequens) есть что-то от греческой Афродиты, то (как нам известно) в ней нет ничего троянского, т. е. ничего такого, что «благоприятствовало бы и способствовало бы удовлетворению молитв», обращенных к Венере Милостивой, в честь которой эдил Квинт Фабий Гургит в 295 г. воздвиг храм — на средства, полученные от штрафов, наложенных на некоторых матрон, признанных распутными (Liv. 10, 31, 9). Но возможно, однако что те греки и латиняне, которые создавали картину возникновения, не хотели упускать представившийся им шанс дать римлянам в качестве матери богиню, сделав их «Enéades» (потомками Энея)[555]. Наконец, хотя мы имеем мало сведений о распространении в Риме греческого языка (если не греческой культуры), мы, однако можем быть уверены в том, что она проникла далеко и высоко: в 280 г., прежде чем его попросили удалиться из Рима немедленно, посланник Пирра Кинеас смог выступить с речью в Сенате, а сделал он это на греческом языке. И без вмешательства старого Аппия его греческий язык вполне мог бы убедить эту «царскую ассамблею». Война против Пирра в Италии и Сицилии, затем сицилийская война против карфагенян — еще больше открыли дорогу греческому влиянию: офицеры и солдаты — римляне, а также все те романизованные жители Италии, которых уже так называли, — постоянно становились свидетелями религиозной жизни этих старых городов, в которые они входили в качестве союзников. Когда города переходили к врагу, грабеж направлял в Рим множество культовых статуй, так что молодые люди привыкали видеть воплощение богов и богинь в более величественной и прекрасной форме по сравнению с теми глиняными фигурками, которые они унаследовали от этрусских времен. И мы видели, как в 249 г. Тарентские (Tarentum) Игры принесли в Рим утонченные ритуалы. Более того, сицилийская кампания неожиданно выявила практическое значение троянской легенды: во время второй войны с карфагенянами, в 263 г., сицилийские элимы, которые считали себя потомками троянских переселенцев, присоединились к римлянам, сообразив, по-видимому, что «Enéades» из Рима — их родственники[556], и вспомнив свою столицу Сегесту и призывы после убийства карфагенского гарнизона (Diod. 23, 5). Спустя пятнадцать лет, консул Луций Юний неожиданно захватил святилище элимов Эрика, один из важнейших центров культа Афродиты. Римляне его удерживали до конца войны, защищая богиню, в которой они стали видеть Венеру — мать их предка Энея. Возможно, самым важным является то, что в те же времена римская поэзия дала свои самые великие произведения. Было ли это подражанием или ответной реакцией, но все эти произведения относятся к греческому типу. Действительно, те немногие произведения, которые сохранились, уже обнаруживают главные интерпретации, в пользу которых греческая мифология захватывала римскую теологию[557]. Ливий Андроник, который открыл Риму литературные жанры эпопеи, трагедии и оды, — был греком. Он попал в плен во время падения Тарен-та, и ему поручили воспитание детей его хозяина Ливия Салинатора. За то, что он прекрасно справился с этим делом, Салинатор освободил его и дал ему свое имя. По преданию, бывший раб открыл школу и перевел на латинский язык Одиссею, чтобы дать своим ученикам материал для чтения. Хотя перевод был нескладным и тяжеловесным, он, тем не менее, использовался в школах во времена Горация. Немногие сведения из мифологии, содержащиеся в редких сохранившихся отрывках, показывают, что тогда (по крайней мере, в литературе) метаморфоза римских богов в основном уже завершилась: Юпитер-Зевс и Юнона-Гера представлены как дети Сатурна-Кроноса:

Глава VII РЕЛИГИЯ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ ПУНИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
Благодаря третьей декаде Тита Ливия и биографиям нескольких великих людей, мы можем довольно подробно проследить за тем, как эта религия функционирует — идеологически, а также в сфере культа — в те полные драматизма годы, когда она, можно сказать, поддержала и спасла Рим. Несомненно, легенды, «прекрасные легенды», и преувеличения иногда искажали события. Так, Тит Ливий неоднократно предупреждает, что в тех случаях, когда возбуждается суеверие, сфера его воздействия расширяется, однако весьма примечательно, что, повествуя о религии, он никогда не указывает на какие-либо расхождения или противоречия в своих источниках, хотя в тех случаях, когда речь идет о политике или войне, он охотно и честно это делает. Дело в том, что всё относящееся к культовой сфере было описано официально. Если возникала какая-нибудь неясность в обетах или в их исполнении, то все очень быстро регулировалось, и отношения между людьми и богами приводились в порядок. Так, в 212 г., когда Рим еще не вернул себе Капую и Сиракузы, тем не менее, уже была создана комиссия триумвиров, которые должны были составить список священных предметов и учесть дары, принесенные богам, «для розыска святынь и переписи вкладов» (Liv. 25, 7, 5). Для того, чтобы охарактеризовать в общих чертах жизнь религии в эти годы, насыщенные событиями, связанными с Тицино, Треббией[565], Тразименским озером и Каннами, необходимо сказать следующее. Римляне уверены в том, что за событиями кроется не судьба (fatum) дальнего действия, а гнев или милость богов, относящиеся к данному моменту. Поэтому все подвергается истолкованию, все имеет значение, и даже из несчастья проистекает надежда. Каждый год, каждое время года получает свои знамения в большом количестве — будь они реальными или предполагаемыми. И это относится не только к римской земле, но — как подобает столичному статусу Рима — это распространяется на города в Лации, Этрурии, в сабинских землях, вплоть до отдаленных провинций. Священная наука и юриспруденция постоянно заняты тем, чтобы ограничить этот неумеренный поток сверхъестественного. Все мобилизуется на службу Риму: традиционные способы искупления и молитв, ставшие в какой-то мере автоматическими (как, например, жертвоприношение девятого дня[566] после камнепада[567]), но также — причем в возрастающей степени — Сивиллины книги, которые в этот век греческого влияния приняли свою окончательную форму; а когда победа была уже близка, римский магистрат впервые обратился к Дельфийскому оракулу. Параллельно этому ко всем богам обращен призыв спасти Рим. Поскольку ряд последовавших друг за другом поражений доказывал, что боги не удовлетворены, священная наука из сезона в сезон вносит исправления, изучая различные сферы божественного, различных богов и группы богов, и пытается выявить уязвимые места. Есть что-то трогательное в этом систематическом и экспериментальном изучении мира иллюзий. Наконец, благодаря самим этим попыткам, вырисовываются общие черты новой теологии, создается синкретичный пантеон, который выдерживает испытание. При этом нередко происходит замена греческого бога или бога смешанного происхождения на римское божество. Кроме того, нередко возникают такие объединения богов, которые имеют смысл лишь как заимствования из Греции. Вниманием римлян завладевают в первую очередь два древних божества, поддерживаемые в их греческой интерпретации великими идеями легенды об Энее: это Юнона и Венера. Когда речь идет о «кризисе» второй Пунической войны, необходимо подчеркнуть, что действительно имеет место величайший кризис — как в военной, так и в политической сфере. За жизненно опасными первыми поражениями в экстренной последовательности возникают проблемы, требующие неотложных решений; а то, что в следующем веке, по знаменитому выражению, было названо «упадком», «декадансом», — убедительно доказывает, что отнюдь не все вопросы были решены, и что не во всех случаях было выбрано правильное решение. Однако в религиозной сфере, между Сагунто и Замой, кризиса нет: хорошо сформированный организм, прочный и гибкий, неустанно и бесперебойно функционирует в быстром темпе событий, выполняя две задачи — сохранение и приспособление. Для этого уже заранее были заготовлены инструменты, причем вторая задача, еще недавно бывшая второстепенной, с годами становится основной. Именно в это время следует присмотреться к самому организму. Позднее, и довольно скоро, он изменится к худшему, и даже распадется. Историки, которым известно то, что произошло впоследствии, конечно, смогут обнаружить — уже во времена Тразименского озера — первые симптомы разложения. Однако в решающий момент этот организм оказал все услуги, каких народ может ожидать от национальной религии. Начало войны было торжественным, но ни в коей мере не оригинальным. Весьма тщательно Рим обеспечивает себе bellum iustum (справедливую войну). Когда Ганнибал допустил в Сагунто вопиющую несправедливость, он был уверен в одобрении Пунического Сената, в котором господствовала мятежная группировка Барки. Но римский Сенат отправил новое посольство, состоявшее из особенно почтенных мужей — legatos maiores natu, — чтобы выяснить, признаются ли карфагеняне, что им известны действия сына Гамилькара: и, если они в этом признаются, объявить им войну, и это — чтобы все обычаи перед войной совершить (ut omnia iusta ante bellum fierent; 21, 18, 1). Также вполне типично предсказание, сделанное, возможно, после первого столкновения в трансальпийской Галлии: в то время как Ганнибал проводил своих слонов, римляне с трудом справились с отрядом нумидийских всадников, потеряв почти столько же людей, что и побежденные. Из этого сделали вывод, что исход войны будет благоприятным, но это будет стоить больших испытаний (29, 4). Все это — священная рутина любой войны. Однако вскоре катастрофа у Треббии открыла захватчику путь в Этрурию, и Тит Ливий делает первое из больших сообщений, касающихся религии во время военной кампании (62, 1–5):«В Риме и его окрестностях много тревожных знамений или действительно было замечено в эту зиму, или же — как это обыкновенно бывает, коль скоро умы объяты суеверным страхом, — о них только доносили часто, и рассказчикам слепо верили. В числе прочих передают, будто полугодовалый ребенок свободных родителей на Овощном рынке крикнул: «Триумф!»; на Бычьем рынке бык сам собою взобрался на третий этаж и бросился оттуда, испуганный тревогой, которую подняли жильцы; на небе показались огненные изображения кораблей; в храм Надежды, что на Овощном рынке, ударила молния; в Ланувии копье шевельнулось, и ворон влетел в храм Юноны и сел как раз на ложе богини; в окрестностях Амитерна во многих местах показывались издали призраки в белой одежде, но ни с кем не повстречались; в Пицене шел каменный дождь; в Цере вещие дощечки утончились; в Галлии волк выхватил у караульного меч из ножен и унес его»[568].Если некоторые из этих знамений — последние — могут быть истолкованы непосредственно как указание на угрозу, на риск, связанный с обстоятельствами, то многие другие явно представляют собой что-то чудовищное и свидетельствуют только о гневе богов, выраженном нарушениями в природе. Даже победный клич, изданный ребенком на Forum holitorium, не является знамением и не может внушать доверие, так как противоречит тому, что присуще человеческим возрастам. Теперь приведем меры защиты, противопоставленные государством агрессивным проявлениями природы (62, 6—11):
«Относительно всех прочих замечаний было определено, чтобы децемвиры справились в Сивиллиных книгах; по поводу же каменного дождя в Пицене было объявлено девятидневное празднество. По истечении его приступили к другим очистительным обрядам, в которых приняли участие почти все граждане. Прежде всего было произведено очищение города; богам, по определению децемвиров, заклали известное число взрослых животных; в Ланувии поднесли Юноне дар из сорока фунтов золота, а замужние женщины посвятили Юноне на Авентине медную статую; в Цере, где вещие дощечки утончились, был устроен лектистерний и вместе с тем молебствие Фортуне на горе Альгид; также и в Риме был устроен лектистерний Ювенте и молебствие в храме Геркулеса для отдельных избранных, а затем для всего народа молебствие во всех храмах. Гению было заклано пять взрослых животных; и, сверх того, определено, чтобы претор Гай Атилий Серран произнес обеты на случай, если бы положение государства не изменилось к худшему в течение следующих десяти лет. Эти обряды и обеты, совершенные и произнесенные по откровению Сивиллиных книг, в значительной степени успокоили взволнованные суеверным страхом умы».Многие из этих церемоний в Цере, Ланувии, были спровоцированы непосредственно местным знамением. Так же обстояло дело и с очищением города (lustratio urbis): если в городе происходит так много неприятных знамений, значит, он был осквернен. Названные поименно божества более примечательны: кроме Юноны, в честь которой проводятся церемонии не только в Ланувии, но и в храме на Авентине, это Фортуна, Ювента, Геркулес и Гений Рима. С первой все понятно. Вторая традиционно покровительствовала юношам и гарантировала долголетие Риму. Однако она, по-видимому, получила что-то от греческой Гебы, супруги Геракла, поскольку она ведет за собой Геркулеса, который уже не может быть только богом коммерсантов с берегов Тибра и становится греко-латинским мстителем, защищающим право, победителем монстров и Кака. Наконец, Гений, не снабженный уточнениями, это наверняка Гений государства (Genius publicus) или Гений римского народа (Genius populi Romani), и здесь он входит в историю благодаря смелому расширению понятия. Дары богам, культовые обряды, финальная сделка претора — все это присуще римским традициям: уже давно лектистерний (по-видимому пришедший из Цере) натурализовался в Риме вместе с пульвинарами[569]. Впрочем, в самоóм Риме, поскольку дело было зимой, не оставили без внимания главного бога декабря (22, 1, 19–20):
«В конце декабря в Риме у храма Сатурна совершили жертвоприношение и, как велено было, устроили лектистерний (ложе для богов застилали сенаторы) и пиршество для народа; день и ночь по городу раздавались клики в честь Сатурналий, и народ постановил считать этот день навсегда праздничным»[570].Однако знамения отнюдь не прекратились, а их число еще умножилось. Такой длительный гнев богов объясняли бесчинствами нового консула Фламиния (21, 63, 6—14; 22, 1, 5–7). Тит Ливий их подробно описывает. Римляне вскоре этим же будут объяснять разгром при Тразименском озере, к которому Фламиний намеревался устремиться. С приближением весны историк дает нам другую картину (22, 1, 8—13). Из Сицилии, из Сардинии, из Пренесты, из Арпов, из Капены, из Антия, из Фале-риев, из Капуи — стекались вести о все новых фантастических происшествиях, пугающих в своей несерьезности, а в самóм Риме статуя Марса на via Appia и скульптуры волков, которые ее окружали, покрылись пóтом. Сенаторы собрались, выслушали свидетелей, а присутствовавший при этом консул призвал их поразмыслить de religione (о религии). Сенаторы немедленно решили отреагировать на эти знамения — частично особыми жертвоприношениями, частично жертвами à la mamelle, а также провести в течение трех дней молебствия около всех пульвинаров. В остальном они положились на децемвиров, которым снова было поручено обратиться за сведениями к Книгам. В соответствии с отчетом децемвиров, отдельные божества — из которых одна только Ферония, имевшая свое собственное святилище в Капене, казалось, непосредственно была связана с одним из этих знамений — получили дары. На этот раз Рим вознамерился обратиться к высшим силам (22, 1, 17–19): «По указанию децемвиров постановлено было прежде всего Юпитеру поднести золотую молнию весом в пятьдесят фунтов, а Юноне и Минерве вещи, сделанные из серебра; Юноне Царице на Авентине и Юноне Спасительнице в Ланувии принести в жертву взрослых животных: матронам сложиться — пусть каждая внесет сколько может — и поднести дар Юноне Царице на Авентине и устроить лектистерний; отпущенницам собрать денег — с каждой по ее средствам — и поднести дар Феронии. Это было исполнено, и децемвиры на форуме в Ардее принесли в жертву крупных животных»[571]. Таким образом, поскольку Ферония принимала участие в других обрядах, то дела Рима были поручены капитолийским богам в соответствии с их иерархией, а затем Юноне, выступавшей под разными эпитетами. Конечно, важность момента оправдывает эти обращения, но в них есть и собственные основания: в первом списке, сразу после разгрома при Треббии, не было специальных просьб к Юпитеру или к его партнерам, а Юнона упоминалась (как и Ферония) только потому, что одно знамение — двойное знамение — произошло в ее святилище в Ланувии, с ее статуей и с ее ложем (pulvinar). Какие новые элементы принесла зима в то, что сегодня называют конъюнктурой в религии? Юпитеру и другим капитолийским богам только что прямо нанес оскорбление новый консул Фламиний (21, 63). Поскольку вся его карьера (как давнишняя, так и недавняя) была полна конфликтов с Сенатом и вообще с представителями знати, то он опасался, что те воспользуются ложными ауспициями или Латинскими празднествами, либо найдут другой повод, чтобы задержать его в Риме и не допустить к командованию армией, которое было предназначено ему судьбой, и не дать возглавить войска, расположившиеся на зимние квартиры в Пьченце. Поэтому, написал действующему консулу, чтобы он привел армию к 15-му марта в Аримине, он покинул Рим тайком, под предлогом путешествия, и, хотя он был еще только назначен — т. е. не занимающий государственных постов — он отправился в свою провинцию. Сенаторы этим справедливо возмутились: «Гай Фламиний… ведет войну не с одним только сенатом, но и с бессмертными богами. Еще прежде он, выбранный консулом при зловещих ауспициях, отказал в повиновении богам и людям, когда они отзывали его с самого поля битвы; теперь он, помня о своей тогдашней непочтительности, бегством уклонился от обязанности произнести в Капитолии торжественные обеты. Он не пожелал в день вступления своего в должность помолиться в храме Юпитера Всеблагого Величайшего, увидеть кругом себя собранный для совещания Сенат, который его ненавидит и ему одному ненавистен, назначить день Латинского празднества и совершить на горе торжественное жертвоприношение Латинскому Юпитеру; не пожелал, совершив ауспиции, отправиться в Капитолий для произнесения обетов и затем в военном плаще в сопровождении ликторов уехать в провинцию»[572]. Как могло бы такое пренебрежение, — которое предвещало еще и другие подобные действия, — не вызвать гнев Юпитера О. М., бога царя и его наследников — консулов, бога ауспиций, а также гнев других богов Капитолия? Что касается Юноны как таковой, то мы здесь видим решающий момент в развитии ее культа[573]. Конечно, вследствие смешения с Герой, она уже давно стала супругой Юпитера. Слово Regina отныне получало свое полное значение. Но в этот трудный год она вступает официально в свою удивительную легендарную карьеру, самое яркое отражение которой дают Энеиды и Гораций: покровительница Рима, причем такая, которая заслуживает особых постоянных забот — поскольку она не всегда была ею, поскольку в ее памяти жила греческая богиня, враждебная Трое, которая давала ей основание не быть такой покровительницей. Эпопея, описывающая войну Вейев (в которой вполне обоснованно можно распознать влияние троянской эпопеи), видимо, дала наметки для общего плана. Юнона, Уни в Вейях, в течение десяти лет осады покровительствовала врагам Рима, и победа, в конечном счете, стала возможной только благодаря торжественному euocatio этой богине: благодаря великим обещаниям Юнона оставила свой народ и согласилась стать на Авентине Царицей римского народа — более действенной, чем Regina, присоединенная к Юпитеру на Капитолии. И тогда можно было подумать, что все благополучно завершилось. Однако новая интерпретация вернула ее в лагерь опаснейшего врага: великая богиня, царица Карфагена, могла быть названа только греческим и латинским именами богини царицы — Геры, Юноны. Кто был автором перевода — сицилийские и италийские греки или сами римляне? Это неважно: в ту эпоху синкретизма Гера влекла за собой Юнону, а Юнона влекла за собой Геру. И эта карфагенская Юнона, которая вскоре стала зваться Небесной (Caelestis), проявляла воинственность, несвойственную римской Юноне или уже утраченную ею. Однако эта воинственность была заметна в других латинских городах (например, в Ланувии). Поэтому двойное знамение, которое произошло в храме Юноны в Ланувии и которое в другое время не обрело бы особого значения, теперь, по зрелом размышлении, после первого умилостивления, показалось весьма угрожающим. Введение Дидоны в цикл мифов об Энее (по-видимому, уже осуществленное поэтами) придавало глубину времени и роковое значение противостоянию колонии Тира[574] и латинского прибежища троянцев, противостоянию народа Дидоны и потомков Энея: Юнона одних и великие боги других — Юпитер и Венера — возрождали в шестом веке от основания города (ab urbe condita) конфликт, некогда воспетый Гомером. Так объяснялась и расширялась война, со своей жестокой реальностью. И в этом свете становится понятно, что (хотя никакое новое знамение не было отмечено зимой в Ланувии) Юнона этого города, Юнона Соспита, а также Юнона, о которой некогда упоминалось в Вейях, Царица с холма Авентин, — почитались наравне с Юпитером и были адресатом молений, как и он, на пороге весны, таившей угрозы. В течение всей второй Пунической войны эта интерпретация давала основное направление идеологии, и даже сам Карфаген придавал ей силу, приняв ее[575] и воздавая греко-латинской Юноне-Гере такие же почести, какие полагались богине Карфагена. В 205 г., когда военная удача переменится — в то время, когда Сципион, став консулом, сможет потребовать у Сената отдать ему в качестве его провинции Африку, — Ганнибал воздвигнет алтарь в храме Юноны Лацинии (около которого он проводил лето) и распорядится, чтобы на нем на латыни и на языке Карфагена был записан рассказ о его подвигах (Liv. 28, 46, 16). В другой летописи, использованной в О дивинации (De diuinatione; 1, 48), которая, по-видимому, достоверна, отражены более сложные отношения (хотя, в основном, смысл рассказа тот же самый) между полководцем и богиней. Этот храм Юноны Лацинии, расположенный недалеко от Кротона, слыл местом, где все время происходили знамения. В священной роще, окруженной густым пихтовым лесом, имелись богатые пастбища. Там без пастуха пасся разнообразный скот, принадлежавший Юноне. Вечером каждый вид скота самостоятельно возвращался в свой хлев, причем на него никогда не нападали ни люди, ни хищники. За счет продажи обильных продуктов, получаемых от этого стада, была воздвигнута массивная золотая колонна, так что, — как говорит Тит Ливий (24, 3, 3), — храм, уже знаменитый благодаря своей святости, прославился еще и своими богатствами. Ганнибал, чтобы пополнить свои сокровища, захотел завладеть этой колонной. Но прежде чем осуществить такое важное решение, он приказал проверить с помощью сверла, действительно ли колонна из сплошного золота, или же она просто позолочена. Проверка подтвердила, что колонна славилась не зря. Однако ночью Ганнибал увидел сон: Юнона запрещала ему прикасаться к своим богатствам под угрозой погубить единственный глаз, который у него оставался. И Ганнибал отказался от своих планов, а из золотых опилок, осыпавшихся во время бурения, он велел сделать статуэтку, изображавшую корову, и поставил ее сверху на памятник. С давних пор в связи с этим говорили, что корова была символом карфагенской богини Танит (Tanit), и сделали весьма правдоподобный вывод, что Ганнибал, приняв местное толкование, признал в италийской богине отображение своей национальной покровительницы. Вероятно, в то же самое время, когда после великих опасений появилась надежда (либо, быть может, несколько позже, задним числом), была выдумана знаменитая история о «головах», найденных в Карфагене[576]. Кроме исторического интереса, мы находим здесь также весьма ценное доказательство того, что идеология трех функций, унаследованная от индоевропейцев и изначально выраженная в триаде Юпитер — Марс — Квирин, продолжала жить и осознаваться в конце III века. В первой песне Энеиды Вергилий ясно на это намекает (441–447). Сервий уточняет этот намек в своем комментарии: когда Дидона, бежав от своего брата, прибывает в Африку, и когда священнослужитель выбирает место, подходящее для того, чтобы заложить город, — землекопы, рывшие землю для первого фундамента, обнаружили бычью голову. Этот знак был признан неубедительным, поскольку бык был в ярме, и поэтому стали копать в другом месте. Там нашли лошадиную голову, и этот знак был принят. «Поэтому, — говорит Сервий, — они воздвигли там храм Юноне. Благодаря предсказанию лошади, Карфаген оказался воинственным, а благодаря предсказанию быка — плодородным», unde et bellicosa Carthago per equi omen et fertilis per bouis. Долго полагали, что Рим здесь откликнулся на подлинную карфагенскую легенду. Но это не так. Этот рассказ — всего лишь точное соответствие римской легенды (наверняка более древней), в которой рассказывается, как Тарквиний приказал заложить фундамент храма Юпитера О. М., и как землекопы нашли человеческую голову, caput humanum, в чем усмотрели обещание, что это место возглавит империю: оплотом этого государства и главой мира быть предвещало (Liv. 1, 55, 5–6). Люсьен Гершель очень хорошо прокомментировал эти данные: «Тема, общая для обоих повествований, может быть охарактеризована следующим образом. Некий царь или некая царица, желая воздвигнуть храм в честь верховного и небесного божества своего пола, приказывает копать землю. Те, кто трудится над фундаментом, обнаруживают голову или головы, прежде принадлежавшие живым существам. Из этого открытия делают вывод о знамении, которое предвещает великое будущее городу. При этом, в зависимости от природы извлеченной из земли головы, вводятся различительные нюансы. Эта тема слишком специфична, чтобы допустить, что эти два рассказа, отнесенные к двум большим городам, соперничающим между собой, могли быть независимыми друг от друга. Так как нет никаких оснований предполагать наличие у них общего прототипа, и поскольку римский рассказ не может происходить от рассказа карфагенского, то мы должны считать (так как любая другая гипотеза исключена), что история Дидоны — это повторение истории Тарквиния, что здесь нет никакой связи с религией Карфагена и что история Дидоны — целиком римская. Люди, склонные к раздумьям о религии, имеющие скрупулезный и формалистический склад ума, обращающие внимание на предостережения богов — те, для кого истолкование предсказаний было привычным делом, — размышляли над судьбой Карфагена, пытаясь понять, откуда происходили его богатства и его воинская доблесть. Там, где мы приводили бы социологические, исторические, географические причины, объясняющие развитие его экономической мощи, — древние римляне подумали о своем собственном городе, о летописях, которые неким образом отсчитывали начало мира от возникновения Рима, собирая вокруг Города благодеяния и заботу богов (подобно тому, как в сказках феи окружают колыбель). Возмущенные Пунической совестью[577], удивленные богатством и воинской доблестью Карфагена, римляне видели в этом городе, основанном раньше их города и ставшем его соперником, некий Рим, не добившийся успеха, не сумевший завоевать первое место, блестящий расцвет которого можно было себе представить только как следствие тех самых религиозных обрядов и той поддержки богов, без которых не может быть ничегопрочного и достойного. Так родилась легенда, согласно которой Карфаген, возникший раньше Рима, мог его предвосхитить в некоторых отношениях, лишь пытаясь там, где Рим преуспел». Гершель показал, что ни один из других свидетелей происшедшего (Justin. 18, 5; Estath. ad Dionys. Perieg. 195 и сл.) не дает оснований приписать ее самим карфагенянам. Правда, Евстафий добавляет два признака к описанию местоположения будущего Карфагена: отсутствие источника питьевой воды и пальму на том месте, где будет обнаружена голова. Однако это всего лишь географические указания, характеризующие некий пункт в Африке. Кроме того, упоминание пальмы могло быть результатом игры слов, возможной только в греческом языке, но невозможной в языке семитском. Дело здесь в схожести греческих слов Phoinikes (финикийцы) и phoenix (пальма). Гершель пошел дальше: комментируя карфагенские монеты, на которых изображение лошади нередко соседствует с изображением пальмы, он правдоподобно воспроизвел процесс, благодаря которому некоторые из этих монет были интерпретированы, исходя из капитолийской легенды о caput humanum, что привело к возникновению якобы карфагенской легенды: «Карфаген начал чеканить свои монеты довольно поздно, причем сначала в Сицилии, подражая греческим городам. Но греческие монеты в Сицилии, которые Карфаген взял за образец, часто уже имели изображение лошади, так что это не могло характеризовать карфагенские монеты, а, напротив, требовало дополнительных отличительных признаков, которые позволили бы отойти от недоразумения, вызванного созвучием греческих слов phoenix и Phoinikes. Впрочем, пальма имела еще то достоинство, что легко вызывала в памяти вид места в Африке… На карфагенских монетах чаще всего можно видеть (как и на сицилийских греческих монетах) лошадь целиком, а не только голову. Следовательно, маловероятно, чтобы в Карфагене могла существовать даже легенда о «лошадиной голове», а римская интерпретация монет с изображением только головы лошади (где, однако голова, по-видимому, лишь «резюмирует» целого коня — подобно тому, как человеческая голова на многих монетах резюмирует человека), возможно, соотносится с caput humanum (человеческой головой) Капитолия, что способствовало созданию антитетической легенды о caput equi (голове коня), стоящей в иерархии ниже, чем легенда о человеческой голове... Наконец, небезынтересно отметить, что монеты не дают ничего эквивалентного бычьей голове, которую упоминают Сервий, Юстиниан и Евстафий, причем слова «и нужды не узнает»[578] в Энеиде, несмотря на недавно высказанные мнения, все же весьма вероятно на нее намекают. И это имеет смысл только в римской трехчастной перспективе, дополняющей на последнем уровне систему, начинающуюся с человеческой головы и головы лошади». В самом деле, в римском изложении ясно выражены цели провидения: «Дидона нашла бычью голову, которая обеспечивает Карфагену плодородие, изобилие, экономическую мощь. Благодаря Юноне Дидона затем нашла лошадиную голову, которая — добавив Карфагену к его богатству еще могущество — обещает ему военную мощь, свободу и уважение. Однако этим его удача ограничивается. Во всемирном масштабе римские ученые предоставили Карфагену сначала третью, затем вторую из трех индоевропейских общественных функций. Но первую функцию они, конечно, сохранили за Римом. Человеческую голову выкапывает из земли Тарквиний, а это недвусмысленное предсказание верховенства (Serv. Aen. 8, 345: он распорядился это место окружить, в котором была найдена голова; ср. Liv. 1, 55, 5–6; 5, 54, 7)». Это наставление тем более примечательно, что оно выражено с помощью однородных образов — три головы, находящиеся в иерархическом отношении друг к другу, сопоставленные с одним и тем же уровнем в структуре ведической религии: в расшифрованных браминских текстах говорится, что животных, которых можно приносить в жертву, — пять: это (в порядке убывания достоинства) человек, лошадь, бык, баран и козел. Первые три дали свои головы легенде храма Юпитера на Капитолии и дополнительной легенде, «made in Rome», о храме Юноны Карфагенской. По-видимому, сам этот факт не слишком важен, но он подтверждает опасение, которое — в период между разгромом при Треббии и реваншем при Заме — вызвала у римлян «Юнона» Дидоны и ее города. В этих условиях, возможно, неправомерно ставить под подозрение замаливание (exoratio), якобы осуществленное в отношении этой Юноны во время (или, скорее, по-видимому, в конце) второй Пунической войны. Комментируя стихи двенадцатой песни Энеиды, где Юнона, наконец, радостно соглашается усыновить Энея и его потомков — после того, как Юпитер обещал ей особенно пышный культ в Риме (nec gens ulla tuos aeque celebrabit honores), — Сервий кратко сообщает, что этот божественный эпизод легендарной предыстории представляет собой передачу реального факта истории: было согласовано умилостивление Юноны во время второй Пунической войны, но в третьей войне, которую вел Сципион, она даже была переведена с помощью определенных обрядов в Рим. Поскольку очень важны были и цель, и прецедент в Вейях, то возможно, что действительно архаичные ритуалы ловли благоволения были в виде исключения проведены в честь экзотической богини, которую хитросплетения перевода сделали могущественной греко-латинской богиней, враждебной Трое и Энею. По той же причине не следует, может быть, отказываться от мысли, что в следующем веке, во время третьей Пунической войны, до разрушения Карфагена, Сципион Эмилиан и его священнослужители упомянули богов и, в частности, не называя ее, — Юнону этого города, — в песни, текст которой сохранил Макробий (3, 9, 7–8):
«Если [есть] бог, если есть богиня, под защитой у которых находится народ и Карфагенское государство, [то] больше всего вас, тех, кто принял [на себя] защиту этого города и народа, я и прошу, и умоляю, и добиваюсь от вас милости, чтобы вы покинули народ и Карфагенское государство… В случае если вы так поступите, [то] я обещаю, что для вас будут устроены храмы и игры»[579].Неизвестно, где была помещена статуя, перенесенная таким образом в Рим, с проведением эвокации или без него. Для нее не был воздвигнут никакой храм. Как считают F. Cumont и В. Базанов, она находилась в помещении храма Юноны Moneta с 146 по 222 гг. — до того дня, когда колония «Юнония» Гая Гракха восстановила Карфаген за счет Рима и создала новый храм Юноны Caelestis, расположенный недалеко от того места, где он находился прежде. Но вернемся к событиям весны 217 г., к разгрому у Тразименского озера. Историк беспощадно обвиняет Фламиния, перечисляет кощунства и богохульства, которые в великом множестве изрекал этот вольнодумец до рокового дня: как мы понимаем, римляне черпали моральную поддержку, не дававшую им впасть в отчаяние, в огромной вине одного человека. Причина их бед была понятна, и когда Фламиний погиб вместе со своими легионами, римляне могли подумать, что гнев богов ослабнет. Об этом говорит Квинт Фабий Максим, которому предстояло получить прозвище «Медлитель» (22, 9, 7—11):
«Квинт Фабий Максим, вторично ставший диктатором, в день своего вступления в должность созвал Сенат и начал с рассуждения о божественном. Консул Фламиний, сказал он сенаторам, больше виноват в пренебрежении к обрядам и ауспициям, чем в дерзкой неосмотрительности; и надо вопросить самих разгневанных богов, как их умилостивить. Фабий добился того, что разрешается только в случае зловещих предзнаменований: децемвирам велено было раскрыть Сивиллины книги. Децемвиры, справившись с книгами судеб, доложили Сенату, что обеты Марсу, данные по случаю этой войны, не исполнены, как положено; нужно все сделать заново и с большим великолепием. Нужно также пообещать Юпитеру Великие игры, а Венере Эрицинской и Уму — храмы. Кроме того, нужно устроить молебствие и лектистерний, а также пообещать «священную весну» на случай, если война пойдет удачно и государство останется таким же, как до войны. Понимая, что Фабий будет целиком занят войной, Сенат распорядился: пусть претор Марк Эмилий, с согласия коллегии понтификов, поскорее все это осуществит»[580].Как не восхититься настойчивостью и изобретательностью этих людей, руководивших сферой священного, которые в течение нескольких дней, пока беды продолжались, трижды справились в Сивиллиных книгах и извлекли из них три разных рекомендации? Продолжаются мольбы, обращенные к Юпитеру, который наверняка был в гневе, и который, несомненно, только что покарал Фламиния. Но у Тразименского озера, во время упорной и отчаянной битвы, Марс, который уже в Фалериях и у Капенских ворот подавал угрожающие знаки (22, 1, 11–12), оказался не слишком милостив к римлянам: скорее, Марс был Mars caecus, слепым — как консул без ауспиций в битве, в тумане, — и он радовался сражению просто ради сражения, пребывая в боевом опьянении вместе со всеми сражавшимися. Тит Ливий (22, 5, 7–8) сказал: «Каждый стал себе вождем и советчиком; сражение возобновилось — не правильное, где действуют принципы, гастаты и триарии, где передовые бьются перед знаменами, а весь строй за знаменами, где каждый знает свое место в легионе, когорте и манипуле; дрались, где кто оказался по воле случая или по собственному выбору — впереди или сзади, — и так были захвачены боем, что никто и не почувствовал землетрясения, которое сильно разрушило многие италийские города, изменило течение быстрых рек, погнало в них море, обрушило и сокрушило горы»[581]. Такое буйство Марса должно было иметь причину, и до нее додумались. Для того чтобы направить эту мощь на интересы римлян, вернулись к мольбам и дали обет — более масштабный, чем тот, который был дан неправильно. Следует отметить, что другие боги — Венера, Эрик и Мента — гораздо более примечательны. Если легенда о Ромуле называла предком римлян Марса, то легенда об Энее считала их прародительницей Венеру. Как мы уже видели, во время первой Пунической войны троянцы из Сегесты и троянцы из Рима признали, что они — братья, и легионеры, находившиеся на холме Эрика, отчаянно и победоносно защищали богиню, которая уже им принадлежала не как заимствованная, а как унаследованная. И Афродита с Эриком — призванная в большей мере, чем другие Афродиты, сориентировать представление римлян о Венере — была сложной богиней, в которой семитические элементы смешивались с греческими представлениями, причем в ней преобладал аспект наслаждения и плодовитости. Ей служили священные проститутки, а колосья пшеницы и голубки, изображенные на монетах, связывали ее с восточными богинями — кипрскими и более дальними. Но что касается римлян, то, видимо, воспоминание о долгой защите холма Эрика выдвигали на первый план другой аспект, другое могущество богини: она была дарительницей победы. Ее изображения на римских монетах представляют ее с диадемой и лавровым венком, а на оборотной стороне, где комментируется право, изображена Победа (Victoria) с пальмовой ветвью и венком; она мчится галопом на квадриге или же двигается пешком, неся трофей. Разве не естественно было для потомков Энея, что во время испытаний 217 г. они обратились к этой августейшей дальней родственнице, которая несколькими десятилетиями раньше на своей родине явно благоприятствовала их оружию? В соответствии с этим Квинт Фабий Максим дал обет воздвигнуть для нее храм, который он освятил спустя два года: 23-го апреля, в день весенних Виналий (подобно тому, как его дед, Фабий Гургит, посвятил в 295 г. Венере Милостивой храм, имевший dies natalis 19-го августа, день летних Виналий). Господин Роберт Шиллинг усмотрел здесь повторяющееся намерение связать Венеру с Юпитером, господином Виналий. Впрочем, выбранное для храма место в достаточной мере доказывает, что Венера Эрицина (Vénus Erycine) не воспринималась как иноземная богиня — причем не только в пределах померия, каким он мыслился в III в., но и на холме великих национальных божеств, рядом с Юпитером О. М. (которого, — по словам поэтов, — она просила пощадить Энея[582]). Наконец, культ этой богини был строго романизирован: были забыты священная проституция и другие сицилийские практики. Новый обряд, 23-го апреля, характеризовался тем, что с храма Венеры выливалось в ручей огромное количество вина, и это тесно связывало ритуал с традиционным праздником и с легендой, согласно которой победа была дарована Энею Юпитером. Важность момента объясняет устранение из обрядов, входящих в культ Венеры Эрицины, самых веселых аспектов. Но когда шансы Рима были восстановлены, богиня получила компенсацию: во время войны против лигуров, в 184 г., консул Луций Порций Лицин торжественно обещал еще один храм Венеры Эрицины. Спустя три года, когда он был дуумвиром, он воздвиг в ее честь храм за пределами города, вблизи Коллинских ворот. Этот храм также имел dies natalis 23-го апреля (Ov. F. 4, 871–872), и в нем совершался культ, гораздо более близкий к сицилийскому образцу и гораздо более зрелищный. Само здание храма, включенное в следующем веке в огороженное пространство знаменитых садов Саллюстия, представляло собой великолепное сооружение, в котором находилась богиня в виде богатой статуи. В день ее праздника — по поводу омовения — Овидий говорит (ibid. 133–139):
«Народ был запрошен в таких словах: “Желаете ли, повелеваете ли, чтобы сделано было так: Если государство римского народа квиритов на протяжении ближайших пяти лет будет сохранено невредимым в нынешних войнах, а именно в войне народа римского с карфагенским и в войнах народа римского с галлами, обитающими по сю сторону Альп, то пусть тогда римский народ квиритов отдаст в дар Юпитеру все, что принесет весна в стадах свиней, овец, коз и быков, — с того дня, какой укажет Сенат, и что, кроме того, не обещано другим богам. Кто будет приносить жертву, пусть приносит, когда захочет и по какому захочет обряду; как бы он ее ни принес, это будет правильно. Если животное, которое надлежало принести в жертву, умрет, пусть считается, что оно не было посвящено — в грех это поставлено не будет. Если кто повредит или убьет животное по неведению, виноват не будет. Если кто украдет животное, да не будет это поставлено в грех ни народу, ни обокраденному. Если кто по неведению принесет жертву в несчастный день, считать жертву правильной. Принесена ли жертва ночью или днем, рабом или свободным, считать, что принесена она правильно. Если жертва будет принесена раньше, чем Сенат и народ приказал ее принести, то да будет народ разрешен от вины”».Эта формулировка представляет собой великолепный памятник осторожности, здравого смысла, которые священные эксперты проявляли при регламентации всего самого искусственного. Юпитер — главный оскорбленный — получил, с другой стороны, обещание суммы в 333333.3 асса для покрытия расходов на Великие Игры. Кроме того, ему было обещано принесение в жертву трехсот быков, причем многие другие боги получали белых быков, а остальное — в виде мелкого скота (ibid. 8). «Обеты принесли по обряду, — продолжает Тит Ливий, — и назначено было молебствие: молились не только все горожане с женами и детьми, но и сельские жители, которых тоже не оставляла в стороне забота об общем благе». Заметно стремление не оставить без внимания ни одного бога и соблюдать при этом соответствующую иерархию: Joui. multis aliis diuis… ceteris («Юпитеру… многим другим богам… остальным»). Такое же стремление, только в более современном освещении, руководит знаменитым лектистернием этого года (ibid. 9): олимпийских «великих властителей» было двенадцать, и на празднество приглашены шесть пар богов:
«Лектистерний длился три дня, устройством его были озабочены децемвиры: на виду поставили шесть лож: Юпитеру и Юноне одно, второе — Нептуну и Минерве, третье — Марсу и Венере, четвертое — Аполлону и Диане, пятое — Вулкану и Весте, шестое — Меркурию и Церере».Эти имена и то, как они объединяются, свидетельствуют об эллинизации религии. И если две последних пары могут быть объяснены как в самóм Риме, так и в Греции, в одном случае — стихией «огня», общей для обоих слов, а в другом случае связью с торговлей и зерном, то четыре первых имени проясняются греческой мифологией. Здесь следует читать: Зевс-Гера, Посейдон-Афина, Арес-Афродита, Аполлон-Артемида. Эти объединения не вызывают таких проблем, какие возникали, например, в связи с первым совместным лектистернием шести богов в 399 г., когда понятно объединение Латоны с Аполлоном, а Меркурия с Нептуном, но гораздо менее убедительно объединение Дианы с Геркулесом[586]. Впрочем, удивляет, что Геркулес не присутствует при почестях, оказываемых богам в этом году, хотя в известных совместных лектистерниях IV в. он участвовал. Конечно, он не должен был фигурировать в лектистернии, объединявшем «Двенадцать великих богов» и только их, но ему можно было бы воздать почести отдельно, как Марсу или Венере Эрицине. По этому поводу Жан Байе высказал предположение, что при греческом обновлении религии Геркулес некоторым образом пострадал оттого, что он был слишком рано и слишком окончательно романизирован[587]. Но полной уверенности здесь мы не имеем. Хотя Геркулес и стал римским, все же он в значительной мере оставался греческим: легенды о Геркулесе постоянно обогащались за счет легенд о Геракле. Кроме того, разве несколькими неделями раньше, во время того же кризиса, Геркулеса не призвали на помощь? А в его объединении с Ювентой легко можно распознать пару Геракл-Геба. Дело, скорее, в следующем: кроме трех капитолийских великих богов Тразименские ритуалы не уделяют почетного места ни одному божеству из тех, к которым взывали в сражении при Треббии. Новый разгром сделал их рядовыми богами, как если бы они проявили равнодушие или бессилие. Теперь обращаются к другим богам и взывают к Mens, а не к Фортуне, к Марсу, а не к Гению, к Венере, а не к Ювенте. Может быть, то, что не обращаются к Геркулесу, — это выражение той же тенденции, и это не деградация, а констатация его несоответствия данным обстоятельствам? Господин Шиллинг настоятельно подчеркивает другой аспект этого распределения богов[588]. Хотя пары обосновываются греческой мифологией, все же во многих случаях они получают — в римской перспективе — еще дополнительное значение. Так, Юпитер и Юнона — царь и царица богов, как Зевс и Гера, но их союз существует в Риме с древних времен и несет в себе то, с чем его связала местная история. И особенно Венера и Марс — это уже не бурная чета, над которой посмеивались в александрийских стихах:
«Как ни велика доля эллинизма в этом уникальном для римлян объединении, не следовало бы забывать о национальной принадлежности тех, кто в него входит: Марс — это древний бог-воин, руководивший победами римского оружия, тогда как Венера все больше предстает как сила, покровительствующая нации Энеидов. Более того, в Риме речь не шла о паре в строгом смысле слова. По-видимому, греческий прецедент просто навел римлян на мысль объединить две важнейшие фигуры их истории: Энея, основателя нации, и Ромула, основателя Города. Таков, несомненно, римский смысл объединения Венера-Марс».Такой предстает в конкретном функционировании римская религия первых трудных лет. Затишье, которое создалось благодаря мудрости Фабия, не помешало тому, что знамения продолжались. Однако поскольку они происходили не после поражений, то, по-видимому, в меньшей мере поражали умы. Знамения были постоянным, ежегодным опытом римлян, и Тит Ливий ограничивается утверждением, что они умилостивлялись в соответствии с указаниями Сивиллиных книг (22, 36, 9). Впрочем, их компенсировало тактичное внимание верного союзника, Гиерона Сиракузского, который послал римлянам статую Победы из массивного золота, попросив хранить ее вечно. Сенаторы, которые от других даров отказывались, этот дар приняли, сочтя его за предсказание (22, 37, 10–12). В своем ответном послании они заявили: «Мы принимаем Победу и знамение (omen). Она будет установлена на Капитолии, в храме великого Юпитера. Она будет освящена в этой цитадели города Рима, и она будет благоприятной для римского народа, благожелательной, неизменной и устойчивой». Мы не можем проследить в подробностях события в сфере религии во время всей долгой войны, которая еще только началась. Однако следует отметить, что после разгрома при Каннах реакция оказалась весьма отличающейся от той, которую вызвали тразименские события. Правда, и обстоятельства были другими: при всей своей смелости, консул-плебей Варрон не оскорбил Юпитера, а действовал в соответствии с ауспициями, и был прав, откладывая сражение, пока гадание по клеву цыплят его не рекомендовало. Это позволило историку сказать, что в тот день боги, скорее, отсрочили то бедствие, которое должно было обрушиться на римлян, чем воспрепятствовали ему (22, 42, 10). Единственное божество, которое непосредственно было оскорблено, — это была Мента, храм которой, хотя и был обещан, еще не был посвящен. В этих условиях Квинт Фабий, которому Рим снова доверил свою судьбу, не стал импровизировать в сфере религии. Он свел к минимуму время траура, отменил празднества Цереры, проводить которые можно было только в радости (22, 55–56), и, будучи мудрым человеком, обратился к божественному, чтобы выявить источник зла. В самóм Риме (по-видимому, с помощью людей) обнаружили святотатства: двух весталок уличили в распутстве. Одну из них, согласно обычаю, закопали живой в землю около Коллинских ворот, другая покончила с собой, а ее любовника — одного из младших понтификов — забили до смерти розгами. С другой стороны, справились в Сивиллиных книгах, и децемвиры там вычитали приказание провести несколько особых жертвоприношений (sacrificia extraordinaria), масштаб которых соответствовал угрожающей опасности: двое галлов — мужчина и женщина, один грек и одна гречанка были захоронены живыми на Бычьем форуме, в месте, огороженном огромными камнями. Наконец, поскольку многократные обращения к Сивиллиным книгам оказались неэффективными, было решено обратиться к Аполлону в Дельфах. Один из родственников диктатора, Квинт Фабий Пиктор (который, возможно, сам был одним из децемвиров) был послан спросить оракула, какими молитвами и какими жертвоприношениями боги согласились бы умиротвориться, и чем закончатся столь многочисленные кары. Посланник поспешно уехал и быстро вернулся с письменным ответом оракула. В этом ответе в стихах говорилось, к каким богам следовало обратиться, какие ритуалы провести, а в продолжении содержались фразы, которые можно было понять как долгосрочный договор о союзе между Римом и Дельфийским богом (23, 11, 2–3):
«Если так сделаете, римляне, будет вам благополучие и облегчение, государство ваше преуспеет по желанию вашему, и будет на войне римскому народу победа. Аполлону Пифийскому государство, благополучное и охраняемое, пошлет дары, достойные его и соразмерные с добычей, из которой вы и почтите его, и избегайте гордыни (lasciuia[589])».«Фабий, — говорит Тит Ливий (ibid. 4–6), — прочитав этот перевод греческих стихов, выйдя из прорицалища, тотчас ладаном и вином совершил жертву всем богам и богиням. По велению храмового жреца, он, как, увенчанный лавровым венком, обращался к оракулу и совершал жертвоприношения, так, увенчанный, и сел на корабль, и снял венок только в Риме; он исполнил со всем благоговением и тщанием все, что было велено, и возложил венок на алтарь Аполлона». Это важный момент в развитии римского аполлинизма. За этим вскоре последует (26, 23, 3) предписание проводить в честь Аполлона ежегодные игры[590], обещанные городским преторов в 212 г. с целью исполнения «пророчеств», названных Марциевыми песнями (carmina Marciana). Поскольку Канны были последней неудачей Рима, то дельфийское посольское действие могло быть понято только как событие, повернувшее судьбу. Конечно, еще будут угрожающие знамения (26, 10, 6—12; 44, 7–8; etc.), к которым будет применено умилостивление — по приказу понтификов или в соответствии с тем, что рекомендовали Сивиллины книги, — однако было покончено с религиозным ужасом 218–215 гг., заставившим консерваторов в сфере религии изучать и использовать все ее ресурсы. С течением времени Рим обретал все большую уверенность в себе, чувствовал примирение с богами. Когда Ганнибал, пренебрегая наилучшими шансами, расположился лагерем в нескольких милях от города (26, 10, 3), двинулся вперед во главе своей кавалерии и добрался до храма Геркулеса вблизи Коллинских ворот, то тревога римлян не перешла в панику. А так как боги дважды наслали ураган с градом, не позволивший начать сражение, то Ганнибал отступил, разгромив в гневе святилище Феронии в Капене. В прекрасном отрывке своей поэмы Силий Италик (Silius Italicus) — в XII-й песне (703–725) — хорошо выразил чувства римлян, изобразив появление покровителей Рима перед карфагенянами. Каждый из богов воздвигся над своим святилищем, и поэт, с помощью художественного отбора, составляет единое целое, в котором всё, кроме первого члена — Аполлона на Палатинском холме — поразительно архаично: «Куда ты бежишь, безумец?» — говорит Юнона, схватив Ганнибала за руку. — Ты смеешь затевать битву, превышающую человеческие силы». При этом она отстранила темную тучу, которая ее скрывала, и предстала перед ним в своем истинном виде. «Нет, тебе предстоит сражаться не с фригийцем и не с лаврентийцем. Пройди вперед, я на мгновение отодвину тучу, и посмотри туда, где величественно возвышается вершина этой горы: там находится Дворец Аркадийца (Эвандра), где живет Аполлон; этот бог держит свой колчан, гудящий от стрел, и натягивает лук, готовясь к сражению. А среди соседних холмов, где возвышается Авентин, видишь ли ты, как Диана сотрясает свои пылающие факелы, зажженные в потоках Флегетона? С обнаженными руками она жаждет битвы. Смотри, как с этой стороны Марс Шествующий (Gradivus) в своем ужасающем вооружении располагается на Поле, которое носит его имя. А там Янус, а тут Квирин, размахивающий оружием. Каждый бог на своем холме… Посмей же посмотреть на Юпитера Громовержца, погляди на все бури и грозы, которые разражаются от одного лишь движения его головы.» И богиня уводит Ганнибала, mirantem superum uultus et flammea membra[591]. Последнюю великую тревогу Рим пережил в 207 г., когда Гасдрубал пересек Галлию и подошел к Альпам с подкреплением, которого Ганнибал ждал уже так долго. Оба консула, которым предстоит одержать победу у реки Метавр (Métaure), только-только назначены и еще не покинули город, когда происходят в Вейях, в Минтурнах, в Капуе следующие друг за другом знамения, слухи о которых легко возникают в моменты, когда общество неспокойно. Только успели пройти искупительные ритуалы в связи с первой группой знамений, как произошли другие: в частности, во Фрузиноне младенец, огромный и неясного пола, был объявлен foedum ac turpe prodigium[592] призванными из Этрурии гаруспиками. По их совету его положили в ящик и бросили в море за пределами территории Рима. Серьезность ситуации и большое число дурных знаков побудили понтификов возобновить свои усилия (Liv. 27, 37, 7—15):
«Эти понтифики постановили, что три группы по девять девушек должны ходить по городу, распевая религиозные песнопения. В то время, когда, собравшись в храме Юпитера (Jupiter Stator), девушки разучивали текст, сочиненный поэтом Ливием, молния поразила храм Юноны Регины на Авентине. Когда обратились за разъяснением к гаруспикам, они сказали, что это чудо касается замужних матрон, и что богиню надо умиротворить подарком. Курульные эдилы созвал на Капитолии всех тех матрон, которые жили в Риме и его окрестностях до десятого мильного камня. Матроны выделили двадцать пять женщин, которые должны были собрать некую сумму, пожертвовав частью своего приданого. За счет этих даров изготовили золотую чашу и отнесли ее на Авентин, где матроны совершили жертвоприношение. Сразу после этого в честь той же богини децемвиры установили день для другого ритуала, который заключался в следующем. Две белых телки отправились из храма Аполлона в город, войдя в него через Ворота Карменты. За ними несли две статуи Юноны Регины из кипарисового дерева. Далее шли двадцать семь девушек в платьях с шлейфами, распевая в честь богини гимн, который, возможно, нравился грубым умам того времени, но который сегодня показался бы, если бы я его процитировал, безвкусным и бесформенным. За девушками шли децемвиры в лавровых венках и одетые в белую тогу с пурпурной каймой. От Ворот Кармен-ты по vicus Jugarius[593] кортеж направился к Форуму, где и остановился. Девушки, держась все за одну веревку, двинулись вперед, отбивая ногами ритм песнопения. Затем, через Тусскую улицу, Велабр, Бычий форум дошли до Публициевого склона и поднялись в храм Юноны Регины. Здесь децемвирами были умерщвлены две жертвы, а обе кипарисовые статуи были помещены в святилище».Некоторые исследователи усмотрели здесь соперничество духовенства, чрезмерные обещания, обосновывая эту точку зрения тем, что тревога охватила и самих священнослужителей, и что в религии проявилась некая анархия. Но действительно ли рассказ Тита Ливия направляет мысли в эту сторону?[594] Анархичными, несогласованными (вследствие своей случайности) были как раз знамения, с которыми государство и понтифики справлялись, как могли, обычными средствами — спрашивая совета у гаруспиков, выслушивая децемвиров, придумывая новые ритуалы. Предлагали считать, что децемвиры, действуя по собственной инициативе, повернули к храму Юноны процессию, которую понтифики поначалу хотели провести под знаком Юпитера. Однако это неубедительно. Ведь понтифики предусматривали такое шествие по городу, которое нет никаких оснований считать специально посвященным Юпитеру. По-видимому, было изначальное намерение — ввиду опасности — провести репетицию в храме Юпитера Статора, но здесь речь идет лишь о подготовке. Переориентация проекта в пользу Юноны Регины вызвана тем, что случилось новое знамение — молния ударила в ее святилище как раз тогда, когда девушки упражнялись в пении. Многочисленные обращения к этой богине впоследствии объясняются теми причинами, которые были приведены выше: во время войны против города Дидоны всё то, что кажется проявлением недовольства Юноной и враждебностью к ней в связи с подозрением в симпатиях к карфогенянам, волнует римлян. Поэтому вполне естественно, что — после даров, предписанных гаруспиками, — у децемвиров спросили совета в этом важном деле, ибо абсолютно неправдоподобно предположение, будто они вмешались и назначили день без соответствующей просьбы со стороны государства и духовенства. Естественно также, что путь через город, per urbem, если это было уже решено, был скорректирован так, чтобы завершиться у богини. Эти действия в одном направлении обнаруживают, скорее, гармоничное и регулярное сотрудничество всех экспертов в служении одной потребности: умиротворить богиню, которую давнее до-римское прошлое связывало с Карфагеном, — подобно тому, как недавнее прошлое связывало ее с Вейями до того, как она расположилась на Авентине. И еще меньше оснований предполагать существование соперничества среди духовенства, поскольку как раз незадолго перед случившимися знамениями оба общественных класса — и плебеи, и патриции — также гармонично сочетали поклонение своим богам: римские игры (ludi Romani), которые курульные эдилы три дня праздновали с пиршеством Юпитера (epulum Jouis), и плебейские игры (ludi Plebei), которые также длились три дня и сопровождались дарением трех статуй Церере эдилами плебса (Liv. 27, 26, 8–9). Разве это не полная противоположность беспорядку? Однако несмотря на то, что опасность миновала и что Метавр отомстил за Канны, Ганнибал упорно не хотел покидать южную Италию. Даже угрозы Африке не поколебали его. Эта последняя необходимость вызвала новое увеличение капитала религии Рима. За пределами Греции, под прикрытием легенды о Трое, Сенат потребовал нового покровительства в Малой Азии. С тех пор, как македонцу пришла в голову опасная мысль вмешаться в римские дела, выступая против Рима, этому последнему пришлось обеспечить себе противовес и обрести союзников: этолийский союз в Греции, пергамское царство в Малой Азии. Царь Аттал, прекрасно подходивший для этого, получал выгоду от престижа Рима, поскольку его собственная власть постоянно находилась под угрозой[595]. Совместно поддерживая легенду об Энее, Рим и Аттал могли утверждать, что они состоят в родстве, и базировать свое взаимопонимание на общности происхождения, что было более достойно, чем общность интересов. Мелкие, но достоверные факты доказывают, что пергамские эрудиты конца III в. очень хорошо умели находить великих предков для малоизвестных городов и семей. Они угождали пристрастию, которое проявляла к троянской генеалогии дружественная великой Республике аристократия. Весьма правдоподобно предположение, что их современник — летописец Фабий Пиктор — использовал немало выдумок такого рода. Царь и его наследники поощряли такие измышления, которые были им выгодны политически: разве Аттал II не распорядился изобразить в Кизике среди рельефов на стене храма его матери историю Реи Сильвии и близнецов — сыновей Марса? Доброе согласие между двумя группами «троянцев» сделало возможным смелый план: в 205 г., когда уже неопасный Ганнибал продолжал свое непрочное пребывание на юге Италии, децемвиры, которых снова попросили обратиться за сведениями к Книгам, потребовали официального введения культа Великой Матери, т. е. Кибелы. По словам Тита Ливия (29, 10, 4–6), они прочитали в Книгах удивительно ясный текст (carmen): «Когда чужеземец принесет войну на землю Италии, то изгнать и победить Ганнибала можно будет только после того, как Идейская Мать будет перенесена из Пессинунта в Рим». То, что можно понять о намерениях децемвиров, Henri Graollot резюмировал следующим образом (скорее всего, имея в виду римских политиков, глашатаями которых были децемвиры):
«На решение децемвиров, которым было поручено обратиться к Книгам, могли повлиять три фактора: религиозные идеи, побуждавшие их искать для римского оружия поддержку могущественного божества; политические идеи, внушавшие им, что великая богиня Анатолии могла бы оказать им необходимую помощь в дипломатии, касавшейся Сената; наконец, аристократическое тщеславие толкало их к Идейской Матери. Но в этих обстоятельствах претензии правящей аристократии сходились с интересами римского народа. Они становились государственной идеей, поскольку позволяли Риму вскоре выступить в роли естественного наследника Малой Азии».Перенесение (Transuectio) Великой Матери, день рождения которой был праздником до конца эпохи язычества, стало материалом настоящего романа, имевшего варианты: даже в исторические времена, даже в отношении столь важного события — повествование имеет часто большие расхождения в деталях[596]. Однако последовательность эпизодов, правдоподобных или фантастических, остается неизменной[597]. И неважно, добрались ли римские посланники после договора Аттала в поисках богини до Пессинунта или просто «вытащили» ее из пергам-ских Мегалезий (Варрон). Неважно, останавливалась ли эскадра, плывя в сторону Азии, для обращения к дельфийскому оракулу или нет. Неважно, этот ли оракул или сами децемвиры определили протокол церемонии встречи. Гораздо важнее, что посольство объединило трех членов старинных патрицианских семей и двух членов плебейской знати, и что героями встречи были Сципион и Клавдия: культ Великой Матери изначально был аристократическим. По указанию децемвиров Венера Эрицина стала свидетельницей того, что ее храм был торжественно обещан и посвящен самым высокопоставленным магистратом. Для Великой Матери дело было в моральной стороне: ее должны были принять «самый достойный мужчина и самая добродетельная женщина». Этим самым достойным стал Публий Корнелий Сципион Назика, молодой человек двадцати восьми лет, кузен самого авторитетного военачальника Республики, а самой добродетельной стала Клавдия Квинта, дочь и сестра последних консулов. Праздник проводился в порту прибытия и в городе. По словам Тита Ливия, матроны сопровождали Клавдию и Сципиона до Остии. Как только корабль подошел к устью Тибра, Сципион сел в лодку и поднялся на борт. Там, из рук анатолийских священнослужителя и священнослужительницы он принял черный камень, символизировавший богиню, и в его объятиях она ступила на сушу. Он передал ее самым знатным женщинам, которые, беря ее по очереди, возможно, в повозке, как требовал закон в случае священной миссии, препроводили ее до города, находившегося в двадцати километрах от морского берега. Как говорит Тит Ливий (29, 14), «весь город сбежался, чтобы их встретить. У дверей домов вдоль всего пути процессии в курильницах горел фимиам. Богиню просили войти в город с добрыми намерениями и быть к нему благосклонной. Ее внесли в храм Победы на Палатине накануне апрельских ид, и эта дата с тех пор стала праздничным днем. Толпы народа пришли на Палатин с дарами. Были проведены лектистернии и игры, которые получили название Мегалезии». В легенде это событие было всяческиприукрашено. Самая яркая ретушь коснулась Клавдии. Ее выбрали как самую добродетельную, но народным чувствам было мало простого выбора, не связанного ни с какой историей, и — перевернув естественный ход причин и следствий — выдумали трогательный эпизод, который поэты эпохи Августа еще возвеличили. В этой трактовке Клавдия не была избрана заранее благодаря тому, что славилась добродетелью и была предназначена для встречи богини. Напротив, сама богиня, остановив свой корабль при входе в Тибр, вызвала не предусмотренное ранее появление Клавдии, и в то же время обелила ее репутацию, которая в какой-то мере в этом нуждалась. По словам Овидия (F. IV, 297–328):

Глава VIII ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Если история кризиса второй Пунической войны позволяет проследить размеренное существование и постепенное распространение религии римского государства, а также заметить — анализируя напряженные размышления правителей — волнения, страхи, восторги, возникавшие в обществе и ускорявшие, а иногда направлявшие процессы развития, то наряду с этим нам открыта и другая возможность взглянуть на религиозную ситуацию Рима того времени. Дело в том, что появляется римская литература. По сравнению с краткими отрывками, которые остались от Ливия и Невия (Livius, Naevius), значительны сохранившиеся тексты Энния, а кроме того — мы можем читать целые произведения Плавта и Катона[601]. Энний — замечательный свидетель, причастный к военным и политическим драмам того времени. Он родился в Калабрии, и ему было двадцать четыре года во время тразименских событий. Он служил в армии до тех пор, пока в 204 г. его не заметил в Сардинии Катон и не привез в Рим. Там, будучи школьным учителем, он поссорился со своим первым хозяином и напал на него. Попав в ближнее окружение Сципиона Африканского и Сципиона Назика, он, в конце концов, получил римское гражданство, что было справедливой наградой. Этот Ронсар римской литературы — так же, как и наш Ронсар — резвится в море греческой поэзии и греческой мысли, не обращая внимания на противоречия. Когда он переводит Эвгемера, то становится его приверженцем, а когда вдохновляется Гомером, — он благочестив и проникается божественным величием. О владыках мира он имеет самые разнообразные представления. То он распространяет греческую легенду о римских богах, греческая интерпретация которых теперь уже утвердилась; то — следуя национальным летописным данным — он почти точно переписывает в своих стихах формулировки божественного права (ius diuinum). Его изображение Юпитера — хороший пример этого многообразия трактовок. В Анналах — бог таков, каким его характеризует Гомер:«Я пришел по приказу Юпитера. Меня зовут Меркурий. Мой отец прислал меня к вам сюда как посланника. Хотя он знает, что вы послушаетесь его приказов, и уверен, что вы уважаете и боитесь его, испытывая те чувства, которые положено питать к Юпитеру, он, тем не менее, приказал мне ласково поговорить с вами и обратиться со следующей просьбой…»[606].Марк Порций Катон — Катон Старший — совсем другой человек. Он родился в 234 г. в Тускуле в непримечательной семье. Он отличился в войнах и магистратуре. Энергичный и храбрый, упорный и скупой, пламенный патриот с бесчувственным сердцем, он достоин того, чтобы олицетворять типичного старого римлянина. Его ненависть к Карфагену, подавленная и неопасная, как и его презрение к толпе его рабов — позволяет понять, как мало в нем человечности; однако его заслуги перед государством и общественной моралью — неоспоримы. Он уникален благодаря тому, что сделал то, чего никто, кроме него, не достиг в Риме: он сорок четыре раза с успехом опроверг обвинения, выдвинутые против него его врагами — столь же страстными, но не столь честными душой, как он. Его литературной памяти повредила плохая сохранность произведений: трактат о сельском хозяйстве — сборник точных и кратких записок, магических рецептов и рассудительных советов, — все это представляет интерес только для историка. То, что там относится к религии, — находится на уровне сознания крестьянина, мелкого собственника (каким он и был), владельца недвижимости в сабинских землях. Благодаря ему мы узнали о некоторых ритуалах, об интересных группах богов, принадлежащих к чисто римской мифологии: иноземные вкрапления весьма незначительны. Его семитомное произведение Происхождение римского народа не сохранилось. Те цитаты, которые древние авторы из него заимствовали, позволяют считать, что это большая утрата и что этот труд содержал множество точных подробностей из сферы религии, существовавшей тогда в обществе. Так как он враждебно относился к новшествам и к новаторам и не доверял всему тому, что шло из Греции, имеется полное основание полагать, что религия, которую исповедовал он лично, и та религия, которую он намеревался защищать, не были затронуты великими веяниями той эпохи. Однако когда ему было около тридцати лет, он взял у Энния первые уроки греческого языка, и можно думать, что этим языком он владел. Но только все то, что на склоне лет он почерпнул из Греции, относилось не к сфере религии, а к сфере философии. Думая о греческих учителях этого римлянина, трудно понять, как он мог так строго разграничивать эти две категории мышления. Однако традиционные римские боги не имели познавательной и космической значимости, присущей греческим богам. Они покровительствовали жизни города, отдавая четкие распоряжения — одни из которых действовали длительно, другие же были связаны с конкретными обстоятельствами, и все это не координировалось никакой общей доктриной. Как мы видели, поначалу, возможно, дело обстояло иначе, однако давно уже индоевропейская «философия» (некогда поддерживавшая в центре религии триаду Юпитер — Марс — Квирин, воспоминания о которой не были утрачены, — и это доказывают история о бычьей голове, история о конской голове, а также знамения (omina) Карфагена) утратила ведущие позиции, причем все это не получило никакой замены, а на вопросы личной религии, ближе всего стоявшей к философии, на вопросы о душе, о судьбе человека после смерти — традиция предлагала в качестве ответа лишь общие или туманные понятия. Римлянин знал точно, что' он должен делать как отец семейства (pater familias) или как гражданин; и Регул, сдаваясь своим палачам, считался только с Римом, и ни с чем другим. Греция породила в умах римлян другие потребности, даже у самых непокорных из них: наблюдение за своим внутренним миром, диалог с самим собой, а иногда интерес к тайнам, желание более близкого общения с богами, более доверительных отношений и эмоциональных связей с некоторыми божествами. В то же самое время — через науку, через учения о природе — у людей возникали другие вопросы: о возникновении мира, об отношениях между богами и вещами, об имманентности и трансцендентности, а также в новой форме появился интерес к отношениям между богами, к самой сути божественного, к реальной или кажущейся множественности. Поскольку традиционная религия таким проблемам не уделяла внимания, это предоставляло свободу таким деятелям, как Катон и Сципион — непреклонным или гибким — искать информацию за ее пределами и находить новые источники знаний. Казалось, что возможно выявить определенные границы, разделяющие собственно культ и философские построения. Конечно, риск был очевиден: философы честолюбивы, они критично воспринимают догматы, стремятся во все проникнуть. Более того, есть такие формулировки отношений между богами и вещами, которые равноценны отрицанию богов. Такой литератор, как Энний — легкомысленный и переменчивый, — мог охотно излагать открытия Эвгемера. Но этого не мог делать Катон, который стремился к сохранению Рима, в чем отводил себе большую роль. Поэтому он так много усилий прилагал к тому, чтобы изгнать из Рима Карнеада (Carnéade) и других философов, лекциями которых так жадно интересовались молодые римляне. В пределах «свободных проблем» он себя ничем не ограничивал. Он, не смущаясь, узнавал все, что его интересовало. В Таренте, в 209 г., сопровождая Квинта Максима, он жил у пифагорейца Неарха и ознакомился с трактатом Архита (Archytas). Можно предположить, что в возрасте двадцати пяти лет он не мог не поддаться влиянию того, что привлекало ум к этим писаниям, а то, что он стал в старости последователем Пифагора, несомненно, подготавливалось в течение всей его жизни и было результатом ярких воспоминаний о его юношеском опыте. Во всяком случае, то, что после смерти Катону Старшему повезло, и Цицерон использовал его как привлекательного проповедника утешительных идей пифагореизма, не было бы возможно, если бы этот прославленный цензор действительно не увлекся ими в последние годы своей жизни. В одной из глав трактата О старости (De senectute; 11, 38) он сам пишет, в возрасте восьмидесяти четырех лет, о своей замечательной интеллектуальной деятельности:
«Я пишу седьмую книгу своей работы о возникновении Рима. Я собираю документы, связанные с давним прошлым, я редактирую речи, которые произносил на столь многих знаменитых судебных процессах, я рассматриваю вопросы права — авгурального, понтификального и гражданского. Кроме того, большое внимание я уделяю греческой литературе, а также, как это принято у пифагорейцев, я тренирую память: вспоминаю вечером то, что сказал, делал, слышал в течение дня».Мы наблюдаем линию раздела между гражданскими и религиозными традициями в Риме и констатируем, что речь идет лишь о том, чтобы записать и сохранить их. Мы замечаем также живое практическое применение одного из направлений греческой философии (впрочем, весьма утилитарное). В заключительной части трактата мы наблюдаем такое же разделение, но здесь имеет место удачное совпадение, сближение римского инстинкта с учением мудрецов Тарента: почему я должен бояться смерти, если Платон, Ксенофонт, пифагорейцы — так убедительно говорят о бессмертии души? Зачем я, старик, стал бы бояться смерти, когда столько раз — quod scripsi in Originibus[607] — молодые люди, юноши из наших легионов отправлялись alacri animo et erecto[608] туда, откуда они знали, что не вернутся живыми? Счастлив или жалок тот человек, который сумел так спокойно объединить — предоставив им сотрудничать, а не противостоять друг другу — эти два способа мышления, которым предстояло в будущем подвергнуться гораздо более смелому и плодотворному смешению?!

Глава IX ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА
За пределами составления или индивидуального сопоставления римских летописей и греческого мышления, первые сохранившиеся образцы соединения этих двух цивилизаций мы получили от Энния и Катона. Эта встреча беспрецедентного роста во времени и великолепных духовных и интеллектуальных структур вызвала появление в самóй религии, принятой в обществе, некоторых новых взглядов, омолодила или преобразовала многие старые понятия, игравшие ведущую роль, и, наконец, способствовала зарождению понятий, которые — хотя получили развитие лишь позднее — тем не менее, были призваны совершить подлинное перевоплощение. Одно из этих обновлений произошло с понятием судьбы. Представляется, как я уже неоднократно говорил, что в древней религии не было постоянного и четко выраженного представления о судьбе на длительное время, о предназначении людей и обществ, даже общества римского. Мышление, обращенное к конкретике и повседневности, одинаково было равнодушно к глубинам времен и к бесконечности пространства: этим не интересовались. Жизнь римлян и города Рима проходила в рамках скромных и устойчивых категорий, дней, месяцев, лет. Она была основана на календаре. За этими пределами важную, хотя и ограниченную роль играет lustrum (пятилетие), тогда как saeculum (человеческий век) остается смутным понятием — столь же неустойчивым, как и поколения людей. В жизни государства — после того, как Республика достигла зрелости — подлинной единицей был год, который (вследствие смены великих магистратур) ставил под вопрос все, включая ближайшие намерения богов в отношении Рима. В царские времена деление времени на годы не могло играть слишком большой роли, но в начале каждого царствования — при inauguratio царя — боги, конечно, выражали свое отношение и свою волю, но они, по-видимому, делали это и в других случаях. В самом деле, главное в отношениях между богами и человеком заключалось в том, что боги подавали знаки, а люди эти знаки интерпретировали. Одни знаки появлялись периодически, и при этом регулярно, а другие — случайно. Об одних знаках люди просили, а другие навязывались им богами. Это ауспиции, прорицания, omina (знамения), prodigia (чудеса). Одни знаки выполняли функцию допущения или даже руководства, в других случаях это были нагоняи, проявления несогласия или гнева, возвещение опасности. Благодаря этим многочисленным указаниям действующие магистраты или просто люди, занятые своими делами, определяли свое поведение как бы опытным путем. Они всегда были готовы признать свои ошибки, просить о других советах. Кроме того, большое значение имела интерпретация знаков, которые можно было принять во внимание, либо не считаться с ними. В обычное время приемов умилостивления было достаточно, чтобы справиться с продигиями. Конечно, ауспиции и прорицания, как правило, достаточно ясно выражали волю богов (и, прежде всего, Юпитера). Однако это касалось ограниченного времени, определенного решения, вопросов мира или войны[609]. Конечно, наряду с отдельными проявлениями божественной благодати, имевшими место на протяжении времени, Рим получал и долгосрочные обещания, два из которых, несомненно, очень древние: это вечный огонь, поддерживаемый весталками, и, в непосредственном окружении Юпитера, богиня Ювента. Как мы видели, Ювента покровительствует и юношам, и жизненной силе, которую они в себе несут, давшей им их имя — iuuenes. Действительно, долговечность Рима понимается конкретно: как следование друг за другом молодых людей, которые — благодаря бесконечной смене — сохраняют городу молодость. Когда легенда о происхождении города стала обретать устойчивость, она получила подкрепление со стороны литературы — рассказом о том, что Юпитер заключил договор с Ромулом, а двенадцать коршунов, которых увидел царь-авгур, должны были не только одобрить задуманное им основание города, но также указать, что он, а не Рем, основатель города, и дать гарантии этому городу, который он собирался основать, причем сделать это независимо от него и независимо от первого поколения. Когда военные успехи и успехи в политике пробудили честолюбие Рима и вызвали у него надежды, то формировавшаяся легенда дала ему обещание не только долговечности, но и могущества: именно такой смысл обрело первоначальное обещание, которое Юпитер дал Ромулу, как об этом великолепно расскажет Анхиз в произведении Вергилия (Aen. 6, 782–783); но так, несомненно, уже думали сенаторы города в III веке:«Ни грифы, ни то, как они летали, ни место, где они появились, не дали такого важного повода для размышлений, как их число: их было двенадцать. И самые серьезные умы Рима придавали этому величайшее значение. Вот что писал в своих Древностях эрудит Варрон. Один римлянин, которого звали Веттий, прославившийся своим искусством авгура, высказал по поводу двенадцати грифов, указанных Ромулом, такое рассуждение, которое поразило Варрона: если надо сослаться на предания, оставленные нам историками в связи с пророческими знаками, ознаменовавшими основание Рима, то известно, что там появились двенадцать грифов. И вот, по прошествии более ста двадцати лет после этого события, римский народ продолжает жить в полной сохранности. Из этого следует, что наша нация проживет двенадцать сотен лет. Ученый авгур в своих вычислениях исходил из данных, которые он, по-видимому, нашел у историков — своих предшественников, а именно убеждение, что omen двенадцати грифов был действителен не только для основателя города, но и для самого города, который тот закладывал. Установленная таким образом связь между грифами и городом касалась длительности, и, следовательно, число двенадцать становилось важнейшим компонентом этого omen (знамения). Оно означало, что Риму предстояло прожить двенадцать неких единиц времени. Поскольку здесь вмешалось небо, то не могло быть и речи о двенадцати месяцах или о двенадцати годах… Ученый Веттий, по-видимому, счел, что — пожаловав Риму жизнь длиной в двенадцать десятилетий — судьба уже вполне выполнила обязательства по отношению к основателю города. Однако по милости богов этот срок уже давно прошел. Следовательно, неизвестная часть задачи, поставленной грифами, была не десятилетием, а веком. Значит, Рим должен был прожить двенадцать веков, и эта перспектива была весьма обнадеживающей, или же, напротив, тревожной, в зависимости от различий темперамента».Действительно, Рим погиб от руки Алариха (или можно было думать, что от его руки) в 410 г. н. э., т. е. формально — в двенадцатом веке своего существования. А в те десятилетия, которые предшествовали катастрофе, древнее рассуждение авгура Веттия в немалой степени деморализовало римлян: при каждой тревоге, при каждом поражении, при любом знамении они вспоминали о двенадцати грифах Ромула — об обещании, которое по истечении своего длительного срока превращалось в угрозу. Клавдий Клавдиан изображает римлян в таком состоянии духа, хотя их еще защищает Стилихон. Они предаются пораженческим настроениям, даже сокращая срок, на который они осуждены, хотя предсказанный двенадцатый век еще только начинался (B. Get. I. 265–266):
tunc reputant annos, interceptoque uolatu uulturis, incidunt properatis saecula metis[621].Это значит: «Вскоре стали считать прошедшие годы и, останавливая полет одного (из двенадцати) коршунов, сокращать века жизни Рима, торопясь достигнуть конца его судьбы». Во времена Канн и Замы, и много веков спустя, это было лишь игрой специалистов: fatum, созревший и властно представший пред умами римлян, был тем самым фатумом, чьим «хранителем» был до Ромула Эней; этот фатум был открыт будущему, не признающему границ. Во время героических лет, завершивших III век, сформировалось другое понимание, устремленное в будущее: концепция близких отношений между божеством и человеком, доходящих до родственных связей. Ранее ни один римлянин не имел возможностей для таких вольностей и таких претензий. Специально занятые каким-либо культом или традиционно связанные с неким культом роды (gentes) сохраняли к «своему» богу почтительное и прохладное отношение, характерное для общественного культа. Эгерия, дающая советы Нуме или Геркулесу, который — получив в качестве приза на играх красавицу-куртизанку — благодарил ее за ее милости, передав ту молодому или старому любовнику, осыпавшему ее богатствами, — это всего лишь персонажи поздних легенд, явно испытавших влияние Греции. Когда национальные божества изображались в виде прекрасных статуй, когда богам приписывались приключения, страсти или слабости (подробности, которыми полна была неисчерпаемая мифология), — все это результат влияния эллинизма, изменившего и концепции, и поведение людей. Боги, наконец, получили нормальную — по человеческим меркам — жизнь: у них появилась и генеалогия, и такие черты, как браки и адюльтер. Геркулес, которого в молитвах 218 г. объединяли с Ювентой, был, конечно, Гераклом, супругом Гебы. А Юпитер и Юнона были уже не только компаньонам, но царственной четой с Олимпа, и основные боги стали мыслиться как их сыновья и дочери. Но Греция принесла не только богов, среди которых, в частности, был Геракл — сын Зевса и смертной женщины. Очень рано (по крайней мере, уже с IV века) в Риме появилось — еще смутное — понятие сверхчеловека-основателя города, возникшее в результате скрещения представлений об основателе и о полубоге. Однако это был еще частный случай, включенный в легенду и не создававший прецедента. Натурализация легенды об Энее способствовала развитию этой концепции и дала ей новые шансы. У Ромула не было сына, и не было рода в Риме, который мог бы претендовать на то, что происходит от Марса, который был лишь номинальным и политическим отцом римлян. Эней же, напротив, сам будучи сыном Венеры и Анхиза, имел (кроме своих товарищей, с которыми связали свою историю многие семьи, лихорадочно искавшие великих предков) собственного сына, Аскания, который — под новым именем Iulus — вскоре положил начало восходящему роду Юлиев. И здесь пунический кризис опять-таки ускорил развитие. Будущие великие люди отныне почти все будут иметь в качестве предка бога или богиню высокого ранга, выступающего в функции избранного покровителя[622], а многие из них не постесняются сказать сами или приписать кому-то высказывание о том, что они рождены богом. Задолго до Августа, сына Аполлона, раньше всех этим прославился первый Сципион Африканский, который утверждал, что он — сын самогó Юпитера, и, тем самым, предстал перед римлянами как западное подобие великолепного Александра. Безгранично восхищавшегося Сципионом Тита Ливия смущала эта мифологическая черта: разве достоинств его героя недостаточно было для того, чтобы объяснить его успехи? Но ему приходится упомянуть об этом, так как эта особенность в немалой степени способствовала авторитету, которым еще совсем молодой Сципион пользовался у римлян. В возрасте двадцати четырех лет, в результате единодушного голосования центурий, он получает пост командующего испанской армией. Однако когда остыл порыв восторга, его молодость встревожила тех, кто его избрал, так же, как обеспокоили их утраты, постигшие его семью в самой Испании. И тогда (26, 19, 1–8), — говорит историк, — он созывает народ, обращается к нему с речью, которая «наполнила души этих людей самыми большими надеждами, какие только могут внушить обещания человека»[623]:
«Сципион был человеком удивительным не только по своим истинным достоинствам, но и по умению, с каким он с юности выставлял их напоказ. Он убедил толпу, что действует, повинуясь сновидениям и ниспосланным с неба знамениям, возможно, он сам был во власти суеверия, будто немедленно выполняются приказания и советы, данные оракулом. Он подготовлял людей к этой вере с того самого времени, как началась его политическая деятельность: когда он облекся в тогу взрослого, не проходило дня, чтобы он не пошел на Капитолий и не посидел в храме в одиночестве и безмолвии. Без этого он не брался ни за какое дело, ни общественное, ни частное. Всю жизнь хранил он этот обычай, с умыслом или невольно внушая людям веру в свое божественное происхождение. Потому-то и разошелся о нем тот же слух, что когда-то об Александре Великом (россказней о них обоих ходило достаточно): Сципион-де был зачат от огромного змея и в спальне его матери очень часто видели призрак этого чудища, стремительно исчезавший при появлении людей. Сципион никогда не рассеивал веры в это диво: не отрицая его и открыто на нем не настаивая, он ловко укреплял веру в него»[624].Отрицательно относясь ко всему этому, Тит Ливий все же подсказал главное из того, что сохранилось в летописях, а именно: эта змея якобы была самим богом Капитолия. Силий Италик (13, 400–413) помещает героя в ад, где он встречает свою мать — Помпонию, — которая открывает ему сведения о его блестящем происхождении, для того чтобы в будущем он не боялся никаких войн и без колебаний возвысился до небес благодаря своим подвигам: «…Одна, среди дня, я искала покоя в сне, когда вдруг почувствовала, что меня обнимает кто-то, но не мой муж, который обычно был нежен. И поверь мне, что, хотя глаза мои были объяты сном, я увидел Юпитера в ярком сиянии! Он не мог скрыть того, что он бог, хотя он принял вид змеи, извивавшейся огромными кольцами. Мне не было суждено выжить при твоем рождении. Увы, как много я стенала, горюя о том, что испустила дух, не успев открыть тебе это, но ты должен это знать». Весьма хитроумно Hubaux вводит сюда неожиданного свидетеля — Плавта[625]:
«Если Тит Ливий говорит правду, когда пишет, что при жизни Сципиона рассказывали, будто он был рожден трудами Юпитера, то можно задаться вопросом, не отражена ли в Амфитрионе Плавта реальная жизнь. Невероятно забавная пьеса, уникальная в своем роде во всем латинском театральном репертуаре. Юпитер, чтобы соблазнить Алкмену, предстал перед ней в образе Амфитриона, ее мужа… скольпикантными становятся эти стихи, если они обращены к зрителям, которым известен в самóм Риме человек, которого льстецы называют сыном Юпитера, рожденным смертной матерью от отца-бога!».Этот ловкий полубог, с другой стороны, создает в Риме пример своего рода человека-бога — человека, который достоин того, чтобы быть богом, и который действительно, в конце концов, становится если не богом, то, по крайней мере, чем-то близким к божественному. Этот «небесный призыв» мы видим в четырех стихах, приписываемых Эннию, которые сохранили Цицерон, Сенека, Лактанций, где сам Сципион якобы заявляет, что хотя другие могут добраться до местопребывания богов, только ему будет открыта широкая дверь туда[626]. В Сне Сципиона (Эмилиан), завершающем произведение Цицерона О государстве, первый Сципион Африканский выступает как глашатай благородного учения (6, 13):
«Но знай, Публий Африканский, дабы тем решительнее защищать дело государства: всем тем, кто сохранил отечество, помог ему, расширил его пределы, назначено определенное место на небе, чтобы они жили там вечно, испытывая блаженство. Ибо ничто так не угодно высшему божеству, правящему всем миром, — во всяком случае, всем происходящим на земле, — как собрания и объединения людей, связанные правом и называемые государствами; их правители и охранители, отсюда отправившись, сюда же и возвращаются»[627].Так последний оратор и философ римской Республики примирил двух врагов — Катона (из трактата О старости) и Сципиона (из Сна) — в двух красноречивых и спокойных высказываниях о бессмертии души и о небесном вознаграждении, обещанном великим гражданам. Хотя эти идеи не восходили к официальной религии, они с ней уживались легко и, по-видимому, достоверно. Их проповедовали и Сципион, и Катон. Эти идеи быстро созрели: недалеко то время, когда — пролагая путь столь многим «божественным» императорам — Цезарь, внук Венеры, получит звание бога среди звезд. Наконец, события IV и III вв. изменили не только материальный Рим, но преобразовали также и представления о нем у римлян и других жителей Италии, а исход второй Пунической войны сулит Риму еще бóльшие метаморфозы. История, а также легенда об Энее — отводят ему необыкновенную роль. Его величие еще вызывает ревность и зависть, но уже не оспаривается. Во времена испытаний союзники в большинстве случаев хранят верность Риму. Накануне восстания жители Лация и Кампании поначалу потребовали только половину мест в Сенате и назначения из их среды одного из двух консулов. Хотя Союзническая война начала I в. быстро эволюционирует в сторону сепаратизма и стремится к отделению от Рима, все же поначалу, вероятно, толчком послужило разочарование некоторых городов и народов, которые хотели быть равными Риму в рамках Римской империи. Выдвижение Рима не могло не отразиться на теологии. Конечно, еще далек тот момент, когда богиня Roma потребует всемирного поклонения, но она уже обретает индивидуальность, реальное существование, и она получает своего Гения — ибо Гений, о котором впервые упоминается в религиозных актах после Треббии, может быть только Гением римского общества как единого целого, т. е. Genius publicus, Genius populi Romani (Гений государства, Гений римского народа). И весьма возможно, что именно в это время появились не слишком связные домыслы о тайном имени Рима, о божестве, покровительствующем городу и настолько к нему привязанному, что сливается с ним[628]. Однако «явление» Рима повлияло на религию еще и в другом отношении. В то самое время, когда открытие богатства ресурсов греческой философии приносит в Рим скепитицизм и безбожие, когда Энний переводит Эвгемера, и еще не пришло время, когда, полемизируя со стоиками, Карнеад даст молодежи диалектические способы освободиться от веры в богов, — происходит трудная, но блестящая победа в войне против Ганнибала, доказывая обратное, убеждая не рассуждениями, а своеобразным опытом, полученным благодаря тщательному «лабораторному труду» и показывающим, что боги действительно существуют, а традиционные приемы оказываются вполне эффективными и позволяют узнать их волю, истолковать их знаки, исполнить их желания, умиротворить их гнев. В каждом конкретном случае, в любых обстоятельствах — достаточно выяснить, какому богу или каким богам следует поклоняться, и понять, какие формы культа они хотят видеть. И здесь речь идет именно о римских богах, ибо Венера Эрицина и Великая Мать были призваны не как иноземные божества, но как римлянки, которые были здесь до Рима: их долго не замечали по неведению, но теперь, к счастью, нашли. В общем, самым лучшим доказательством существования богов отныне является Рим — его прошлое, настоящее, а также шансы, которые ему явно обещает будущее. Таким образом, найден решающий ответ на все придирки, словесные уловки и силлогизмы резонеров. Религиозная реставрация, осуществленная Августом, в конечном счете, исходит именно из этой здравой идеи. До него, в странном трактате, в котором Цицерон через своих персонажей излагает различные (интересующие и его самого) взгляды на природу богов, умный понтифик Гай Котта противопоставит эти идеи речам стоика Бальбуса (Nat. d. 3, 2):
«Я выступил в защиту тех мнений о бессмертных богах, тех обрядов, святынь и религиозных учреждений, которые мы восприняли от предков. Я же всегда буду защищать их и всегда защищал. И это мое мнение, которое я воспринял от предков, о почитании бессмертных богов, не колеблет никогда никакая речь ни ученого, ни неученого. Только, когда дело касается религии, я следую тому, чему учат Тиберий Корунканий, Публий Сципион, Публий Сцевола — великие понтифики, а отнюдь не тому, о чем говорят Зенон, Клеанф, Хрисипп. Я имею перед собой пример Гая Лелия, авгура и в то же время мудреца; и его, произносящего свою знаменитую речь о религии, я бы охотнее выслушал, чем кого-нибудь из глав стоической школы. Так как вся религия римского народа первоначально состояла из обрядов и ауспиций, а затем к этому добавилось третье — прорицания, которые давались на основании чудес и знамений толкователями Сивиллы и гаруспиками, то я всегда считал, что ни одной из этих составных частей религии нельзя пренебрегать. И я убежден, что Ромул ауспициями, Нума, учредив жертвоприношения, заложили основу нашего государства, которое, конечно, никогда бы не достигло такого могущества, если бы высшим благочестием своим не заслужило милости бессмертных богов»[629].Так, щедро выплачивая свой долг, Рим становится гарантом, живым свидетельством, постоянным поручителем тех богов, которые ему покровительствовали, и того культа, который сделал возможным это покровительство. Разве не на эту уверенность опираются тяжеловесные, но прекрасные и совершенные по технике стихи, в которых Энний описывает первые auspicia, соперничество между Ремом и Ромулом и выбор Юпитера (Cic. Diu. 1, 107):
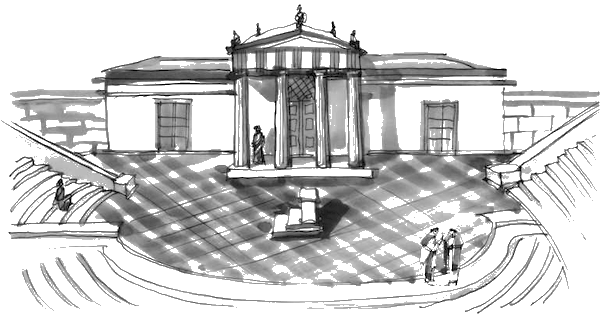
Глава X НАТИСК И СОПРОТИВЛЕНИЕ
В то время как религия римского государства — сильная благодаря понтификам, обеспечивавшим опору на фундамент традиций, а также чутко реагировавшая (благодаря децемвирам) на благоприятные внешние обстоятельства — действовала гармонично, как это было показано выше, в обществе назревали серьезные изменения. Войны привели к огромным потерям: пятнадцать тысяч погибших при Тразимене, семьдесят тысяч — при Каннах, причем погибли также консул Павел-Эмилий, два квестора, восемьдесят сенаторов, двадцать одни трибун и множество всадников. Не было ни одной семьи, которая бы не пострадала, так что первое, что предпринял Фабий, — это упорядочил и ограничил траурные церемонии. Чтобы восполнить утрату такого количества граждан и союзников, Риму пришлось прибегнуть к рискованной, хотя и многообещающей политике. Назначенный Сенатом на пост диктатора Марк Юний Пера собрал четыре легиона. В них вошли восемь тысяч рабов, купленных у частных лиц. Все больше использовались союзники, но они сделали армейский состав смешанным, и в этих войсках (управляемых, правда, римскими консулами) подлинные римляне были в меньшинстве. Опустошения Италии, неоднократно осуществленные Ганнибалом, привели к перенаселению Рима: так же, как в Афины во время Пелопоннесской войны, но в гораздо большем масштабе — население хлынуло внутрь городских стен Рима. После предательства южных городов в Рим устремились беглецы, сохранившие ему верность. Такие потрясения, опустошения, неуверенность в завтрашнем дне — и разоряли частные хозяйства, и из года в год возрастало число тех, кого в последующие века стали называть бедняками и кто (прежде чем стать политической силой в роли подручной массы) способствовал росту беспокойства в обществе, тревоги, способной вызвать психоз. И действительно разразился настоящий психоз, когда вспыхнул страх, достигший пароксизма и охвативший толпы римлян в ужасные годы. В то время как магистраты и священнослужители спокойно управляли сферой священного, эти массы сами анархически порождали страх. Распространение знамений, на которые добросовестно указывали, стало почти ежегодным симптомом этой беды, которую констатирует Тит Ливий. Другим симптомом было увеличение числа дарителей или торговцев, предлагавших магические рецепты, карикатуры на культы, импровизированные проявления набожности, распространявших верования полусуеверного или полуфилософского типа, ускользавших от контроля понтификов и даже не поддававшихся в своих проявлениях контролю эдилов. Необходимо снова подчеркнуть, что правители Рима никогда не были против официального признания иноземных культов. Они сами выступили со смелыми инициативами — в присутствии Ганнибала — и широко обращались к греческому обряду. Даже «родственницы», даже принятые в померии такие богини, как Эрицина или Великая Мать, остаются «новыми» богинями. Они тоже не имеют ничего против введения культов частными лицам, при условии, что эти культы остаются частным делом, не выходят за пределы семейного дома и не нарушают проведения римских ритуалов. Однако во времена Треббии, Тразимена или Канн эти границы очень скоро были преодолены, и государство, т. е. правящая аристократия, резко реагирует на это. Не будет преувеличением сказать, что 213-й год открыл новую эру. Колеблясь между обычной политикой терпимости к разным формам религии и стремлением оставаться властелином и верховным судьей в сфере религии, государство то долго проявляет терпимость, то жестоко вмешивается; происходит борьба, во время которой (начиная с династии Юлиев, и до Константина) государство, Империя — воюет с христианством за всемирное господство. Тит Ливий описал первый такой спор весьма красноречиво, посвятив ему целую главу (25, 1, 6—12). Марцелл энергично ведет наступление на несговорчивого Архимеда. В Испании (а через Сифакса также и в Африке) Рим распространяет свою деятельность, развивая сеть союзных связей. Однако Ганнибал, оставаясь по-прежнему в Южной Италии, представляет угрозу, а в Таренте молодые люди намереваются сдать ему свой город. «Война все тянулась; победы чередовались с поражениями — менялось не столько положение дел, сколько души людей. Богобоязненность овладела Городом, но молились главным образом чужеземным богам, будто вдруг то ли боги, то ли люди стали другими. От римских обрядов отрекались не тайком, не в своих четырех стенах, а публично: даже на форуме и в Капитолии толпа женщин молилась и приносила жертвы не по отеческому обычаю. Умы людей оказались в плену у жрецов и прорицателей, число которых увеличивалось от того, что толпы селян, обнищавших, запуганных, забросивших свои поля из-за долгой войны, были согнаны бедствиями в Город, а легкая нажива на людских заблуждениях стала как будто дозволенным ремеслом. Порядочные люди сначала негодовали втихомолку, наконец стали жаловаться открыто, и дело дошло до Сената. Сенат сильно пожурил эдилов и триумвиров по уголовным делам за попустительство, но когда те попытались прогнать с форума толпу и разбить посуду, применявшуюся при жертвоприношениях, их чуть не прибили. Зло явно набрало силу, и младшим должностным лицам его было не одолеть. Сенат поручил Марку Эмилию, городскому претору, избавить народ от этих суеверий. Он прочитал на сходке сенатское постановление и издал указ: у кого есть книги предсказаний, молитвословий и подробное описание, как совершать жертвоприношения, пусть принесут к нему все эти книги и записи до апрельских календ; и никто пусть не смеет совершать на общественном и освященном месте жертвоприношения по новому или чужеземному обряду»[632]. Приказ был выполнен точно и без насилия, однако религиозные сорняки не могли так легко и просто исчезнуть, тем более, что сам претор, которому было поручено уничтожить все эти книги, открыл одну из них и прочел два пророчества. Одно, касавшееся недавнего прошлого, ясно предсказывало — с указанием мест и имен — разгром при Каннах. Второе обещало Риму окончательную победу, если он проведет игры, посвященные Аполлону. Магистрат проинформировал Сенат, который сделал то, что запрещалось частным лицам: со следующего, 212 г. были введены Ludi Apollinares (игры в честь Апполона). Тит Ливий пишет: «Народ при этом присутствовал, и у людей были венки на головах. Матроны совершили суппликации. В домах были открыты двери, люди пировали под открытым небом, и в этот день совершались разнообразные ритуалы» (Liv. 25, 11–12). Здесь совершенно очевидна поразительная выдумка. В начальных буквах сатурнических стихов, которые можно выделить из текста слегка подкорректированного стиха первой песни Марциевых песен, господин Леон Германн недавно разобрал акростих «Anci Marci» и высказал предположение, что некий фальсификатор (он думал, что это поэт Ливий Андроник) из благих побуждений — возможно, вдохновленный кем-то из децемвиров — хотел поднять дух нации пророчествами, высказанными четвертым царем Рима и, следовательно, более древними и более римскими, чем даже Сивиллины книги[633]. Это могло бы быть объяснением той легкости, с которой Сенат аутентифицировал эти писания, хотя в то же самое время уничтожил все остальные. Так начинается — монотонная в своей основе, но разнообразная в частных проявлениях — история переменчивой и неравной борьбы. Достаточно лишь указать на ее первые эпизоды: запрет Вакханалий в 186 г. и уничтожение Книг Нумы в 181 г. Событие 186 года хорошо известно по живому и подробному рассказу Тита Ливия (39, 8—18), а также по эпиграфическому документу, каких хотелось бы иметь больше: это сам текст сенатус-консульта, закрывшего дело, вместе с письмом консула адресатам — федератам. Выгравированные на бронзовой пластине, обнаруженной в 1640 г. в Bruttium, эти тексты находятся в музее в Вене. Невозможно определить время появления в Риме мистерий Вакха. В какой-то скандальный день они вдруг возникли и распространились необычайно широко. Насколько это возможно, господин Адриан Бруль (Adrien Bruhl) отметил в Великой Греции следы мощного движения, связанного с Дионисом, которое наблюдалось во всем греческом или эллинизированном мире в конце IV века и в течение всего III века. В Таренте это было лишь возрождением: уже в VI веке этот бог был присоединен ко хтоническим богиням, и Платон (Leg. 1, c. 637 b) мог сказать: «Я видел весь город пьяным по случаю Дионисий». В III веке можно видеть в городском музее глиняные статуи, представляющие Вакха в двух видах: самая древняя статуя изображает зрелого мужчину с длинной бородой, а самая поздняя статуя изображает молодого бога, сладострастного и несколько женоподобного. Конечно, Тарент сыграл большую роль в распространении в Италии мистерий. По словам Тита Ливия, после дела Вакханок претор Луций Постумий вынужден был подавлять там заговоры, которые организовали пастухи. По-видимому, они представляли собой объединения дионисийских пастухов. В те же времена в Метапонте, Гераклее на Сирисе, в Локрах и в городах Сицилии, винодельческой области, Сиракузах и Селинунте — расцвело поклонение Дионису, о чем свидетельствуют их монеты. Не отстали от них и греки в Кампании, где тоже было много виноградников: одна надпись, найденная в Кумах и относящаяся к первой половине V в., доказывает, что на кладбище отводилось специальное место для погребения поклонников Вакха — βεβακχενμένοι: очистившись в церемонии инициации, они намеревались пользоваться своими привилегиями в потустороннем мире. Из Та-рента и из Кампании дионисийская религия распространилась и среди осков в Апулии, где в большой гончарной мастерской в Гнафии было изготовлено много сосудов, на стенках которых были изображены вакхические сюжеты, и где рекомендованная Римом «девакханализация» в течение многих лет встречала упорное сопротивление. Поклонение Вакху дошло также до Этрурии, которая поддерживала регулярные торговые и культурные отношения с Великой Грецией, и которая знала этого бога благодаря мифологии, распространенной среди гончаров. Вакх был истолкован как Fufi uns — бог, по-видимому тоже заимствованный у италиков (из *Populon(i)o-?). Ведь мы видели, что уже в древности Loufir, Liber в латинских городах также дал ему свое имя или брал на себя его «специальность» — покровительствовать вину: в комедиях Плавта в конце III в. смешение уже настолько укоренилось, что Либер часто понимается как uinum (вино). Однако этот старый Отец Либер (Liber Pater) никогда не означал ничего такого, что могло бы встревожить Сенат, и в 186 г. его не связывали с осужденными оргиями. Точно так же трудно выяснить — за пределами практики, столь сильно осуждаемой Титом Ливием, — какие элементы доктрины, идеала, заключал в себе дионисизм италийский и римский. Несомненно лишь то, что он отвечал таким же потребностям и таким же невзгодам, какие в самой Греции двумя веками раньше привели к мистериям легко возбудимые толпы, а также умных людей, при том риске и тех привлекательных чертах, о которых свидетельствуют еще Вакханки Еврипида (405): официальных культов, совершаемых в городе уже было недостаточно; ненасытная потребность в мистических действиях, в братстве и любви, выходящих за пределы человеческих норм, дерзкое приятие сверхнормальных способов познания, самым простым из которых является опьянение вином, обращение к орфизму как таковому, стремление получить твердые гарантии возможности заглянуть в потусторонний мир через инициацию, — все это объединяло людей в тайные сообщества, невзирая на политические или общественные преграды. Неудовлетворенных, собиравшихся в группы, становилось все больше. Нельзя утверждать, что рабы туда допускались, однако у фракийца Спартака — вождя восстания 73 г. — была жена прорицательница, своего рода медиум в дионисийских оргиях. Фракийка, как и он, когда она прибыла вместе с ним в Рим, на рынок «человеческого скота», она истолковала знамение: вокруг головы Спартака, который в этот момент спал, обвилась змея, и — по ее словам — это означало, что у него будет великая и ужасная власть, но что он плохо кончит[634]. Плутарх говорит, что она ушла с ним в лесные заросли и была с ним во время его безнадежного дела (Crass. 8, 3). Маловероятно, что — будучи (как и он) рабыней и находясь в Риме — эта вакханка могла остаться ни в чем не замешанной. Однако о дионисизме начала предыдущего века невозможно сделать никаких выводов. Переходили ли тайные заседания в разгул? Это возможно. Однако сенатус-консульт и его ортодоксальное истолкование Титом Ливием дают нам только материал обвинения, а всем хорошо известно, как охотно во время религиозных конфликтов противнику приписывают самые страшные грехи: шабаши колдуний, как и черные мессы, во все времена были обычными обвинениями. Так, выступая против пифагорейца Ватиния (Val. 14), Цицерон, не колеблясь, обвинил его в том, что тот вызывает умерших и умиротворяет их, принося в жертву мальчиков — puerorum extis, — тогда как, по-видимому, пифагорейцы ограничивались «зачаровыванием» (или, как мы сказали бы, гипнозом) мальчиков и использованием их для ясновидения (Apul. Mag. 42). Дело с самого начала показалось столь серьезным, что оба консула, которым Сенат поручил расследование, сочли необходимым прервать работу по руководству армией и подготовке войны. Однако если верить данным, с которыми мог ознакомиться Тит Ливий, эта эпидемия началась недавно и масштаб ее был невелик. Якобы некий грек, низкого происхождения и необразованный, сначала отправился в Этрурию. Он был мелким служителем некоей тайной религии, там он сначала посвятил в нее немногих, а затем стал допускать к своим мистериям мужчин и женщин без каких-либо ограничений: «для того, чтобы привлечь как можно больше последователей, он добавил к религии удовольствия от вина и пиров». По-видимому, слабое освещение, тесное соседство людей разного пола и возраста довершили дело: «каждый находил там наготове любые виды наслаждений, отвечающих его склонностям». Эта деморализующая деятельность, видимо, не ограничивалась оргиями. Были и лжесвидетельства, фальшивые подписи, поддельные завещания, клеветнические доносы, а также, конечно, тайные убийства и отравления. «Вопли, громкий звук барабанов и кимвалов служили прикрытием насилия, не позволяли, чтобы кто-то услышал стоны жертв грязного разврата и убийств». Трудно отнестись с доверием к этим рассказам — подобным тем, которые без большого труда собирает полиция по соседству с шумными местами. Как бы то ни было, Рим подвергся заражению: в больших городах легко находит приют то, что в других местах вызывает скандал. Конечно, ничего не случилось бы без того, кого мы назвали бы сегодня скверным маленьким альфонсом, которого мать и отчим хотели провести через инициацию. Юный Публий Эбутий жил на содержании куртизанки и, возможно, мечтал иметь некоторую свободу. Однажды он, смеясь, заявил своей покровительнице, что в течение нескольких дней не будет ночевать дома, чтобы выполнить обет об исцелении: он хотел получить инициацию в мистерии Вакха. Тогда его дама разразилась бурными проклятиями. Она рассказала ему, что прежде чем освободить ее от рабства, ее хозяин притащил ее в такой храм, и что там происходило нечто совершенно неприличное. Как всякий адепт, она дала клятву не разглашать ничего из увиденного. Однако сейчас, когда ее любовь в опасности, эта клятва не имеет для нее никакого значения. Вернувшись к себе домой, молодой человек заявил матери, что никакой инициации не будет. Узнав о его похождениях, его тут же выгнали из родного дома. Он нашел приют у сестры своего покойного отца, достойной пожилой женщины, которая, по-видимому, не любила невестку, вышедшую снова замуж. Она посоветовала племяннику пойти к одному из консулов и все ему рассказать. Консул связался с этой благочестивой женщиной, а через нее — и с добродетельной куртизанкой. С этой последней он обошелся в соответствии с тем, что было обычно принято, подвергнув ее шантажу и угрозам. Куртизанка долго выдержать не смогла и рассказала все, что знала. По ее словам, сначала туда допускались только женщины, которые по очереди исполняли функции жриц. В то время для инициации отводились только три постоянных дня в году, а ночью никаких церемоний не было. Однако некая Paculla Annia, родом из Кампании, изменила это, якобы по приказанию богов. К обрядам допустили мужчин, проводя соответствующие церемонии ночью пять раз в месяц. Так возникли ужасы, которые раскаявшаяся куртизанка долго и красочно описывала, рассказав сначала о том, что мужчины спали с мужчинами, а затем о появлении пыточных механизмов, достойных «Ста двадцати дней» божественного маркиза[635]. Она добавила, что в секту входило так много людей, что она уже почти стала народом внутри народа, и имела в составе мужчин и женщин из благородных семей. Два года назад было решено не принимать никого старше двадцати лет, так как молодежь легче поддавалась заблуждениям и соблазну грязного разврата. Надежно спрятав доносчиков, консул известил обо всем Сенат, который выразил ему благодарность и начал репрессии. Репрессии были ужасны. Были оглашены призывы к доносам; целые кварталы были опустошены. Консул произнес перед народом речь, которую можно было ожидать после первых принятых им мер. Он призвал народ присоединиться к его усилиям по оздоровлению общества и не бояться оскорбить богов. Возникла всеобщая паника. Стража, стоявшая у выходов из города, останавливала людей, пытавшихся покинуть город. Многие мужчины и женщины покончили жизнь самоубийством. Говорили, что число «заговорщиков» перевалило за семь тысяч, а их вожди, на которых очень скоро донесли, были немедленно казнены. Это были один фалиск, один кампаниец и два плебея. Однако репрессии достигли такого размаха, что пришлось их ограничить. Обезглавили только тех (но они составляли большинство), кто действительно осуществлял те ужасы, которых требовала их клятва посвященных. В тюрьму посадили тех, которые ограничились только клятвой. Согласно древнему обычаю, осужденных женщин вернули в их семьи или передали их опекунам для того, чтобы их казнили. Чисткой Рима дело не ограничилось. Первые же известия о ней привели в ужас всю Италию. Вскоре консулы разослали повсюду — приказав выгравировать его на бронзе и вывесить как публичное объявление — сенатус-консульт, вносивший определенность в сферу религии. До нас дошел один экземпляр — Тевранское поле. Точное соответствие этого древнего текста с тем, что изложил Тит Ливий, гарантирует либо хорошую осведомленность историка, либо добросовестность и проницательность преследователей. Больше не должно было быть Bacanal (мест, посвященных Вакху). Если кто-то утверждал, что такое святилище ему совершенно необходимо, то он должен был обратиться к городскому претору, а тот — выслушав его — был должен представить это дело в Сенат, который мог его обсуждать только в том случае, если на заседании присутствовало не меньше ста сенаторов. Такая же процедура предусматривалась для любого гражданина — латиняна или союзника — если он хотел стать Bacas. Больше не должно было быть священнослужителей мужчин. Запрещались совместные организации или совместные денежные средства. Отменялись связи, которые кроются за таким скоплением глаголов, как: inter sed conieura[se neu]e comuouise neue conspondise neue conpromesise neue fidem inter sed dedise…[636]. Никаких больше тайных культов, ни публичных или частных церемоний — за исключением тех, которые проводятся в присутствии городского претора по разрешению Сената (согласно решению, принятому в присутствии не менее ста сенаторов). Наконец, без разрешения претора и Сената в церемониях не могут участвовать более пяти человек — двух мужчин и трех женщин. Куртизанка, о которой шла речь выше, и ее любовник — получили не только защиту, но и хорошее вознаграждение. Она была официально признана порядочной женщиной, которая может выйти замуж за свободного мужчину, причем этот союз не повредит ни чести, ни положению мужа. А молодой человек получил пенсию ветерана и разрешение не служить ни в кавалерии, ни в пехоте. Что касается остальных доносчиков, то на усмотрение консулов был оставлен выбор решения: просто оставить их без какого-либо наказания или вознаградить. Из этого текста вытекает, что подлинное преступление этих несчастных заключалось в том, что (как, — по словам Тита Ливия, — выразилась сама доносчица) они образовали «[множество,] почти равное населению [Рима]», а также — как сказано в речи Постумия — они организовали тайные сборища, тогда как в Риме допускались только три вида собраний: комиции, отмеченные знаком Капитолия; собрание плебса по решению трибунов; contio — собрание по призыву одного из магистратов. Весьма примечательно, что после такого проявления жестокой суровости Сенат не пожелал уничтожить культ, который вменялся в вину, и — несмотря на все его особенности — только ограничил его, подчиняя каждый раз требованию разрешения и подвергая контролю властей, стремясь, прежде всего, не допустить con-iuratio, взаимных или коллективных обязательств. При соблюдении этих ограничений допускалось, чтобы кто-то приходил и заявлял, что ему необходимо иметь Bacanal, или же, чтобы какой-нибудь гражданин выражал желание быть Bacas. Но он обязан был испросить разрешения. После кровавых жестокостей, навсегда осквернивших консульство Марция и Постумия, история Книг Нумы (в 181 г.) кажется успокаивающим спектаклем. Тем не менее, это эпизод той же борьбы традиционности против нового. Как говорит Тит Ливий (40, 29, 3—14), вскапывая у подножия Яникула землю, принадлежавшую скрибу Петилию[637], земледельцы обнаружили два каменных сундука, каждый из которых имел восемь футов в длину и четыре фута в ширину. Их крышки были опечатаны свинцом. На них были надписи на греческом языке и на латыни, в которых говорилось, что в одном из сундуков захоронен Нума Помпилий, сын Помпония, царя римлян, а в другом содержатся книги этого Нумы Помпилия. Хозяин поля посоветовался с друзьями и вскрыл оба сундука. Первый сундук был совершенно пустым, без каких-либо следов человеческого тела, а во втором сундуке лежали два пакета, обвязанных веревкой и облитых смолой, в которых находилось семь книг — не только невредимых, но абсолютно новых на вид. Половина книг была написана на латыни, и в них шла речь о понтификальном праве, а другая половина книг была написана по-гречески, и там речь шла о философии того далекого времени. Скриб и его друзья прочитали эти достопочтенные писания с удивительной легкостью. Они показали их другим людям, и так как распространились слухи, то городской претор Квинт Петилий тоже захотел их прочитать и одолжил их у владельца. Эти два человека были связаны друг с другом: именно Квинт, будучи квестором, дал Люцию должность скриба. Когда он все это прочитал, то счел, что это может разрушить официальную религию, и предупредил своего протеже, что решил эти книги сжечь, но прежде чем делать это, он разрешает ему затребовать их — по закону или любым другим способом, и что он не перестанет хорошо к нему относиться. Скриб обратился к трибунам из плебса, а они снова отослали это дело в Сенат. Претор изъявил готовность поклясться, что не следует читать и хранить эти книги, и Сенат решил, что заявления о готовности поклясться достаточно, и что книги будут сожжены как можно скорее — на комиции, а владельцу будет выплачена компенсация, которую назначат претор и большинство трибунов. Скриб отверг эту сумму. Книги были публично сожжены на комиции, причем огонь зажгли люди, которые всегда делали это в случае жертвоприношений. Здесь «проглядывает» некрасивое происшествие: воспользовавшись тем, что его покровитель стал претором, Луций подумал, что может нажиться на своей выдумке. Что же касается Квинта, то он был одновременно и добрым человеком, и человеком долга. То ли «книги Нумы» действительно показались ему опасными для религии, то ли он просто счел подделку слишком грубой и неспособной выдержать придирчивый осмотр, но он приказал их уничтожить — спасая, таким образом, смельчака от роковой экспертизы и даже обеспечив ему прибыль, от которой тот из деликатности отказался. Этот инцидент не имел бы значения, если бы не два обстоятельства. Во-первых, предложенное обоснование сожжения и немедленные его последствия, оказавшиеся решающими для сенаторов: несмотря на то, что эти писания были связаны с великим именем Нумы, история возникновения Рима, по крайней мере, уже сто лет как окончательно сложилась и обрела каноническую форму; и поскольку они содержали что-то новое, то противоречили традиции: многое в них подрывает основы богопочитания (pleraque dissoluendarum religionum esse), — так что никому не пришло в голову выступить в их защиту, и трибуны заранее были готовы согласиться с вполне предсказуемым мнением Сената. Не менее интересно наблюдать, как подделка прикрывается именем Нумы, который был не только понтификом, но и философом: в семи книгах, написанных им на греческом языке, говорилось о науке мудрости. Тит Ливий произносит великое слово (которое он, правда, сразу же резко оспаривает): Валерий Анциат — предшественник, с которым он охотно полемизирует, — говорил, что те книги, которые были найдены во втором сундуке, были пифагорейского содержания. Он здесь следовал распространенному мнению, что Нума был auditor — последователь Пифагора. Цицерон впоследствии сам будет возражать, а также вложит в уста Сципиона возражения против этого утверждения и покажет расхождение в датах (Rep. 2, 28: все это неверно, и не просто выдумка, а неумелая и нелепая выдумка). Но все было бесполезно, и для многих римлян Нума остался царем-пифагорейцем, ценным древним связующим звеном между Грецией и Римом, между мудростью и политикой. Однако устаревшая ошибка наверняка гораздо древнее, чем выдумка Петилия (или, скорее, — пусть не обижаются маны Цицерона и Тита Ливия — здесь нет вообще никакой ошибки). По-видимому, пифагореизм был одной из составляющих самогó типа Нумы с самого начала, с момента его создания, в те времена, когда умелые эрудиты создали предание об истории царей. Подобные элементы неотделимы от этого персонажа: чтобы составить двойной портрет властителей, древние составители анналов наделили характеристиками греческой тирании Ромула (который воплощал мощь и грозные стороны царской власти), а Нуму сделали философом (он «отвечал» за богобоязненность, законотворчество и мудрость). Для летописцев философией того времени могла быть только философия Пифагора (плод Великой Греции, конечно, но — через нее — также плод Италии), чтобы римляне — получив очень рано некое знание — смогли ощутить родственные чувства. «Когда появилось италийское сознание, — говорит J. Carcopino[638], — оно прониклось пифагореизмом. А как только сложился здесь пифагореизм, он стал итальянским. Наследники этой взаимосвязи, римляне классической эпохи, этим гордились, а Цицерон подчеркивал это как нечто почетное для своих соотечественников («Пифагор и пифагорейцы — почти наши соотечественники» — Amic. 13; Sen. 78)». Так, Катон Цензор, римлянин среди римлян, современник дела Вакханалий и мошенничества Петилия, в конце своей жизни не постеснялся стать пифагорейцем. «То, что сам Катон не устоял перед соблазном, — говорит тот же автор, — не должно нас удивлять: между суровой дисциплиной, которой гордилось его поколение, и аскетизмом пифагорейцев существует неоспоримое сходство…». Как о том напоминает сам Carcopino, Цицерон не выдумал, что Аппий Клавдий Цек, знаменитый цензор 312 г., — другое воплощение идеала римских патрициев — сочинил поэму, проникнутую пифагореизмом. Примерно в то же время Эмилии (Mamercini, затем Mamerci) гордо приписывают себе предка Mamercos, отождествленного ради пользы дела с Marmakos, сыном Пифагора. Во время самнитских войн начала III в. статуя философа была установлена на Форуме в качестве умнейшего из греческой нации (рядом со статуей Алкивиада, охарактеризованного как сильнейший). Наконец, Анналы Энния начинались с пересказа сна, в котором праздновал триумф метемпсихоз. Поэтому не следует считать нововведением конца III в. эту «натурализацию» пифагореизма, эту естественную склонность образованных римлян-интеллектуалов к философии, связывавшей себя с именем Пифагора. Очень важно уточнить: интеллектуалы, философия. Дело в том, что только в этой социальной сфере и в этой возвышенной области могло произойти такое объединение, что хорошо доказывают события 181 г. Пока пифагореизм подсказывает определенный образ жизни, побуждает к таким безобидным действиям, как предпочтение вегетарианского питания, или предлагает искать утешения в другом мире, который предоставленный самому себе Рим не может ни населить, ни оживить, — пифагореизм остается желанным, и Нума предается ему ко всеобщему удовлетворению, подобно тому как самые смелые люди делают Пифагора римским гражданином (Plut. Num. 8, 11). Однако если пифагореизм порождает писания вроде тех, от которых чистка 213 г. освободила город; если несколькими годами позже — после дела Вакханалий — создается риск, что вследствие сенсационной находки может вспыхнуть волнение масс, и могут появиться массовые религиозные обряды, то тут Нуму сразу отсылают на его место — в Анналы. Этим ограничивается то, чего можно было ожидать от инцидента 181-го года. Нет оснований считать, что сожжение фальшивых книг второго царя является «симптомом скрытой деятельности пифагорейского мышления и опасений, вызываемых его распространением у правящей власти». Инициатива слишком изобретательного скриба была чисто личной. Может быть, на век-полтора позже пифагорейцы и создадут часовни. Но пифагорейцы того времени не смешивали жанры религии и философии, а их религиозная деятельность не была заражена мечтаниями о мудрости. В этом веке произошли более серьезные вмешательства. После Карнеада — философы, «халдеи», астрологи и предсказатели были энергично изгнаны. Уже Катон (Agr. 5) указал на исходящую от них опасность: среди обязанностей, которые он вменяет сельскому управляющему, две касаются религии, и в обоих случаях имеется в виду ограничение действий этого человека. В одном случае это касается участия в совершении римских ритуалов (жертвоприношения сельский управляющий совершает лишь в Компиталии[639], на перекрестке или на очаге). Во втором случае речь идет о любопытстве посторонних (установлено, что управляющий не совещается с гаруспиком, авгуром, предсказателем и халдеем). Правда, скупой и суровый Катон, по-видимому, усматривал в подобных попытках прежде всего повод для излишних расходов. В 139 г. (видимо, вопреки таким деятелям как Катон) «халдеи» имели большой успех во всей Италии. Дело в том, что в этом году претор, в обязанности которого входило заниматься иноземцами, приказал им в течение десяти дней покинуть Рим и Италию. По словам Валерия Максима, они затемняли умы ложными трактовками небесных светил, запутывая невежд и недалеких людей, на чем нажили много денег. Тот же самый претор заставил многих других иноземцев вернуться восвояси, утверждая, что они, под предлогом поклонения Юпитеру (Jupiter Sabazios), старались развратить римлян.

Глава XI ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ И РЕЛИГИЯ
Век, последовавший за второй Пунической войной, дал Риму власть над огромными пространствами, но Республика и римские традиции претерпели вследствие этого глубокие изменения. Здесь приходится произнести слово «распад». Однако распад плодотворный, поскольку, в конечном счете, он привел к возрождению, осуществленному Августом, и к появлению императоров. В то же время, этот распад был ужасен, поскольку дал начало самым мрачным временам, которые довелось пережить Риму, — временам гражданских войн. Причины и условия этого «дакаданса» хорошо известны. Соприкосновение с Востоком развратило и полководцев, и легионеров. Богатства, военные трофеи, дары, хлынувшие в Рим, огромное количество золота, неожиданно попавшее в общество, не имевшее ни промышленности, ни коммерции, — нарушают экономику, портят нравы, искажают отношения между людьми. Некоторые цензоры — и прежде всего Катон — упорно стараются побороть зло, смещая сенаторов, вводя законы, направленные против чрезмерной роскоши. Но это зло уже распространилось повсюду, и в первую очередь оно проникло в аристократическую среду. Цензор Лепид, великий понтифик, глава Сената, хочет построить у Террачины плотину, чтобы защитить свои земли от наводнений. Он использует для этого средства из казны. В Иллирии один из уполномоченных Сената продается некоему царю и составляет отчет в его пользу. В Испании такой деятель, как Метелл, планирует войну, которая принесет ему славу и успех. Его отзывают. Тогда он уничтожает продовольствие, убивает слонов, дезорганизует армию. Вскоре нумидийский царь Югурта, вызванный в Рим для отчета о своем управлении, не побоится туда явиться: подкупив послов, он узнал, что сможет подкупить и одного из трибунов, который весьма кстати запретит ему говорить. А когда он отправится обратно, то — по преданию — скажет знаменитую фразу: «Город, готовый к продаже, тебе не хватает только покупателя!» Внутренний кризис, подготовленный в период пребывания Ганнибала в Италии, очень быстро назрел, и даже более чем назрел. Как скажет Катилина, Рим — это тело без головы и голова без тела: с одной стороны, огромное количество бедняков, а с другой стороны — весьма небольшое число семей (как плебейского, так иаристократического происхождения), владеющих чрезмерными богатствами. Средний класс, из которого когда-то вышли легионы, уже не существует. И противостоят друг другу не плебеи и патриции, а богатые и бедные, хорошо обеспеченные материально люди — и нищие, пролетарии. Пролетарии — слово весьма уместное в римском контексте: так называют тех, кто вносит в жизнь государства только своих детей, prolis progenie. Римские законы лишали их права служить в армии, поскольку у них не было собственного имущества, подлежащего защите, а имущество других людей они защищали бы плохо (Gell. 16, 10; Paul. c. 333 L2). Поэтому Риму недостает солдат, и он очень скоро — начиная с Мария — станет набирать в армию пролетариев, и даже capite censi («неимущих»), так же как и итальянцев. Итальянцы — и верные Риму, и раскаявшиеся — окружают город, проникают в него и разделяют всеобщие беды и нищету: именно их земли стали основой обширных латифундий, которыми владели всего несколько тысяч человек. Завоевания в дальних странах им ничего не дали, однако эти завоевания еще не завершены. Поэтому они продолжают стремиться к получению звания гражданина, в котором им отказывают, как и в прежние времена. Они жаждут не только чести, но мечтают когда-нибудь получить долю в добыче, достававшейся во время дальних завоеваний. Рабов ни во что не ставят в обществе, каким оно само себя мыслит. Однако по факту они представляют собой огромную массу, достигшую ужасающих размеров. Многочисленные победоносные войны переполнили Италию рабами. Крупные собственники теперь уже не используют свободных работников. Бесплатный труд рабов обеспечивает все нужды. Рабы — везде, и даже когда они спокойны, они — сила. Когда вожди боролись за власть в Риме, они стремились получить помощь от рабов. Так, для борьбы, в ходе которой погиб Гай Гракх, его противник — консул Опимий — вооружает рабов наряду с сенаторами и всадниками, и вместе с ними захватывает Капитолий, тогда как Гай и бывший консул Фульвий, укрывшись в храме Дианы на Авентине, призывают рабов к свободе. Из рабов выходят вольноотпущенники, число которых все возрастает, и они очень скоро становятся социальной группой, составляющей значительную часть римского народа. Можно ли ожидать от них хорошего знания римских традиций и приверженности им? Политическое и социальное брожение никак не отражается на общественной религии. В этой сфере все спокойно: рутина древних культов сохраняется, а также создаются некоторые новые культы, но они следуют древним процедурам. Однако это, в сущности, — спокойствие старения[640]: когда Ганнибал угрожал Риму, религия была активна и давала утешение. С другой стороны, Восток, Греция — либо вскоре будут принадлежать Риму, либо уже стали римскими землями. Множество римских граждан отправляются туда и держатся гордо. Это военные, чиновники, торговцы. А в остальном происходит ускоренное переливание верований, обычаев, а также сомнений. Сатирик Луцилий — удачливый всадник, друг Сципиона Эмилиана, дядя Помпея — изобличает пороки, алчность, легкомыслие выскочек, но с богами обращается с удивительной непринужденностью. Он изображает Двенадцать Великих сидящими на совете и насмехающимися над теми, кто их называет pater. Он вкладывает в уста Нептуна, оказавшегося в затруднении во время спора, слова о том, что сам Карнеад здесь не разобрался бы, если бы Orcus дал ему свободу. В другом месте он пересказывает в стихах чисто греческую мифологию; он ассоциирует Тисифону (Tisiphone) со святейшей из Эвменид Эринией; он представляет Сизифа, потеющего под тяжестью своего камня, — точно так же, как сдабривает свой латинский язык греческими глаголами, существительными, фразами. При этом он, как традиционалист, связан с аристократией. Какая свобода, какая смелость была, по-видимому, присуща становящемуся новому человеку! Поэтому бессмысленно было бы пытаться дать систематический анализ религиозной жизни того времени, искать равномерное развитие, дальние расчеты в намерениях — ибо никакого плана не было. Таким образом, если отвлечься от рутины древних культов, история религии Рима сливается с политической историей или с описанием биографий нескольких политических деятелей. Реформы или нововведения в религии, а также упадок одного культа или выдвижение и развитие другого культа — совершаются в зависимости от действий политических партий, в зависимости от вдохновения или от надобности честолюбивых людей. До великой реорганизации и реанимации, осуществленной Августом, «римская религия» не была предметом отдельного изучения. Мы здесь ограничимся несколькими беглыми указаниями, касающимися того, чем была римская религия в последний век Республики. Прежде всего, придется констатировать отсутствие некоторых явлений. Движения, которые в течение более ста лет порождались внутренними противоречиями в Риме и в Империи, в общем, оказались бесплодными с религиозной точки зрения. Восстания рабов, которые неоднократно достигали масштаба великих войн, не имели ни религиозной, ни философской основы. Да и как могло быть иначе? Полчища рабов, принадлежавшие крупным собственникам, поступали отовсюду: из земель, простиравшихся от Галлии до Ирана, от владений мавров до границ Фракии. О каком божестве могли бы они договориться между собой? Какие надежды могли бы их объединить[641]? Просто престиж тех, кто ими управлял, нередко повышался и подчеркивался с помощью магических приемов, слухов о божественном покровительстве (которые, возможно, и привели бы к созданию какого-нибудь культа, если бы эти попытки увенчались успехом, но этого не произошло). Первым был Эвн — сириец, попавший в рабство в Сицилии, — который сумел за короткое время собрать многочисленную армию и победить несколько легионов; слух о его достижениях потряс толпы рабов во всей Империи: поднялись восстания на Делосе, в Аттике, в Кампании, и даже в самом Лации. Однако его вклад в религию свелся всего лишь к следующему: пообщавшись с богами в своих снах, он предсказал, что станет царем, и действительно он назвался царем Антиохом и подтвердил свое предсказание ярмарочным мошенничеством. Спрятав во рту орех, наполненный горящей серой, он извергал пламя… (Diod. Sic. 34, 2, 5–7). Через треть века после этого поднялось другое восстание сицилийских рабов, продлившееся три года. Среди его вождей был выходец из Киликии Атенион (Athénion), который славился знаниями в области астромантики (ibid., 36, 5, 1)[642]. Еще тридцатью годами позже самый великий из этих несчастных — фракиец Спартак (73–71) — стал могущественным, конечно, благодаря своей одаренности, но таланты его жены как вакханки также сослужили ему неплохую службу. Нет смысла задаваться вопросом, что стало бы с мышлением древнего мира, если бы эти взрывы ярости увенчались успехом: этого быть не могло. Вполне справедливо, что именно Спартака, а не его предшественников, чтят как своего прославленного предка современные теоретики классовой борьбы. Но времена еще не созрели, и не восстания привели к тому, что эта архаичная форма эксплуатации человека человеком исчезла. Союзническая война (91–88 гг.), т. е. та война, которую вели восемь народов южной Италии, сплотившиеся в союз вокруг племен марсов, с целью получить звание римских граждан, также не несла никаких начал религиозной новизны. Несмотря на участие самнитов, уже и речи не было о военных культах времен битвы в Кавдинском ущелье, о льняном легионе и об ужасных ритуалах инициации. Италийцы противопоставили римлянам вполне римские обычаи и войска. Это была уже братоубийственная борьба. В пылу сражений проявлялось намерение уничтожить Рим и стать на его место, подражая ему. На монетах появилось изображение сабеллийского быка, убивающего волчицу. Однако поначалу — до того, как пролилась первая кровь — оба «итальянских» консула не преминули совершить последнее и тщетное обращение к римскому Сенату, так что, в конце концов, Рим (почти уже победивший) проявил мудрость и уступил, не теряя достоинства благодаря законам Юлия и Плавтия-Папирия. Дурные воспоминания были быстро забыты: получив гражданство, италики были готовы участвовать в том, что предстояло Риму, — в гражданской войне. После Гракхов, с Мария начинаются времена великой смуты. Выдвигаются личности — как правило, уже с юных лет завоевывающие власть на какое-то время, но затем, рано или поздно, погибающие от руки соперника. Эта междоусобица, в которую втягивается Италия (а иногда волей-неволей и весь мир), предвосхищала самые тяжелые моменты истории Империи. Это очень дорого стоило самой сущности Рима, Италии, провинций. Флор отмечает (2, 9, 22), что сторонники Мария опустошили Кампанию и Этрурию гораздо более жестоко, чем Ганнибал и Пирр. Как говорит Дион Кассий (frag. 105, 8), бойня, совершенная по приказанию Суллы в 82 г. была гораздо более жестокой и кровавой, чем резня, которой подверг римлян Митридат в Малой Азии; и уже Тит Ливий, если судить по краткому изложению 88-ой книги, показал, что Сулла «переполнил убийствами всю Италию». Это станет общим местом в высказываниях христианских полемистов, когда они будут говорить о жестокости, присущей братоубийственной борьбе: «междоусобная война истребила едва ли не больше, чем меч вражеский…» (plus paene bella ciuilia quam hostis mucro consumpsit; Hier. Epist. 60, 7). Видные деятели, естественно, первыми подвергались изгнанию, и Рим много потерял вследствие этого. Но сами они (за немногими исключениями) примирялись с новым законом: «Все происходит так, — говорит Ж. Байе, — как будто бы дикость гражданских войн довела даже самые просвещенные умы до почти первобытного уровня: роковое призвание воина, взаимное кровопролитие». Вот один пример. На похоронах Мария (в январе 86 г.) Гай Флавий Фимбрия велел убить Муция Сцеволу — великого понтифика — за излишнюю умеренность. Муций упал, но не умер. Тогда Фимбрия решил предать его суду народа, а когда его спросили, в каком преступлении он обвинит этого человека, пользовавшегося всеобщим уважением за святость обычаев, он ответил: «Я обвиню его в том, что он недостаточно глубоко принял в себя кинжал!» (Val. Max. 9, 11, 2). Как могли отразиться на религиозной идеологии столь жестокие зрелища? В Греции, по-видимому, возобладала бы мысль о роковой судьбе, о первородном грехе, бросающем тень на потомков, которые должны искупать его из поколения в поколение, как в Аргосе или Фивах. «История» происхождения давала точку отсчета: разве Рим не родился в крови Рема, убитого братом?… Поэты великого века первыми откроют такие грандиозные перспективы и затем станут их разрабатывать: в то время, когда вот-вот должна была возобновиться вражда между триумвирами и Секстом Помпеем, Гораций написал поэму, которая стала седьмой в серии Epodes (Эподов). Здесь следует привести ее целиком:«Услышав об этом, Марий обрадовался и поспешил успокоить солдат, сказав, что не питает к ним недоверия, но в соответствии с предсказанием ждет должного срока и места для победы. За ним всегда торжественно несли на носилках некую сириянку, по имени Марфа, слывшую гадательницей, по совету которой он совершал жертвоприношения. Незадолго до этого Сенат изгнал ее, когда она стала предрекать будущее сенаторам, но она вошла в доверие к женщинам, на деле доказав свое умение гадать, особенно в одном случае, когда, сидя у ног жены Мария, предсказала, какой из двух гладиаторов выйдет победителем. Та отослала Марфу к мужу, и у него она пользовалась уважением. Чаще всего она оставалась в носилках, а во время жертвоприношений сходила с них, облаченная в двойное пурпурное одеяние, держа копье, увитое лентами и гирляндами цветов. Это давало много поводов для споров, в самом ли деле Марий верит гадательнице или же притворяется, разыгрывая перед людьми представление и сам участвуя в нем? Удивительный рассказ находим мы и у Александра Миндского: по его словам, войско Мария перед каждым успехом сопровождали два коршуна, которых можно было узнать по медным ожерельям (эти ожерелья воины, поймав птиц, надели им на шею, а потом отпустили их). С этих пор, увидев коршунов, воины приветствовали их и, когда те появлялись перед походом, радовались, веря, что их ждет верная удача. Много знамений было в то время, но все они не относились прямо к будущему Мария, кроме одного: из италийских городов Америи и Тудерта сообщили, что ночью там видели в небе огненные копья и щиты, которые сперва были разделены некоторым расстоянием, а затем встретились и стали двигаться, словно ими сражаются люди, потом одна часть отступила, другая погналась следом, и все видение понеслось к западу. Примерно в то же время из Пессинунта прибыл в Рим жрец Великой Матери богов Батак и возвестил, что богиня из своего святилища предсказала римлянам успех в сражении и победу в войне. Сенат, поверив предсказанию, постановил воздвигнуть богине храм в благодарность за победу, и Батак, выйдя к народу, хотел сообщить ему об этом, однако трибун Авл Помпей помешал ему, обозвав жреца обманщиком и согнав его с возвышения. Но это лишь укрепило веру в слова Батака, ибо не успел Авл распустить Собрание и возвратиться домой, как его схватила страшная лихорадка, от которой он на седьмой день умер; это стало известно всему городу, и все говорили об этом случае»[649].Сенат, который уже не играл никакой роли, все же остался в основном верен религиозным традициям. Он отказался признать восточную Сивиллу. Ознакомившись с одним из пророчеств Великой Матери, которое могла уменьшить страх в обществе, он безоговорочно ее признал и приказал заложить храм. Хотя Плутарх об этом не говорит, можно предположить, что — прежде чем принять такое решение — Сенат посоветовался с децемвирами для проведения жертвоприношений. Однако, в остальном, какой упадок! Само присутствие в Риме этой гадалки, наглость, с которой она обратилась к Сенату, терпимость городской полиции и, особенно, то, как Марий распорядился в отношении нее (искренне или нет) во время своего четвертого консульского срока — все это возмутительно и позорно: разве можно себе представить таких прихлебателей в свите Фабия или Сципиона? Вмешательство жреца из Пессинунта, который, по-видимому, прибыл в Рим по другой причине и воспользовался случаем, чтобы понравиться владыкам мира, — очень характерно для восточного деятеля; однако независимо от того, был он обманщиком или нет, — какая дерзость попытаться обратиться с речью к народному собранию! А со стороны трибуна, какое неуважение отвернуть так оскорбительно прорицание, которое только что признал Сенат! Есть и другие примеры нарушения религиозных обычаев: так, после победы над тевтонами и кимврами римляне — в порыве восторга — стали совершать возлияния в домашней обстановке «одновременно в честь богов и Мария» (Plut. Mar. 27, 8)[650]. Луций Корнелий Сулла[651] — человек другого происхождения и другого склада характера. Его семья принадлежала к подлинному патрициату, однако в молодости он был беден, что не мешало ему предаваться наслаждениям, причем он любил и мальчиков, и женщин. От нужды его спасли два удачных наследства: с одной стороны, он получил наследство от богатой куртизанки, которая воспылала к нему страстью, а с другой стороны, ему досталось наследство от тещи, любившей его как сына. Его карьера началась в Африке, под началом Мария, у которого он был квестором. Умелые переговоры, благодаря которым в его распоряжении оказался Югурта, дали ему большие шансы. Действуя без зазрения совести, но не без тонкости, льстя одним и подкупая других, он быстро сумел стать претором, а все остальное позволило ему достичь высокого положения, о котором нам хорошо известно. Религия этого «несостоявшегося монарха» была более сложной и более систематической, чем у Мария. Так же, как тот (возможно, это было самым устойчивым в религии того времени), он твердо верит в пророчества, в сны, в знаки, адресованные лично ему, и он всем этим пользуется с наилучшими результатами для своей славы. В своих Комментариях Плутарх (Syll. 6, 8—10) пишет:
«Он посоветовал Лукуллу, которому посвящена книга, смотреть — как на что-то самое надежное — на все то, что в ночных снах ему открывают боги. Он рассказал ему, что когда был послан с римской армией на Союзническую войну[652], вдруг в земле, около Лаверна, разверзлась щель, и оттуда вырвалось яркое пламя, которое поднялось к небу. Прорицатели сказали, что мужественный и необыкновенно красивый человек, обладающий абсолютной властью, спасет Рим от смуты. Он заявил, что этим человеком является он сам, потому что он замечательно красив, что его светлые волосы подобны золоту, и он без ложной стыдливости может сказать, что после совершенных им великих подвигов он может считать, что обладает той самой доблестью».В решающий момент своей карьеры, когда во главе своих легионов Сулла выступил из Нолы, направившись к Риму, он почувствовал колебания. Сначала он совершает жертвоприношение, которое ему гарантирует успех, но решается выступить только по настоянию кровавой каппадокийской богини Ма (Mâ), которая явилась ему во сне (Plut. Syll. 9, 5–7). В течение всей своей жизни Сулла полагается на предсказания. Незадолго до смерти, основываясь на предостерегающем сновидении, он ускорил все свои дела и приказал задушить одного неаккуратного квестора (ibid. 37, 1–4). Он также следовал старинным ритуальным правилам, и нет никаких оснований считать, будто он в них не верил, хотя и использовал их для своей пропаганды. Плутарх продолжает: «Сулла посвятил Гераклу десятину из своего имущества, и в связи с этим задавал народу великолепные пиры. На них подавали столько блюд, что каждый раз приходилось выбрасывать огромное количество остатков в Тибр. Там пили вина сорокалетней выдержки и даже еще более старые. Среди всех этих наслаждений, которые продлились несколько дней, умерла его жена Метелла. Во время ее болезни жрецы запретили ему видеть ее. Они также не велели осквернять дом похоронами. Он послал ей документ о разводе и велел перенести ее (еще при жизни) в другой дом. Суеверно соблюдая этот закон, он, однако нарушил другой — изданный ранее им самим — закон, ограничивавший расходы на похороны, и ничего не пожалел на похороны Метеллы…». Однако Сулла целился выше. Он понял, какие выгоды единоличная власть могла извлечь либо из древнейшей религиозной традиции, либо из новшеств, которые, казалось, многое обещали в будущем. В своей работе Carcopino[653] показал, с помощью какой постоянно применяемой политики Сулла старался стать исключительным обладателем auspicia: но не обычных гаданий, используемых консулами или трибунами, которые ловкие политики могли противопоставлять друг другу, а — в некотором роде — абсолютных. Так, с 86 г. золотые денарии, на которых была изображен пастуший посох, указывают на него как на главного авгура, подобного Ромулу. Вернувшись с востока, он заставляет Сенат дать ему статус авгура; в 82 г. закон Валерия[654] позволяет ему расширять померий — эту священную линию, традиционно относящуюся к ауспициям. Годом позже закон об управлении провинциями лишает губернаторов личного права на ауспиции. «Это означало, — говорит Carcopino, — пользуясь языком традиционной литургии, провозгласить, что мир будет везде иметь только одного законного главу, поскольку везде будет только один непререкаемый интерпретатор воли богов, которой во все времена подчинялось римское государство». После Цезаря этой точкой зрения вдохновился Октавиан. В процессе концентрации власти сформируется тип princeps (глав), и здесь не будет забыта конфискация ауспиций. Неслучайно также Сулла сделал наброски двух обетований (devotio), которые способствовали приданию Империи достоинства и религиозной оригинальности в лице Аполлона и Венеры (Plut. Syll. 29, 10):
«Говорят, что Сулла имел маленькую фигурку Аполлона, которая происходила из Дельф и которую он носил на груди в дни сражений. По этому случаю (во время решающей битвы у Коллинских Ворот в 82 г.) он поцеловал ее и обратился к ней со следующими словами: “Аполлон Пифийский, после того, как ты дал столько почестей и славы счастливому Корнелию Сулле, неужели ты повергнешь его у самих ворот его родины, куда ты его привел, и неужели ты дашь ему позорно погибнуть вместе с его согражданами?”».В самом деле, понадобилось не менее чем чудо, чтобы карьера Суллы не закончилась в этот день. Но этого Ромула спас уже не Юпитер Статор, а Аполлон — Аполлон Пифийский. Часто противопоставляют это хвастливое поклонение и то, что принято называть позорным грабежом дельфийских сокровищ, откуда как раз и происходила статуэтка-фетиш. В то время Сулла энергично продвигал войну против Афин, находившихся во власти тирана Аристиона. «Так как эта война обходилась очень дорого, — пишет Плутарх, — он посягнул на неприкосновенные сокровища храмов (12, 4–7) и велел доставить из Эпидавра и Олимпии самые красивые и самые богатые дары. Он написал амфиктионам в Дельфы, что им следует послать ему богатства бога, которые будут в большей безопасности в его руках (добавив, что если ему придется их использовать, то он вернет их полную стоимость после войны). Он послал к ним фокейца, своего друга по имени Кафис, с приказом взвешивать каждый предмет. Когда Кафис прибыл в Дельфы, он не осмелился прикоснуться к святыням и, разрыдавшись, в присутствии амфиктионов выразил сожаления по поводу прискорбной необходимости, в которой он пребывал. Некоторые из присутствующих сказали ему, что они слышат, как в святилище звучит лира Аполлона. То ли Кафис им поверил, то ли — желая пробудить совесть у Суллы — он ему об этом написал. В ответ Сулла шутливо заявил, что его удивляет, почему Кафис не понял, что эти звуки выражают радость, а не гнев, так что пусть Кафис успокоится, поскольку бог отдает свое имущество с удовольствием». Плутарх удивлен, как и Кафис. Однако по-видимому, со стороны Суллы это не было «издевательством», и в его ответе не было насмешки над фокейцем. Он вел себя в соответствии с принятым у римлян отношением к богам вражеских народов: самая большая честь, которую Рим мог им оказать — это аннексировать их вместе с их собственностью. Разве по призыву Митридата вся Греция не взбунтовалась недавно, хотя, впрочем, сразу подчинилась, как только прибыл Сулла (исключение составили только Афины)? В данном случае Сулла совершил «омоложенное» euocatio: ведь он благочестиво сохранил статуэтку Аполлона, которая стала его покровительницей и выступала в функции Юноны из Вей, перенесенной с почтением в Рим, в то время как ее храм вместе с городом был разграблен. Истолкование, которое Сулла дал песни Аполлона, имеет тот же смысл, какой тщательно умытые солдаты Камилла придавали периодическим вздрагиваниям переносимой ими статуи: «Она согласна!» С другой стороны, нам хорошо известно уважение, с которым Сулла относился к священному во время сражений. Его обращение к Аполлону Пифийскому перед Porta Collina не могло быть циничным и святотатственным. Следовательно, он действительно верил, что Дельфийский бог радостно согласился отказаться от своей собственности и в виде статуэтки переселиться к Сулле. Однако само сравнение древнего ритуала с индивидуальной практикой весьма поучительно: выгоду от всей операции получал не город, а Сулла, олицетворявший город, а благочестие римского вождя удовлетворилось маленькой статуэткой, тогда как все остальные богатства храма пошли на нужды войны. Великие исторические деятели — как благочестивые, так и те, которых не останавливают ни верования, ни щепетильность — никогда не сомневались в своей удаче, в своей звезде. По крайней мере, до своего седьмого консульского срока Марий руководствовался этой простой верой, а Цезарь доверил свою судьбу лодочнику. Столь же уверен в себе был и Сулла, но проявлял он эту самоуверенность, возможно, в большей мере, чем другие. Так, в 82 г., вернувшись с триумфом с Востока, он дал себе прозвище felix в торжественном заявлении. Умирая, — а ему повезло умереть в своей постели, — он вспоминал, как халдейские прорицатели предсказывали, что он закончит жизнь на вершине блаженства — έν άκμη των εύτυχημάτων. Римляне (по кайней мере, одна римлянка) знали, как растрогать диктатора. Валерия — молодая и красивая разведенная патрицианка, на которой он женился после смерти Метеллы, — познакомилась с ним очень ловко: во время зрелища битвы гладиаторов, проходя мимо официальных мест, она вырвала нитку из одежды Суллы и извинилась, сказав: «Я тоже хочу немного поучаствовать в твоем наслаждении». Однако Сулла не связывал выбранное им прозвище felix ни с Фортуной, ни даже с персонифицированной Felicitas (Удачей); и он перевел его на греческий язык не словом εύτυχής[655] — в своей переписке, — а словом έπαφρόδιτος[656]: т. е. он видел воплощение своей удачи в богине будущего — Венере (та же самая надпись и на его военных трофеях). Господин Шиллинг проницательно проследил за развитием этого поклонения или этой политики[657]: золотые денарии, отчеканенные после взятия Афин в 86 г. На лицевой стороне этих монет изображена голова Венеры в диадеме, а на реверсе — жезл авгура между двумя трофеями; энкомий (хвалебная песнь) в греческих стихах, в которых прорицатель напоминал, что Венера принесла могущество потомкам Энея, — указывал также, что Сулла должен даровать секиру Афродите из Афродисиаса в Карии; энкомий в греческих стихах, сопровождавший приношения богине от Суллы. В 82 г. была выпущена новая серия монет с изображением Венеры, когда Сулла вернулся из Греции. Наконец, вероятное возведение храма Венере Felix. Связь между Суллой и Афродитой из Афродисиаса, по-видимому, была подсказана друзьями Суллы. Было ли это ответом на какие-то действия Мария в отношении Матери Пессинунта? Во всяком случае, он установил между карийским городом и Римом прочные связи, выгодные для обеих сторон: Рим обрел на Востоке религиозную точку опоры, а Афродисиас — под покровительством Цезаря и Августа — получил возможность остаться в Империи в качестве свободного, не облагаемого налогами города. Применив этот культ для упрочения собственного положения, диктатор оставил своим неизвестным потомкам в наследство шанс, которым они не преминули воспользоваться[658]. Даже если не поддаваться идеализации, которую проявляет в его описании Лукан, все равно личность Помпея вызывает симпатию. При всех слабостях и тяжелых эпизодах, его жизнь была достойной и полной преданности тому, что могло в те времена считаться благородным делом. Суровое покровительство Катона, привязанность Цицерона и все те порядочные люди, те лишенные честолюбия старики, которые присоединились к нему до Фарсала[659], — все это серьезные гарантии перед лицом истории. Он превосходит своего соперника Цезаря (а также и Суллу) не гениальностью, а моральным уровнем, хотя по отношению к Сулле в юности он — в течение какого-то времени — был суров, если не жесток. В свои отношения с богами он внес, как кажется, такую же выдержанность, какая была ему присуща как гражданину. Примечательно, что в биографии Помпея, которая длиннее всех в сборнике Плутарха, почти нет речи о религии. Не потому, что ему были несвойственны религиозные воззрения, а потому, что они были традиционными и постоянными. Не упоминаются ни прорицательницы, ни театрально пышные проявления поклонения богам. В отличие от других честолюбцев, он, по-видимому, не считал себя баловнем Фортуны. Хотя поначалу проявления любви всей Италии вскружили ему голову, он быстро вернулся к пониманию реальности. Он подвержен сомнениям, как все простые смертные, и просит совета у мудрецов. Между его поражением и жалким, но мужественным концом, который готовили ему трое освобожденных рабов в Египте, он успел, проезжая через Митилену, поговорить о Провидении с местным философом Кратиппом. В его тоне чувствовались и горечь, и некоторые сомнения. Может быть, учитывая урок Суллы (либо потому, что для военных вождей это было необходимо), он делает робкую попытку поклонения Венере. Однако ему хватило хорошего вкуса не называть ее Счастливой (Felix)[660]. После поражения Митридата, в 55 г., во время своего второго консульства Помпей посвящает храм митридатовой Венере Победительнице (Victrix) над великолепным театром, построенным по его приказу. Основание этого храма отражено на монетах, отчеканенных по образцу тех, которые выпускал Сулла. В тот же день, вскоре, было заложено святилище Felicitas, а кроме того — еще (и это весьма знаменательно) и святилище Хоносу и Виртус. В самом этом культе нет дерзкой самоуверенности, которой отличался Сулла. Господин Шиллинг нарисовал прекрасную картину «религиозного поражения» Помпея. Ночью накануне Фарсала ему приснился сон: он увидел себя в Риме входящим в своей театр под аплодисменты народа и украшающим храм Венеры Победительницы многочисленными трофеями. Его друзья усматривают в этом сне обещание победы. Но сам он сомневается, так как дарование трофеев богам допускает двоякое истолкование: хотя победитель их преподносит, но доставляет их побежденный. Вспомнив, что Цезарь — его противник, — будучи потомком Энея, имеет больше прав на покровительство Венеры, он склонен думать, что его сон, скорее, предвещает поражение. Плутарх на этом останавливает свое повествование, но аппиец его дополняет: в решающий момент, когда два противостоящих друг другу полководца провозглашают лозунги, — Цезарь говорит: Венера Победительница, — а Помпей импровизирует и говорит: Геркулес Непобедимый. «В этом религиозном поединке, — заключает господин Шиллинг, — Помпею пришлось перед лицом Цезаря заранее признать свое поражение». И он сделал это, как и всё в последние недели своей жизни, печально и скромно. По-видимому, несправедливо по отношению к Цезарю помещать его в этот ряд политический деятелей: его личность, его ум, его талант, его творчество — выходят за все рамки. Но мы должны рассмотреть его здесь — как деятеля, подготавливающего наступление Империи. И (особенно, если учесть кинжал Светония) в его биографии есть немало черт, которые — если бы их приписывали современному деятелю — свидетельствовали бы о полнейшем безбожии. Но это было бы ошибкой. Просто Цезарь был участником религиозного разброда своего времени. Собственно римская летописная традиция, пришедшая в упадок во времена гражданских войн, становилась все более формалистичной. Кроме того, она всегда оставляла некую свободу выбора, позволяя даже благочестивым людям хитрить, пользоваться случаем, когда представлялась возможность действовать в своих собственных интересах. Он, казалось, заигрывал даже с самыми высокопоставленными священнослужителями, когда его рождение и семейные связи ему это позволяли. Например, перечитаем начало Жизни двенадцати Цезарей Светония: «На шестнадцатом году он потерял отца. Год спустя, уже назначенный жрецом Юпитера, он расторг помолвку с Коссуцией, девушкой из всаднического, но очень богатого семейства, с которой его обручили еще подростком, — и женился на Корнелии, дочери того Цинны, который четыре раза был консулом. Вскоре она родила ему дочь Юлию. Диктатор Сулла никакими средствами не мог добиться, чтобы он развелся с нею. Поэтому, лишенный и жреческого сана, и жениного приданого, и родового наследства, он был причислен к противникам диктатора и даже вынужден скрываться»[661]. В 63 г. благодаря интригам он получил должность великого понтифика на таких условиях и такими средствами, какие не оставляют сомнений в том, что он придавал этому посту стратегическое значение в своей карьере (Plut. Caes. 7, 1; Suet. Caes. 13). Однако не следует забывать, что уже давно должность великого понтифика была связана с интригами и коррупцией, и что fl amonium Jouis (сан фламина Юпитера) уже не был странным и никому не интересным архаизмом. Как все его современники, Цезарь расположен к вере в знаки, предчувствия и пророчества, однако не настолько, чтобы отказываться от хорошо обдуманных действий. Как безапелляционно утверждает Светоний, никогда Цезарь не отменял и не откладывал свои планы из религиозной щепетильности, никакое суеверие его не останавливало. Однако Светоний ничем не подтверждает свои высказывания: он только говорит, что однажды, хотя жертва избежала кинжала, он все же выступил против Сципиона и Ююбы (царя Нумидии). В другом месте он говорит, что Цезарь однажды почувствовал опасение, что его могут заставить дать отчет во всем, что он сделал в период своего первого консульского срока вопреки знамениям, законам и возражениям. Но чего стоят такие слухи? «Малая история» очень разнообразно использовала россказни. Так, Светоний среди примеров высокомерия — приводит следующий факт: когда гаруспик заявил, что появилось плохое предзнаменование (tristia), поскольку в одной из жертв не нашли сердца, Цезарь якобы ответил, что он сделает так, чтобы гадание на внутренностях стало благоприятным (laetiora), когда это ему будет угодно, и что не следует считать знамением отсутствие сердца у какого-то животного. Плутарх (63, 1), рассказывая о том же дурном предзнаменовании, относит его к кануну мартовских ид и не приводит в связи с ним никаких высказываний Цезаря. Прежде чем перейти Рубикон, прежде чем бросить жребий, — говорит Плутарх (32, 4), — Цезарь очень долго размышлял, погруженный в глубокое молчание, затем посоветовался с друзьями. Приняв решение, он увидел ужасный сон (ему приснилось, что он переспал со своей матерью), но это его не остановило. По совершенно другому поводу, Светоний пересказал тот же сон (7, 2), но он истолковал его как нечто совершенно противоположное устрашающему предостережению: в начале своей карьеры, находясь в Испании, Цезарь увидел во сне, что он насилует свою мать, и толкователи снов объяснили ему, что — поскольку нашей общей матерью является Земля, — то этот сон предвещает завоевание всего мира. Это внушило Цезарю наибольшие надежды. Что касается знака, предшествовавшего переходу через Рубикон, то Светоний толкует его как благоприятный: ему привиделся красивый мужчина необычайно высокого роста. Он вдруг увидел его сидящим на некотором расстоянии и играющим на флейте. Находившиеся поблизости пастухи и солдаты все сбежались к нему. Так как у нескольких из них в руках были трубы, то незнакомец выхватил музыкальный инструмент у одного из них, бросился к реке и переплыл ее, оглушительно трубя. «Ну что же, — сказал Цезарь, — отправимся туда, куда призывают нас знамения богов и несправедливость моих врагов! Жребий брошен…». Кому верить? Ему случается, подобно святому царю Нуме, понимать священное буквально и поступать по-своему. Сходя на берег Африки, покидая корабль, он упал на землю, однако истолковал это как благоприятный для себя знак и воскликнул: «Африка, ты в моих руках!» (Suet. 59). Но это присуще хорошим руководителям. Во все времена перетолкование знамений было делом присутствия духа. Преследуя в Африке Катона и Сципиона, Цезарь — высадившись на берег— узнаёт, что его враги опираются на древнее пророчество, обещающее роду Сципионов постоянные победы в Африке. Цезарь немедленно выделил из своих войск безвестного и презираемого всеми человека, происходящего из рода Сципионов и носившего имя Сципион Салютион, и стал во всех сражениях помещать его во главе армии, как если бы тот был полководцем (Plut. 52, 2; Suet. 59). То, как Цезарь шел навстречу смерти, невзирая на многочисленные знаки, которые его о ней предупреждали, заставляет задуматься. Может быть, дело в том, что' он выразил в немногих словах, которые передает Плутарх. Возвращаясь в Рим после победы над последними сторонниками Помпея, он отказался от стражи, сказав: «Лучше умереть один раз, чем постоянно бояться смерти» (Plut. 57, 3). Накануне убийства, когда он ужинал у Лепида, сотрапезники задали такой вопрос: «Какая смерть самая лучшая?» Не дав им самим ответить, Цезарь отрезал: «Самая неожиданная» (Plut. 63, 2). Возможно, этот человек, которого постоянно пожирала жажда славы, просто устал от жизни. Так — еще в эпоху античности — думали многие. Будучи чрезвычайно честолюбивым, он не только верил в свою звезду, но чувствовал, что ему покровительствуют боги, весь божественный мир, из чего бы он ни состоял, и это, по-видимому,изменялось в зависимости от обстоятельств и периодов его жизни. Смысл этих слов определялся его римской кровью и греческой образованностью. Наконец, будучи человеком действия, он раз и навсегда понял суетность и тщетность умозрительных построений. Так, например, в своих Комментариях он следующим образом высказывается о религии галлов и германцев: там ничего нет для мыслителя, ничто не позволяет думать о возможности ограничения понятия божественности. Если во время войны он грабит святилища и храмы богов, дарами наполненные, то это соответствует давним традициям Рима: никогда Рим не считал себя обязанным вежливо говорить о богах врагов. После Фарсала, проникнув в Азию, он предоставил свободу жителям города Книд ради Теопомпа — автора сборника мифов (Plut. 48, 1), так как, по-видимому, ценил его как коллегу, поскольку сам не преминул написать Похвалу Геркулесу (Suet. 56, 7). Таковы некоторые установки, помогающие понять не слишком последовательное поведение Цезаря. Верил ли он в легенду об Энее, согласно которой в числе его предков была Венера? Вполне вероятно. Ведь он не должен был заниматься философской критикой общепринятой темы, тем более что она была ему так выгодна. Во всяком случае, он максимально использовал это необыкновенное происхождение. В 68 г., в хвалебной речи на похоронах своей тети Юлии, вдовы Мария (в которой он не побоялся — в разгар развенчивания Мария — восславить его память), Цезарь ясно изложил свои притязания: «Моя тетя Юлия по материнской линии является потомком царей, а по отцу состоит в родстве с бессмертными богами» (Suet. 6, 1). Накануне Фарсала Венера весьма в чести. Аппиан (B. C. 2, 68) изображает Цезаря, который среди ночи совершает жертвоприношение в честь Марса и Венеры и дает обет воздвигнуть после победы храм Венеры Победительницы в Риме. Внезапно из его лагеря вырывается пламя, которое направляется в лагерь Помпея и там гаснет. В этом Цезарь усматривает благоприятный ответ богини, и утром 9-го августа 48 г., которое станет началом его абсолютной власти, он бросил в бой свои войска с криком: «Venus Victrix»! Одержав победу, он исполнил свой обет, однако внес многозначительную поправку: на Форуме, которому он придал торжественную пышность, он воздвиг украшенный золотом мраморный храм в честь Венеры Прародительницы (Genetrix), перед которым впоследствии вознеслась его собственная статуя. Цезарь также не оставляет без внимания и второго бога, к которому он обращался с призывам перед Фарсалом и который покровительствовал тому виду искусства, каким мастерски владел Цезарь. Среди других великих планов Цезаря было также возведение в честь Марса храма — самого грандиозного во всем мире. Для этого он хотел засыпать озеро, на котором в прошлом он давал «морские бои» (Suet. 44, 1). Но не успел сделать этого. Его благочестивое желание выполнил Август, под лозунгом Марса Ультора. Что касается Юпитера, то ему Цезарь адресовал царский венец, который Марк Антоний попытался надеть ему на голову (но это было слишком холодно принято окружающими, так что от этой идеи он отказался). У Цезаря была своя теология. Более важны два религиозных обряда, связанных с ним, и, конечно, он сам был их инициатором. С одной стороны, его реальная скромность во время побед, а также многие случаи предоставленных им помилований, создали для него такой почет, какой никто не подумал бы оказать Марию или Сулле: было решено возвести храм его милосердию — Clementia Caesaris (Plut. Caes. 57, 2; App. B. C. 2, 106). Богиня и герой были изображены протягивающими друг другу руки. С другой стороны, его обожествили при жизни. Он заранее подготавливал теократическое развитие своей власти, используя мифическое происхождение Юлиев. И перед Рубиконом, и перед Фарсалом он прикрывает свои начинания и свои успехи указанием на покровительство Провидения. Так же, как Сулла, он старается обеспечить себе созвучие с Ромулом, с мистической силой прорицательства, и в 47 г. он становится великим понтификом. В следующем году, возвращаясь с военной кампании в Африке, он празднует триумф, который придает эфемерному обожествлению победоносного полководца совсем другой масштаб. «Во время эпического триумфа 46 г., — пишет Carcopino, — он проявляет серьезность и сосредоточенность, присущие другой эпохе, и поднимается по ступеням Капитолия, подобно паломникам Святой лестницы[662], на коленях. Его пыл, возможно, был искренним. На фронтоне святилища его имя сверкало под именами богов Триады, на месте имени Catulus (Катул), которое выбили молотком. В целле, напротив divinatates poliades[663], были помещены: его колесница и бронзовая статуя, которая изображала его стоящим на земном шаре, а на цоколе статуи было написано посвящение, адресованное ему Сенатом: Цезарю, полубогу, ήμιθεός — на греческом языке Диона и на латинском языке — heros или semideus. Простертый в молении, Цезарь тщетно делал вид, что не видел этого: он был распростерт перед собственным изображением, прославлявшим его. После этого все пошло очень быстро: было основано третье братство лупер-ков — братство Юлиев, с золотым сидением в Сенате и трибунале и со священной колесницей и священными носилками во время процессий вокруг Большого Цирка. Короче говоря, как пишет Светоний (Caes. 76, 1), он «получил храмы, алтари, статуи около статуй богов, а также пульвинар и фламина, луперков, и месяц — июль — названный в честь него». Родство Энея с Венерой облегчало такое продвижение. Надпись в Эфесе свидетельствует, что, с 48 г. провинция Азия провозгласила его «видимым богом, сыном Ареса и Афродиты», соединив в чету (как это было принято у греков) его бабку и его прокровителя. «С тех пор, — говорит Carcopino, — получив все атрибуты бога, Цезарь получил и соответствующий статус. В самой Италии простые частные лица в порыве благодарности записали это на камне: как, например, горожанин из Нолы, назначенный дуумвиром в своей муниципии милостью Цезаря, не нашел лучшего способа выразить свою благодарность. Сенат присваивает Цезарю это звание официально в начале 44 г., и он не отказывается. Подвергли сомнению высказывание Диона по этому поводу (44, 6, 4), так как он называет нового бога: Зевс Ioulios, Юпитер Iulius — что (если это понимать буквально) было бы чрезмерным и, следовательно, неправдоподобным. Однако Дион — грек, а в его языке для выражения понятий deus и diuus есть лишь одно слово: θεός. Поэтому для него Зевс Ioulios — это эвфемизм для бога (или, скорее, для diuus Iulius[664]); точно так же, как для людей из Митилены, которые в те же времена называли своего прославленного соотечественника Феофана — приняв его с божественными почестями — именем Зевс Theophanès. Кроме того, люди из Эзернии должны были посвятить именно при жизни Цезаря вотивные предметы Гению diui Caesaris (CIL. I2 799), а поскольку культ умершего Цезаря был введен лишь в 42 г., то Цицерон выразил в своей второй филиппике 19 сентября 44 г. осуждение Антонию за то, что он пренебрег культом diuus Iulius во плоти. Действительно, после своей смерти Цезарь открыл для религии путь, о котором она и впредь не забыла: бог человеческий стал богом небесным. Во время игр, которые Август провел в честь Венеры Прародительницы, «на севере заметили комету, которая была видна в течение семи дней. Она всходила около одиннадцати часов дня, и ее свечение можно было видеть отовсюду. Согласно народным верованиям, эта звезда возвещала, что душа Цезаря принята в среду бессмертных богов». В связи с этим, Август поместил звезду как знак отличия на голове статуи Цезаря, которую он освятил затем на Форуме (Plin. 2, 94). В литературе комета уступает место звезде, а у Овидия (Met. 15, 840–842) Юпитер поручает Венере изъять душу из страдающего сердца ее внука и превратить в звезду, которая вечно будет сторожить Капитолий и Форум. При этих господах, которые с большей или меньшей смелостью в «планировании» направляли оба культа в своих личных целях, — как обстояло дело с религией у народа и у образованных граждан, в общественной и частной жизни? Те немногие сведения, которые можно извлечь из литературной документации или из надписей, свидетельствуют об упадке: священнослужитель, еще недавно столь занятый мистическим значением должности фламина Юпитера, годами остается без дела, а те праздники, которые еще отмечаются, превратились в развлечение. Суеверия — римские, этрусские, греческие, восточные — в весьма малой степени компенсируют великие надежды и испытанные технические приемы, существовавшие ранее. Равнодушие и скептицизм лишают молодежь возможности испытывать сомнения и задумываться над проблемами. Интеллектуалы отличаются проницательностью и здравомыслием. Одни, не занимая ответственных постов на государственной службе или в обществе, не признают ничего и проповедуют атеизм и свободомыслие: Лукреций становится тем голосом, благодаря которому римское мышление опережает всех будущих материалистов. Склонный к сомнениям в размышлениях, которыми он занят всю жизнь, Цицерон, казалось бы, расположен к различным нюансам, но какие уж тут нюансы? В благородном уме этого авгура-философа нет никакой системы, и в нем царит осознанная непоследовательность, с которой он примиряется. Он меняет позиции в зависимости от аудитории или от того человека, которому доверяется, причем в каждом случае он совершенно искренен из-за ощущаемой им неуверенности. Эмиль Фагэ (Émile Faguet) забавляется, показывая, как Вольтер, рассуждая на самые великие темы — о боге, о душе — не стесняясь и не кривя душой, с непосредственностью, а иногда и с пылкой страстью, принимал абсолютно противоположные точки зрения. У Цицерона ничего не было от вольтерианца, и он не любил резких выражений, но мы замечаем, что он чувствует себя свободно среди противоречий (а может быть — он наслаждался одновременно и богатством мысли, и ее свободой). Во всяком случае, совершенно ясно, что вид и наставления этого порядочного человека не способствовали восстановлению у самых слабых духом людей разрушенного здания верований и обрядов. Этому дилетантизму противостоит серьезность Варрона. Его усилия, направленные на разъяснение и систематизацию, нашли выражение в «Предварительных замечаниях». Но для кого писал Варрон? Для других эрудитов, для потомков, для истории? Маловероятно, что он надеялся повлиять на религиозность своих сограждан: наверняка он таких надежд не питал. Характерный признак времени: в обстановке, когда все отступились, когда умы охвачены смятением, сразу появляется множество полуученых и псевдофилософов, подобных Нигидию Фигулу[665], и даже «предводителей маленьких стад». Неприятно перечеркивать в этой точке историческую кривую развития религии в Риме. Пусть нам послужит утешением мысль о том, что уже скоро появится Август, который сумеет — опираясь на эти осколки, руководствуясь несколькими великими принципами, — собрать их вокруг нескольких обновленных центров поклонения и воссоздать структуру (правда, частично искусственную), в недрах которой медленно, мучительно, но уверенно, будет созревать другое изменение.

Часть IV КУЛЬТ
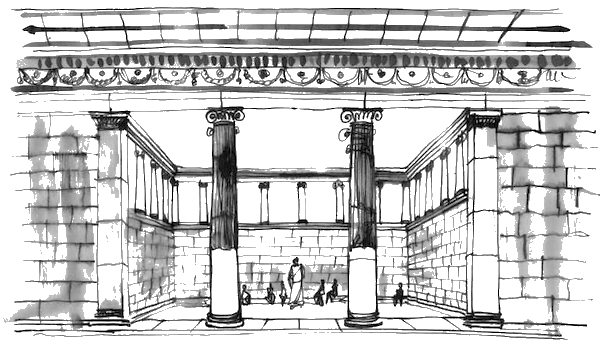
Глава I ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫНИ
Прежде чем знакомство с более пышными культами вызвало угрызения совести у их внуков, римляне могли довольствоваться старыми будничными обрядами. Кроме нескольких «пустых» месяцев, в течение года совершались ритуалы, не лишенные ни оживления, ни яркости. А сколько в них было разнообразия! Так, в феврале, пока общество еще не начало заниматься умершими, дикие луперки одновременно и совершали очищение, и давали прекрасный спектакль. В марте — состязания колесниц, в которые были запряжены два коня, и тяжеловесные танцы салиев — придавали бóльшую силу церемониям очищения оружия, и все это сопровождалось звуками труб. Симметрично этому в октябре, в конце военной кампании, богатый комплекс обрядов Октябрьского коня обрамлялся другими живописными церемониями очищения, которые начинались вместе с месяцем у тайной двери Сестры. В апреле благодушные очищения во время Парилий — с их кострами и танцами — следовали очень скоро за жертвоприношениями Фордицидий. Незадолго до летнего солнцестояния замужние женщины собирались вместе — чтобы разыграть роль Матери Матуты, а также для того, чтобы «поощрить» приближающихся Аврор. В августе — коней и более мелких животных гнали на Консуалии (празднества в честь бога Конса). Зиму встречали Сатурналиями. Короче говоря, все то, что впоследствии вошло в развитый культ, — пляски, процессии, жертвоприношения, состязания, — уже присутствовало, причем не в «свернутом» виде (с недостаточно характерными чертами), а в четкой форме, с соблюдением порядка, возникшего в давние времена. Как мы видели, Фордицидии, Октябрьский конь имеют точные соответствия в ведических ритуалах, объясняющих эти особенности, в то время как в общественном статусе и в поведении совершающих обряды в Матралии, воспроизводился подлинный образ, который Ригведа придавала богине Авроре. Главное действие — жертвоприношение — также совершалось в до-римской форме. Так, Палес, богиня стад, получает только молочные дары — подобно ведическому богу скота, который и в мифах, и в ритуалах питается только кашей; но другие культы требуют жертвоприношения животных (хотя некоторые древние авторы с самого начала дают противоположные сведения), а условия проведения церемоний и форма жертвоприношений также восходят к индийским обрядам. За исключением нескольких случаев отклонения от обычных обрядов, в качестве жертвенных животных используются (причем с соблюдением иерархической последовательности, как это показывают своветаврилии) рогатый скот, овцы, свиньи, а в октябрьские иды к ним присоединяется конь. Кроме того, что свинья заменила козла, список включает тех же животных, каких считали пригодными для жертвоприношений не только индийские теоретики, но еще индоиранские. За человеком — теоретической жертвой — следовали по порядку конь, бык, баран, козел. Предназначавшиеся Марсу suouetaurilia напоминают не только греческие trittys, но — более точно — жертвоприношения богу Индре: бык, баран, козел. И там, и здесь — требование безукоризненного состояния жертвенного животного и проверка его вплоть до внутренностей с целью удостовериться в том, что оно вполне соответствует критериям церемонии. И там, и здесь (в отличие от греческого обычая) предназначенная богу часть сводится к нескольким жизненно важным органам, которые сжигаются на особом огне. Короче говоря — так же, как первым поселенцам Палатина, Эсквилина и Квиринала — римлянам не пришлось придумывать самостоятельно основы обряда, поскольку они унаследовали все это от традиций, а остальное было дополнено заимствованиями из обрядов этрусков и греков, в соответствии с ходом развития самих традиций. Напомнив обо всем этом, мы далее будем рассматривать главным образом культ, которого придерживался Рим эпохи Республики, но не в его завершении (поскольку он так и не был завершен), а в том состоянии равновесия, которое он обрел на некоторое время после второй Пунической войны: в то время основные черты уже составили закрепленную совокупность, может быть, благодаря длившемуся веками руководству понтификов. Там, где это возможно, будут даны уточнения, которые позволят правильно соотнести излагаемые факты с прошлым Рима, а также наметить и перспективы на будущее[666]. Первое различие — это различие между государственными культами (sacra publica), созданными в пользу Рима либо усилиями всего Рима в целом, либо его официальными подразделениями (curiae, pagi, и т. д.), и частными культами (sacra priuata): культами, созданными либо индивидами, либо родами, т. е. неофициальными группами. Государство небезразлично к частным культам и признает их полезность. В отношении родовых культов иногда государство вмешивается и поддерживает их (так же, как в случаях, когда семья угасает, либо если расходы на обряды превышают финансовые возможности семьи). Государство осуществляет контроль и следит за тем, чтобы не нарушался общественный порядок и не создавались помехи для осуществления общенационального (государственного) культа. Наконец, государственные специалисты дают консультации, когда у людей возникают вопросы по поводу уместности совершения некоего культа или в отношении процедуры священных действий. Разделение здесь достигает большой глубины. Частное лицо (priuatus), не выполняющее религиозных обязанностей и тем самым становящееся impius (безбожником, нечестивым), подлежит наказанию не в большей мере, чем богохульник: это дело отношений между ним и богами. Самое большее, что предпринимается, — это то, что моральный магистрат, которым является цензор, может лишить его чего-нибудь. Так поступил Катон, когда отнял коня у некоего Луция Ветурия, quod tu, quod in te fuit, sacra stata sollemnia capite sancta deseruisti[667](Fest. c. 434 L[667]). Государство, конечно, может поручить некоему роду какой-нибудь культ, представляющий общественный интерес. Однако такие поручения не создают категории промежуточной или смешанной: частные культы, принадлежащие роду, не сливаются со святынями, связанными с его миссией. В приватной сфере — так же, как в государственной — бóльшая часть священных действий совершается в определенное время и при определенных обстоятельствах, потому что священное право их к этому обязывает. Существуют и импровизированные варианты, конечно, в узаконенных формах. Они возникают в тех случаях, когда необходимо найти ответ на новые потребности, причем инициативу проявляют те люди, которые имеют право решать подобные вопросы. Эта вторая группа пополняет первую. Таким образом, многие действия, вызванные частными случаями, вошли в обычай. Одним из основных способов внесения нового является uotum (жертвоприношение по обету) — торжественное обещание, как правило, связанное с определенными условиями: если божество, к которому обратились, согласно совершить благодеяние — либо сразу же, либо в конце периода времени, указанного в договоренности, — то дающий обет обязывает группу, которую он представляет на законном основании, совершить жертвоприношение, устроить празднество, либо заложить алтарь или храм. Так, на поле боя полководец часто дает обет заложить храм в честь одного из богов по своему выбору. Когда Риму угрожают (подвергая риску его существование) такие бедствия, как эпидемия, голод или нередкие победы Ганнибала, — компетентные власти провозглашают пятилетние обеты, обещая совершить то или другое в течение ближайших пяти лет, и Республика римского народа квиритов остается в целости и сохранности (Liv. 22, 10, 2; 31, 9, 9…). Следует полагать, что эвокация, в которой римский полководец обещает ввести культ, посвященный богам врагов, если они откажутся от поклоняющихся им людей, — это разновидность uotum. Тесная связь между священным правом и гражданским правом проявляется в тех выражениях, которые используются для определения мистической ситуации, в которой находится тот, кто дает обет: он им связан, он — человек, обязанный выполнить обет (uoti reus), как только он высказал свои обязательства, налагаемые этим обетом. Если он получит от бога то, о чем его просит, то он становится uoti damnatus (связан обетом) до тех пор, пока не выполнит свои обещания (soluere, reddere). Если обещанная вещь — храм или предмет, то дающий обет будет освобожден в момент посвящения (dedicatio), которое представляет собой своего рода публичную «передачу в руки божии». Если речь идет о частном деле, то посвящение означает, что вещь считается священ-ной[668] и что будет нечестивым поступком, но не святотатством, нарушить его статус. Если посвящение совершается от имени государства, то вещь становится sacra. Необычным, но интересным представляется посвящение, когда римский полководец, попавший в затруднительное положение, покупает победу, которую он не надеется одержать, отдав и себя, и вражескую армию в распоряжение Теллус и богов Манов[669]. Он передает свои полномочия великому понтифику, становится на лежащий на земле дротик, накрыв голову куском ткани и приложив руку к подбородку, и произносит обязательство. Затем он бросается на врагов, зная, что только чудо может спасти его от смерти, и гибнет. Как мы видим, в этом случае имеет место плата, заранее предназначенная богу и придающая этому ритуалу характер жестокого принуждения и почти магического действия. Однако если полководец избегает гибели, то он на всю оставшуюся жизнь оказывается нечестивым, и для него невозможно искупление (piaculum). Другой способ порождения новых религиозных действий предусмотренного типа, но с частными особенностями, зависевшими от обстоятельств, — это разнообразные исправительные и восстановительные меры. Римляне внимательно относятся ко всему, что подвергает опасности мир или на деле нарушает его, либо подвергает риску божью милость — цель всего культа. Во-первых, бывает, что происходят невольные, а зачастую и неосознанные осквернения и ошибки, неизбежные при обычном течении жизни и пользовании вещами. Отсюда — как в частной жизни, так и в общественной сфере — возникновение множества люстраций, одни из которых обязательны и проводятся регулярно, а другие факультативны и совершаются от случая к случаю. Это делается для восстановления и исправления отношений между людьми и богами. Чаще всего соответствующие ритуалы обращены к будущему: молитвы о защите, о плодородии и т. д. Существуют еще знамения, угрожающие и непонятные: предостережения, которые (по крайней мере, в общественной сфере) Сенат выделяет из множества самых разнообразных и нередко неправдоподобных сообщений, представляемых на его рассмотрение и дающих повод для того, чтобы (после совещания с компетентными священнослужителями) провести торжественную церемонию — умилостивление (procuratio): очищение города или какой-либо его части. Но также, по совету священнослужителей (обычно децемвиров, обратившихся к Сивиллиным книгам) проводятся различные традиционные церемонии или же, напротив, совершенно новые. Так, навсегда прославились рассмотренные выше церемонии 207 г. Наконец, происходят нарушения священного права, осознаваемые частными лицами или государством, делающие их нечестивыми. Такие нарушения подлежат искуплению (piacula), по крайней мере, если они не были намеренными. Частым видом нарушения является неправильное проведение какого-нибудь ритуала. В таких случаях ритуал должен быть проведен повторно (instaurare) и сопровождаться искупительными жертвоприношениями. Нередко эти жертвоприношения оказываются более дорогостоящими, чем обычные. Что касается тех, кто имеет право налагать обязательства или освобождать от них некое сообщество, Республику или gens, то такими лицами являются естественные лидеры: pater familias или магистраты с империем. Если обстоятельства складываются так, что какой-нибудь магистрат без империя должен принять решение, то он — даже если он цензор — должен испросить и получить мандат от народа (populi iussu facere). Главное действие (либо самостоятельное, либо его неотъемлемая часть, входящая в более сложные действия) — это приношение даров, в качестве которых используется пищевой продукт: например, первины урожая зерновых, бобов, винограда, сладкое вино, весьма часто — животное: именно все это преимущественно входит в состав жертвоприношений (sacrificia). Исключение составляет Октябрьский конь, занимающий особое положение как в отношении жертвы, так и по способу ее умерщвления и связанных с этим обрядов. В остальных случаях жертвоприношение животных всегда проводится одинаково. Рядом с алтарем, ara, возвышающимся напротив храма, устанавливается небольшой очаг, foculus, который, вероятно, символизирует жертвенник совершающего действие жертвоприношения, и на котором происходят предварительные жертвенные возлияния вина и фимиама (ture et uino). Когда служители храма подводят к алтарю жертву, украшенную венком и лентами, появляется тот, кто должен провести жертвоприношение, причем тога надета на нем на архаический манер, называемый еще cinctus Gabinus, так что руки у него свободны. К молчанию призывает глашатай, а для того чтобы заглушить шум, лишающий обряд юридической силы, флейтист начинает играть. После подношения предварительных даров, совершающий жертвоприношение окропляет животное вином (immolat), выливает на него mola salsa — полбяную муку, поджаренную и смоченную рассолом, приготовленным весталками. При этом острием жертвенного ножа проводят, не надрезая, вдоль тела животного, от головы до хвоста. Хроника сохранила воспоминание о животных, которые были immolati таким образом и остались неповрежденными, так что бывали случаи, когда жертвенным животным удавалось спастись и сбежать в лес. Некогда это действие исполнял тот, кто совершал жертвоприношение, но в классическом ритуале животное убивали служители — uictimarii (помощники жрецов). Составляющие долю бога внутренности: печень, легкие, желчный пузырь, сердце, сальник (только сердце, начиная приблизительно с 260 г., как о том свидетельствует Плиний, N. H. 11, 186[670]) — изымаются, нанизываются на вертел или складываются в горшок olla. Некоторые другие куски туши, по-видимому, представляющие тело животного как целое, augmenta и magmenta (прибавка и дополнительная жертва), добавляются туда же. Совершающий жертвоприношение ставит все это на алтарь, на котором мясо сжигается и, таким образом, отправляется по назначению (exta reddere, porricere). Подготовка внутренностей сопровождается тщательным их осмотром, изучается расположение и форма органов. Если все нормально, то жертвоприношение идет своим чередом (litatio, litatum est). Если выявляется какая-то аномалия, то жертвенное животное объявляется непригодным, операция аннулируется, и объявляется, что другая жертва, называемая замещающей (succidanea; Gell. 4, 6, 6), используется вместо непригодной[671]. Остальная часть тела, uiscera («все то, что находится между костями и шкурой», т. е. плоть: Serv. Aen. 6, 253), считается мирской[672], и это съедают тот, кто совершил жертвоприношение, и его гости в порядке частного культа, а священнослужители используют это мясо во время жертвоприношений, которые они проводят в честь Республики. Животные, которых обычно используют для жертвоприношений, относятся к трем видам, образующим своветаври-лии, и должны в некоторых отношениях иметь символические соответствия с божествами, которые их получают. Согласно обычно соблюдаемому правилу, боги предпочитают самцов, а богини — самок[673]. Юпитер и Юнона предпочитают белых животных, а Боги Маны и ночной Сумман — черных; Вулкану нравятся красные. Юпитеру угодны кастрированные самцы, а Марс предпочитает самцов в их полной силе. В пору, когда в Земле зреют посевы — будущие урожаи, в жертву приносят беременных коров, fordae. В зависимости от обстоятельств выбираются либо взрослые животные, либо совсем молодые, но уже сформировавшиеся: hostia maiores, hostia lactentes (старшие жертвенные животные, молочные жертвенные животные). Во время великих общественных бедствий устраиваются настоящие бойни: триста быков Юпитеру после событий при Трази-менском озере (Liv. 22, 10, 7). До принятия календаря — т. е., по-видимому, в большую часть эпохи царей, а может быть, и позже — мы не знаем, как исчислялось время праздников. Весьма вероятно, что картина не слишком отличалась от той, которую дает нам — в кодифицированном виде — солнечно-лунный год так называемого календаря Нумы. Лунные месяцы, которые назывались древним индоевропейским словом menses, возможно, играли бóльшую роль, но, реально или мистически, большинство праздников связаны с каким-либо временем года, и весеннее начало нового года представляется весьма примитивным. Когда календарь был принят, возникла скрупулезная наука для выделения в нем доли священного. Классификация дней ведется в рамках двух разделов — дни праздничные (dies festi) и рабочие (profesti), судебные присутственные дни (dies fasti) и запретные (nefasti), где, соответственно, используются понятия праздники (feriae) и понятие высший закон (fas)[674]. Второе понятие — метафизическое, вызвавшее множество споров, — было четко определено в начале этой книги: dies fasti — это те дни, которые дают мирской деятельности человека мистическую базу, fas, обеспечивающую ему шансы на удачу, а dies nefasti — это дни, которые такой базы не дают. Слово feriae имеет описательное и негативное значение. В широком смысле — это период, когда человек отказывается от своей мирской деятельности и посвящает это время богам, причем никаких определенных культовых действий не предусмотрено. Следовательно, dies festi посвящаются богам, а dies profesti предоставляются людям для выполнения их личных и общественных дел (Macr. 1, 16, 2). Таково самое древнее учение, которое позднее претерпело разнообразные изменения. В отличие от этого, праздники (feriae) часто получают позитивное осмысление, связанное с «праздником», тогда как праздничный день (dies festus) такого значения не имел. Иногда дело обстояло противоположным образом. Однако все это касалось только теоретиков. Практически же почти все праздники (feriae), а с ними и праздничные дни (dies festi), имели религиозный смысл, и были связаны с обрядами. Следовательно, указанные два подразделения различны по существу: первое из них (присутственные — запретные: fasti — nefasti) характеризует дни с точки зрения человеческой деятельности, причем буквально данное понятие благоприятно человеку и его деятельности; второе подразделение (праздничные — рабочие: festi — profesti) определяет дни с точки зрения принадлежности к божественному. Таким образом, если все праздничные дни (dies festi) являются запретными (nefasti), то обратное отнюдь не обязательно: существуют иные причины мистического характера (помимо уважения к божественному), которые могут рекомендовать человеку отказаться от деятельности в некоторые дни. Что касается праздников (feriae), то они могут быть регулярными или экстраординарными. В последнем случае поводом для них может послужить обет, либо искупление (piaculum) или очищение (lustratio). Если они — частные (priuatae), то это может касаться отдельных лиц (feriae singulorum): так, фламин Юпитера является ежедневно празднующим (quotidie feriatus), т. е. он полностью занят служением своему богу; его жена, фламиния Юпитера, как только услышит гром, становится празднующей (feriata), и это длится до тех пор, пока она не умиротворит богов; наследник человека, умершего на борту корабля и выброшенного в море, должен — в качестве умилостивительной жертвы (piachulum) — совершить жертвоприношение и в течение трех дней соблюдать праздники (ferias observare). Либо же праздники могут быть семейными (feriae familiarum): dies natalis, operationis, denicales — дни рождения, дни приватных жертвоприношений, дни очищения семьи, где кто-то умер — скорбящая семья (funesta familia; Fest. c. 348 L2). Также это может касаться любой устойчивой группы людей (например, ремесленных цехов и т. д.). В случае общественных праздников (feriae publicae) различаются установленные праздники (feriae statiuae), или ежегодные (statae annuae); подвижные (conceptiuae) и чрезвычайные (imperatiuae). В третьем случае, поводом является непредвиденное обстоятельство, обычно — умилостивительная жертва (procuratio) в связи с каким-нибудь недобрым знамением: как, например, девятидневное празднество (feriae nouendiales) — всегда после камнепада (девять «нечистых» дней, как в случае скорбящей семьи с последующим проведеним умилостивительной жертвы). Во втором случае почти всегда существует связь с сельскохозяйственной деятельностью, и дата их подвижна: соответствующие дни назначаются каждый год магистратами или священнослужителями, как, например, посевные праздники (feriae sementiuae), Амбарвалии (Ambarualia), гадание с жертвоприношением собаки (augurium canarium). Остаются установленные ежегодные (statae annuae) с постоянной датой, определяющие распределение дней в календаре: по крайней мере, те из них, которые касаются всего народа в целом, а не какой-то его части. В частности, это объясняет тот факт, что не упоминается в календаре Септимонтиума 11-го декабря — праздник, связанный с холмами (montes). Таким образом, когда feriae получают отрицательное определение, они характеризуются воздержанием от любой деятельности мирского характера. Но если легко было прервать государственные дела, то, напротив, юриспруденция и военные действия не могли прерываться, а также и экономическую жизнь города прервать было невозможно. Поэтому возникла целая казуистика, смягчающая теоретические требования. Как говорит Макробий (1, 16, 9—10), «жрецы утверждали, что праздники (feriae) оскверняются, если совершается какое-нибудь дело (opus), когда они уже были провозглашены и назначены». Однако были исключения. Разрешался труд, имеющий отношение к религии, либо если дело было крайне необходимым и срочным, или же если было опасно его не выполнить. К этому добавлялись и другие исключения: труд допускался, если дело уже было начато, и мог продолжаться без начинания нового дела. При широкой трактовке очень многое оказывалось возможным. Впрочем, другое правило, указанное Макробием в том же отрывке, доказывает, что труд обычно предусматривался и допускался. Так, запрещалось, чтобы священный царь и фламины (речь идет о младших фламинах, а Сервий Georg. 1, 268 еще добавляет сюда понтификов, т. е. всех священнослужителей высшего ранга) во время праздников видели кого-то, занятого трудом. Поэтому впереди них шел глашатай, который предупреждал, чтобы от дела воздержались, а всякий, кто не подчинялся этому приказу, подвергался штрафу. Практически, как уже было сказано выше, общественные праздники имеют более или менее сложное ритуальное содержание, причем обряды адресуются одному божеству или нескольким богам. В году имеется 61 установленный [праздник]: все иды, которые являются праздниками Юпитера; календы — мартовские, июньские и октябрьские, — причем на последние приходятся, соответственно, праздник Carna и ритуал tigillum sororium); а также июльские ноны (Nonae caprotinae) и, кроме того, 45 праздников, обозначенных отдельными именами. Их распределение в течение года послужило поводом для интересных толкований, в основном принадлежащих Виссове: 1. За единственным исключением, которым являются Поплифугии 5-го июля, ни один праздник не приходится на время между календами и нонами, и это наводит на мысль, что классификация по лунным месяцам — весьма древняя, так как именно в ноны священный царь, продолжая, несомненно, царский обычай, публикует на Капитолии государственные праздники, которые должны состояться в данном месяце. 2. За исключением Регифугии 24-го февраля и Эквирии 14-го марта, все праздники приходятся на нечетные дни (начиная с первого дня месяца), а это наводит на мысль, что их распределение по дням произошло после принятия календаря[675](отметим, что судя по второму элементу этих симметричных комплексов, обряды таинственных Регифугий и Поплифугий предполагали, — по-видимому, с целью его предотвратить, — нарушение политического равновесия, некую аномалию: их места в календаре противоречат правилу). 3. Как следствие предыдущего правила, никогда два праздника не идут непосредственно друг за другом; те праздники, которые занимают несколько дней (например, Карменталии 11-го и 15-го января) или падают на праздники, тесно связанные друг с другом (как две группы праздников Конса и Опы — 21-го и 25-го июля), разделяются интервалом: обычно это трехдневный промежуток, реже — интервал в один день. 4. С другой стороны, существуют естественные распределения или симметрии: сельскохозяйственные праздники, разумеется, приходятся на период деятельности крестьянина; военные октябрьские праздники по своему распределению и содержанию соответствуют мартовским, как это естественно для начала и завершения военного сезона; малоизвестный агоний (11-го декабря: Sol Indiges, δαφνηφόρος καί γενάρχης — «Родное Солнце, Лавроносный Родоночальник», — как указывает Lyd. Mens. 4, 155) уравновешивает точно через шесть месяцев праздник Авроры (Матралии: 11-го июня)[676]; 5. Наконец, некоторые dies festi — весьма малочисленные, если отвлечься от нескольких ид и календ — содержат в себе многое (17-е марта: агоналии — праздники и игры — Марса и Либералии; 23-е декабря: праздники Юпитера и Ларенталии). Простое, в принципе, разделение на судебные присутственные дни (dies fasti) и запретные (nefasti) оказывается сложным из-за подразделений, на которые указывают буквенные сокращения на каменных календарях, а в одном случае расшифровка оказалась невозможной. Те 235 dies fasti (отмеченные буквой F в противоположность N), в которые разрешена мирская деятельность, в частности, юридическая (lege agere), — не все открыты для политической деятельности, весьма важной, какой являются собрания народа на комиции (agree cum populo). Тех дней, которые такую деятельность допускают и, следовательно, дают человеку наибольшую свободу, 192 в году, и они называются комициальными днями (dies comitiales; они обозначаются буквой С). Но что означает сокращение NP (N’), которым отмечены 52 дня, все относящиеся к государственным праздникам? Несмотря на многочисленные попытки расшифровки, ответ на этот вопрос не найден до сих пор[677]. По-видимому, решение проблемы могло бы быть получено в комментарии Феста (Festus, c. 283 L2), если бы текст не был так сильно поврежден. Во всяком случае, в своей практике понтифики выделяли несколько «смешанных» дней, одна часть которых была судебной присутственной, а другая — запретной. Одиннадцать дней, которые назывались intercisi (они обозначались буквосочетанием EN: endotercisi), были запретными в начале и в конце дня, а в промежутке они были — судебные присутственные (Варрон. L. L. 6, 31). Среди них были восемь, которые предшествовали государственным праздникам. Три дня, называвшиеся fissi (Serv. Aen. 6, 37), были сначала запретными, а становились судебными присутственными только после того, как совершалось определенное священное действо. В календарях они отмечались более ясно: Q(uando) R(ex) C(omitiauit) F(as), 24 марта и 24 мая (в обоих случаях на следующих день после освящения культовых труб); Q(uando) ST(ercus) D(elatum) F(as), 15-го июня (в день, когда навоз выносится из храма Весты). Распределение судебных присутственных дней (и комициальных) и запретных дней в течение года очень неравномерно без видимой причины: сентябрь и ноябрь почти полностью судебные присутственные[678], тогда как половина июля, две трети февраля и апреля — запретные. Совершенно другая категория — дни дурных предзнаменований (dies religiosi). За исключением случаев крайней необходимости в эти дни считалось дурным любое действие общественного характера — и мирское, и религиозное (и в этом заключается их четкое отличие от запретных дней). Они были ни днями сражений, ни очистительными, ни комициальными (Macr. 1, 16, 24), и в эти дни нельзя было заключать браки (ibid.), и вообще не следовало начинать никакое дело (Gell. 4, 9, 5). Это было понятие, создавшееся на опыте. Дни, которые были так отмечены своеобразным бесчестным клеймом решением Сената, исторически доказали, что они опасны, враждебны: например, годовщины серьезных поражений — таких, как битва у Кремеры и битва при Аллии (в обоих случаях это 18-е июля). Обобщение неприятных воспоминаний привело к тому, что к этой группе дней были причислены все черные дни (dies atri) календ, нон и ид (т. е. дни, непосредственно следующие за ними). В качестве мистических опасностей, которые они несли по своей природе, туда входили дни, когда вступали в соприкосновение земля и подземное пространство, мир живых и мир мертвых (Паренталии, Лемурии, три дня, когда mundus patet[679]), а также те дни, когда талисманы Рима, если можно так сказать, «дышали воздухом» (с 7-го по 15-е июня открывали храм Весты; в марте и в октябре салии публично использовали священные щиты). Все это представляло собой официальное признание понятия «неблагоприятный, плохой день» (говорили также dies uitiosus, ошибочный день), представление о котором дает нам суеверие в отношении «пятницы 13-го числа», весьма распространенное в наши дни, и которое было прекрасно известно римскому крестьянину. Но как это часто бывает со всем тем, что римляне называли словом religiosus, речь здесь не шла о запрете буквально: Сенат лишь отмечал, указывал, что эти дни проявили себя как неблагоприятные, но это никак не сказалось на существовавшем в то время учении понтификов. Этим объясняется тот факт, что три дня, когда mundus patet (24-е августа, 5-е октября, 8-е ноября), а также Аллийский день, отмечены буквой С как ко-мициальные в календарях, и что большинство черных дней отмечены буквой F как присутственные. Наше краткое резюме хотя бы дает представление о той скрупулезности, с которой понтифики и магистраты в течение веков трудились над фундаментальными понятиями. Но понятия fas, feriae — несомненно, являются древнейшими. Размышления лишь совершенствовали обычаи и классификацию, которые (может быть, в менее четком виде) уже существовали до того календаря, который нам известен. Значения государственных праздников (feriae publicae) и приватных (priuatae) были самыми разными. Жертвоприношение играло главную роль, но добавлялось еще множество ритуалов, окружавших его, а иногда вызывавших большой интерес. Так, круговое шествие во время очищений — шла ли речь об ager Romanus[680] или о поле, окружающем виллу — было самоценным. Оно очерчивало невидимый барьер, препятствовавший невидимым врагам, которых отпугивали салии жестами и шумом. Гонки колесниц (bigae), демонстрируя мистические преимущества состязания, выявляли победителя, предоставляли для Эквирий время подвигов, а в октябрьские иды представляли коня, которого Марс хотел в качестве жертвенного животного.Сам отдых животных, их «праздник» в течение нескольких дней (Весталии) оказывал укрепляющее действие, подобно тому, как ремни луперков имели оплодотворяющее воздействие. В течение IV века, и особенно в III веке, когда торговля, могущество и дальние войны уже не позволяли римлянам не обращать внимания на богатство и размах греческих обычаев, — содержание национальных ритуалов очень скоро стало казаться старомодным, чтобы не сказать: устаревшим. Они не были преодолены, вытеснены подобно мифологии. Естественный и продуманный консерватизм не позволял отказаться от ритуалов, способствовавших сохранению города и его росту. Однако нередко миф и даже теологема, которая лежала в его основе, утрачивалась (вспомним Матралии), становилась несколько смешной в глазах людей, просвещенных новым знанием, и им казались нелепыми устаревшие одеяния и жесты (как у салиев), а иногда их смущали проявления примитивной и дикой жестокости, поскольку вкус римлян становился тоньше и благороднее (например, Луперкалии). Упорно сохраняемые ритуалы уже не удовлетворяли народные массы, сознание которых было открыто для явлений, приходивших извне, а руководящие слои общества терзались раздвоением (особенно остро проявившимся у Катона) между верностью «старинному», изначальному римскому народу — и явным превосходством культуры, надвигавшейся с юга и с востока и содержавшей большой соблазн. Можно было даже задаться вопросом, продолжали ли грубоватые ритуалы удовлетворять богов, которым ранние интерпретации передали хорошие манеры Олимпийцев. Именно ощущение этой недостаточности, этого несовершенства, и присущая римлянам осмотрительность — привели к введению в Риме этрусских ритуалов, и в особенности греческого обряда. По правде говоря, с тех пор, как этруски подчинили себе Рим, римляне никогда не были против заимствований. Мы это видели в отношении богов, и то же самое произошло с ритуалами. Такая национальная церемония, как триумф, да и само слово (отдаленного греческого происхождения), называющее этот обряд, пришли из Этрурии. Став на три четверти мирской благодаря пышности и торжественности, церемония все же сохраняла следы (более или менее осознаваемые людьми) двух религиозных понятий иноземного происхождения, но имевших римские основы: триумфатор, поднимавшийся на Капитолий во главе своего войска, раскрашенный красной краской, как и статуя Юпитера, на несколько часов сам становился богом, в дом которого он входил, — Юпитером[681]. С другой стороны, огромная, полная свобода, которой в то же самое время пользовались его солдаты, выкрикивавшие насмешки и оскорбления, — имела не только «моральное» значение, обычно подчеркиваемое писателями («обернись, помни, что ты человек»), но также и магическое действие защиты от невидимой опасности, связанной с этой удачей и с этим апофеозом. Нам трудно себе представить, что победитель галлов, шествующий по Священной дороге во всей своей славе и слушающий, как криками и пением его восхваляют ветераны, когда-то получил боевое крещение при царе Никомеде, не одержав при этом победы[682]. Это умеренное сочетание крайностей — обожествления и высмеивания — является первым вкладом иноземцев в классическую картину Рима. За этим должно было последовать еще многое. Во-первых, лектистернии. Они тоже, по-видимо-му, были заимствованы у этрусков, в Цере[683], но образец был греческий (κλίνην στρωσαι), и это заметно[684]: это греческий обряд, рекомендованный Книгами. Кормить бога с алтаря — цель любого жертвоприношения. Подать ему трапезу — совсем другое дело. Римлянам такой обычай был знаком: трапеза, символически сведенная к кувшину вина и небольшому количеству мяса, — такое угощение предлагал Юпитеру крестьянин перед севом, а в городе аналогом этого стал обед (epulum), подаваемый Юпитеру на Капитолии. Но ни на столе крестьянина, ни, возможно, поначалу на Капитолии, не было изображения бога, принимающего пищу. Достаточно было его невидимого присутствия. Напротив, лектистерний характеризуется ощутимым присутствием бога. Подушка — puluinar — это ложе, на которое, как все сотрапезники-люди, бог укладывается у стола, который для него накрывают. И именно бог ложится, в виде культовых статуй или статуэток различного вида. Поначалу лектистерний подавался за пределами храма, и, таким образом, люди могли видеть своими глазами этих покровителей (как правило, замкнутых в пространстве за целлой). Неизвестно, когда бог удостоился этой чести в первый раз. Само слово puluinar появляется в литературе с тройным лектистернием 399 г., когда были сформированы пары богов — Аполлон и Латона, Геркулес и Диана, Меркурий и Нептун. Целитель Аполлон — во главе, поскольку в тот момент свирепствовала эпидемия, и, хотя не все ясно в этих объединениях, причины, в основном, — греческие. За этим последовали другие коллективные лектистернии. Повторяя Пизона, Тит Ливий говорит, что в IV в. их было четыре, до того лектистерния, который собрал всех двенадцать богов в критический момент войны с Ганнибалом. Эти первые рассказы историка (5, 13, 6) представляют и богов, и богинь одинаково возлежащими на застеленных ложах. Позднее богини изображаются сидящими, располагающимися в креслах, тогда как боги по-прежнему представлены возлежащими. Таким образом, селлистернии располагаются рядом с лектистерниями. И трапеза Юпитера (epulum Jouis) будет праздноваться с этими различиями в позах, причем трапеза Юпитера войдет в моду греческого ритуала, и на него будут приглашаться капитолийские богини (Val. Max. 2, 1, 2: на трапезе Юпитера сам он находился на ложе, а Юнона и Минерва сидели в креслах). Поскольку существуют греческие прецеденты этих различий, некоторые ученые считают, что ничего нового здесь нет и что, несмотря на объединяющее выражение Тита Ливия, с 399 г. боги и богини распределяли между собой ложа и кресла. Однако то, что в двух парах объединены бог и богиня, а третью пару составляют два бога, не говорит в пользу такого истолкования, как не поддерживает его и конкретное описание: застелив три ложа настолько роскошно, насколько тогда могли. Несомненная черта лектистерниев, которая часто присуща греческому обряду, это — присутствие толпы римлян, но не в характерном для них социальном окружении, а в качестве неорганичной массы индивидов. Они приближаются к богам, и если верить историкам, то с 399 г. их призывают сделать общим достоянием гостеприимные намерения: двери всех домов были открыты, и прохожих приглашали к столу, будь то знакомые или незнакомые люди; мирились с врагами, освобождая от оков тех, кто был в них закован… Даже если не следует сохранять все эти подробности, хотя выдвинутая против них критика весьма слаба, все же нет сомнений, что существовал некий «дух лектистерниев», особая атмосфера, как сказали бы в наше время, и это очень отличалось от той атмосферы, какую могли бы создать или потребовать в большинстве случаев старинные национальные ритуалы. Точно так же, как трапеза Юпитера трансформировалась в лектистерний, вполне возможно, что существовал некий римский обычай, который развился в суппликации греческого обряда. Конечно, те примеры, которые можно найти в первых книгах Тита Ливия, можно заподозрить в анахронизме, причем даже в тех случаях, когда к ним не применен никакой технический термин (напр. 3, 5, 14), и невозможно представить себе, в какой форме формалистичная, отрегулированная религия могла бы привлечь весь народ или хотя бы какие-то его части к молитвам служителей; но столь же трудно допустить, чтобы, в моменты великих опасностей приватные культовые действия синхронизированно не подкрепляли усилия священнослужителей и магистратов. Как бы то ни было, суппликации III в. — это явление нового типа. Обычно приказание о лектистерниях издают консулы или Сенат, чаще всего по докладу децемвиров, после обращения к Книгам, но нередко это происходит по декрету понтификов или на основе ответов гаруспиков. Как во многих других случаях, эта инновация не имеет столь же устойчивого статуса, каким обладают древние культы. Руководство ритуалами — или, скорее, выбор момента для начала совершения обрядов (praeire), указание на то, каким жертвоприношением должен сопровождаться ритуал (Liv. 37, 3, 6), — поручается децемвирам, а иногда суппликации и лектистернии осуществляются одновременно. Тогда город представляет собой удивительное зрелище: не только в Риме, но и в сельской местности, в соседних городах, а позднее во всей Италии (Liv. 40, 19, 5) были проведены трехдневные молебствия и праздники. С венками на головах, с пальмовой ветвью в руке, мужчины старше двенадцати лет, — уточняется в одном тексте (Liv. 40, 37, 3), — идут в храмы, приносят в дар вино и фимиам, как в приватном культе. Женщины с распущенными волосами, как в траурных обрядах, становятся на колени, протягивают руки к небу, «обметая алтари своими волосами» (Liv. 26, 9, 7). Весь народ приглашен, и все боги, за редкими исключениями, принимают его в своих храмах, которые в это время постоянно открыты. Вот самая полная формулировка этого: суппликация всем богам, которым в Риме устраивали пиршества (Liv. 24, 10, 13; ср. 31, 8, 2, 32, 1, 14; 49, 19, 5…). В еще большей степени, чем во время лектистерниев, Рим сбрасывает корсет формализма; молитвы и жесты отражают то, что каждому внушает страх или благочестие. Вспоминается начало Эдипа тирана: «Дети, юное потомство древнего Кадма, зачем вы теснитесь на этих ступенях? Почему вы держите эти ветви в знак мольбы? Фимиам курится во всем городе, везде звучат траурные песнопения и стоны…». Может быть, именно из суппликаций возник обычай, в котором также чувствуется греческое влияние. Из этой толпы римлян, свободно обращающихся к богам с помощью слов и жестов, иногда выделялись группы людей в качестве ее представителей. В то же время их слова и крики превращались в ритмичную речь, их пробежки становились процессиями, а их движения превращались в гармоничный танец. Эти делегаты от народа были самой трогательной и самой многообещающей его частью: девушки, юноши, имеющие живых отца и мать, согласно древнему поверью, в соответствии с которым ребенок, имеющий живых родителей, сам является носителем жизненной силы и удачи: например, в 190-м году, во время суппликации, присутствовали десять свободнорожденных юношей и десять девушек, имеющих в живых отцов и матерей (Liv. 37, 3, 6). Макробий (1, 6, 14) говорит об obsecratio (другое название для суппликаций), во время которого свободные девушки и девушки, освобожденные из рабства, а также девушки, имеющие живых отца и мать, произносили заклинание. Самый известный пример — это описанные выше события 207 г., когда в стихах Ливия Андроника зародился поэтический жанр, который предстояло прославить Горацию в его Песни Столетия: как отличается эта стройная изящная процессия от кортежей Амбарвалий или Робигалий, в которых жрецы и их помощники проходили вокруг полей или шли по Дороге Клавдия до пятого миллиарного камня! Процессия 207 г. принесла на Авентин к храму Юноны Регины две статуи богини из кипарисового дерева, которые входили в умилостивление даров. По мнению Виссовы, это тоже было инновацией. Римские храмы уже давно получали дары, многие из которых были частью добычи, либо были изготовлены или куплены на деньги от продажи добычи, а также на деньги от штрафов, однако это не было способом искупления или очищения. Так было до войны с Ганнибалом: в книгах 21–42 Тит Ливий приводит семь случаев, в которых были предложены искупительные дары. В то же самое время установился обычай требовать, чтобы для выплаты искупительных даров проводился сбор денежного взноса (stips) — священной суммы денег, и в этом должен был либо участвовать весь народ, либо это должны были делать матроны или женщины, освобожденные от рабства. Так было положено начало практике, которую предвосхищала «десятина» Геркулеса на Великом Алтаре и которую вскоре переняла Великая Мать, а затем другие греческие, и даже римские божества: до тех пор это обеспечивали богатства бога или коллегий жрецов, общественные ассигнования или другие средства (полученные за счет штрафов, платы за право допуска к чему-то или за право пользования…). В этих обстоятельствах культ становился делом посвященных — притом, что такое «отделение церкви от государства» несло с собой и шансы, и опасности для обеих сторон. Одним из случаев, когда наиболее ясно проявляются главные черты развития, являются Игры[685]. В широком смысле слова старинные ритуалы включали их много, хотя они не назывались официально играми. Развлекались во время Компиталий, во время Сатурналий, в неофициальный день Анны Перенны. Изгнание народом Мамурия Ветурия (Mamurius Veturius) — «старика марта» — было своеобразным спектаклем, а на Эквириях и на Консуалиях проводились настоящие гонки, в которых можно усматривать древние черты, восходящие еще к до-римским временам: тогда как троянские игры были, по-видимому, военным танцем с оружием, на конях, и его исполняли, под руководством начальников, молодые патриции 19-го марта и 19-го октября (квинкватрии, армилюстрий). Но везде, кроме, может быть, последнего случая и еще нескольких других, преобладало ритуальное значение. Игра как таковая, имевшая свою самоценность, и просто предлагавшаяся богам в качестве готового дара, пришла в Рим из Этрурии. К самым древним играм относятся игры, проводившиеся в честь подземных богов под названием Таврийские игры (Paul. c. 441 L2), в которых P. Cortsen усматривал этрусское tauru, предположительно переводимое как «могила». Утверждали, что они были введены последним Тарквинием, согласно Книгам судьбы (Libri fatales; Serv. Aen. 2, 140). Их указывает календарь Остии на 25-е и 26-е июня, как проходящие раз в пять лет, а Тит Ливий (39, 22, 1) кратко упоминает их, называя 186-й год, но все, что о них известно — это то, что они праздновались в Цирке Фламиния, и что там «кони бежали вокруг придорожных камней» (Варрон, L.L. 5, 154). Боги — di inferi — о которых идет речь (по-видимому, так же, как и сами обряды), соответствовали этрусским представлениям, принятым римлянами, но нам неизвестно, в какой форме. Неизвестна также и дата введения Капитолийских игр, которые проводились в Октябрьские иды. Некоторые авторы относили их к временам Ромула, т. е. ко времени основания города, но это маловероятно. По словам Тита Ливия (5, 50, 4; 52, 11), они проводились в память о сопротивлении холма галлам в 390 г. и об освобождении Рима. Это было делом людей данного квартала города, делом collegium Capitolinorum. Борьба, скачки, клоунада являлись там зрелищами. Тарквинию Старшему приписывались Великие игры, которым предстояло стать Римскими играми — самыми значительными в Риме (Liv. 1, 35, 9). Во всяком случае, они отражают в некоторой степени влияние этрусков (equi pugilesque ex Etruria maxime acciti[686]) и тесно связаны с культом Юпитера на Капитолии. Аналогию с триумфом (возможно, в достаточной мере объясняемую общностью происхождения) признавали сами римляне, которые одели руководящего играми магистрата в форму триумфатора. Однако это не дает оснований для того, чтобы усматривать в этих двух праздниках, — как считают Моммзен и Виссова, — разорванные половины одного праздника. С религией была связана процессия, которая через Форум направлялась к капитолийскому храму в Цирк, где проходили игры и где под аплодисменты (pompa Circensis) дефилировала процессия. Дионисий Галикарнасский (7, 72) описал это, хотя и длинно, но недостаточно, по оценке Фабия Пиктора. Процессия несла статуи богов, список которых не совпадает в перечислениях, приведенных Дионисием и Овидием (Am. 3, 2, 43–56). Магистрат возглавлял кортеж, за ним двигались юноши, пешком и верхом на конях, затем появлялись кучера и борцы, которым предстояло мериться силой, и лишь после них показывались изображения богов, а на колеснице, которую вел puer patrimus[687], отдельно от богов (если правильно поняты весьма неясные тексты) везли те атрибуты, которые их отличали. Латте интерпретирует это отделение, — если вообще следует его отмечать, — утверждая, что первоначально боги должны были быть представлены только своими атрибутами и что — когда распространилось использование статуй — они были просто добавлены без изменений к уже существовавшему ритуалу. Игры в собственном смысле выстраивали в ряд квадриги (а не биги, как это было в древних Эквириях; bigae — колесницы, запряженные парой), наездников-вольтижёров, которые должны были перепрыгивать с одного коня на другого, борцов, кулачных бойцов. Гладиаторы этрусского происхождения, которые уже давно фигурировали на частных траурных действах (с 264 г.), никогда не допускались к большим публичным играм. Обычно, вслед за Моммзеном, принято считать, что игры, называвшиеся Великими, а затем Римскими, стали ежегодными и регулярными по форме с 367 г., когда были введены курульные эдилы, характеризовавшиеся как попечители торжественных игр (Cic. Leg. 3, 7). По-видимому, эти игры с самого начала оставались тем, чем были всегда: самым большим праздником в честь Юпитера O. M. Дни празднования, число которых постепенно дошло до четырех, с 15-го по 18-е сентября, следующие за днем рождения храма, в иды этого месяца, после интервала 14-го черного дня. Когда позднее добавился один день, а затем несколько дней и, в конце концов, — девять дней театральных игр (ludi scaenici) добавились до дня рождения, то этот последний, с церемонией трапезы Юпитера, которой он характеризовался, оказался очень заметным, попав почти в разгар увеселений. Разумеется, это новое использование Цирка уже не имело никакого отношения к древним культам, совершавшимся некогда в этом месте, одним из сколько-нибудь известных среди которых был культ Конса, но были и другие божества, известные нам лишь своим именем (Seia, Segetia…), которые все связаны с деятельностью крестьянина: удовлетворились тем, что использовали само место, которое для гонок мулов, проводившихся во времена Консуалий, было превращено в ипподром. Точно так же, как храм триады Церера — Либер — Либера был ответом плебеев на храм капитолийской триады, Плебейские игры дублировали — с задержкой, не поддающейся измерению — Капитолийские игры. Они стали регулярными либо с 216 г. (Liv. 23, 30, 17) — самого неудачного года войны против Ганнибала, — либо несколько раньше, накануне этой войны, когда был построен Цирк Фламиния, послуживший фоном для этих событий, как Большой Цирк для игр, бывших их прототипом. Между двумя формами игр все было гомологично: эдилы — курульные и плебейские, соответственно — выполняли функцию управителей игр; игры, проходившие на сцене, и игры, проводившиеся в Цирке, шли до и после самой трапезы Юпитера, которую устраивали в сентябрьские иды (l. Rom.) и в ноябрьские иды (l. Pleb.). Игры в Цирке проходили после черного дня, а игры на сцене — до него, а сам черный день — 14-е сентября — оставляли в обоих случаях для испытания лошадей. Вскоре последовали другие нововведения: Аполлинарии (208 г.), Цереалии (202 г.), Мегалезии (191 г.), Флоралии (173 г.). Все они вдохновлялись Римскими играми, но несли несомненные следы более требовательного эллинизма. Игры в Цирке были сведены к одному дню, в то время как сценические игры были более продолжительными. Вследствие этого, по-видимому, день совершения культа в честь бога или богини уже не обрамлялся играми, а они проводились либо до (Ap., Cer.), либо после (Meg., Flor.), причем оба вида игр объединялись. Праздник pompa Circensis (Торжественная процессия) засвидетельствован для Аполлинарий и Мегалезий, причем Аполлинарии проходили в Большом Цирке, а для остальных игр сведения о месте их проведения отсутствуют. Куратором игр Аполлинарий был городской претор, остальными играми занимались эдилы — курульные для Мегалезий, а для Цереалий — плебейские, поскольку у плебса были дружеские отношения с Церерой. В отношении игр Флоралий у нас сведений нет. В своей первоначальной форме сценические игры пришли из Этрурии — во времена смуты и всеобщей реорганизации после галльской катастрофы (Liv. 7, 2, 3). Это еще не было театром, а было пантомимой с выразительными танцами в сопровождении флейты. Хотя Тит Ливий относится к этому пренебрежительно, все же это скромное начало дало Риму и его потомкам хотя бы основное название: наряду с histrio — актером, и с subulo — музыкантом, выступает persona, служившая поначалу маской, затем ставшая ролью, персонажем, а потом — личностью: это юристы, философы, теологи, грамматисты. Хотя этимология слова persona — неизвестна, все же суффикс — na наводит на мысль об этрусском происхождении. Как говорит господин Raymond Bloch[688], «странные персонажи в масках, которых можно видеть на фресках, обнаруженных в Тарквинии, относящихся к концу VI в. до н. э., имеют имя, написанное рядом с одним из них, — φersu. Речь идет о фресках могилы Авгуров и могилы Pulcinella, давно выявленных, но лишь недавно полностью опубликованных. В 1958 г. методы исследования, основанные на электрическом сопротивлении, позволили выявить еще одну расписанную могилу, представляющую очень большой интерес. Наряду со сценами борьбы атлетов и гонок колесниц там можно видеть новое φersu. Это новое открытие скоро будет опубликовано[689]. Все эти φersu — это танцоры в масках, которые во время скачек предаются жестоким играм, похожим на отдаленные прототипы римских игр гладиаторов. Знаменательно их название: φersu — это маска, персонаж в маске, а латинское слово persona, несомненно, является производным от тосканского слова». Таково зерно этого великого понятия. Остальное, по-видимому, было скалькировано, взято из набора значений греческого слова πρόσωπον (которое, возможно, и породило этрусское слово). Когда римляне попытались, в рамках этих пантомим, представить то, что впоследствии превратилось в их басни из Ателлы?[690] Древние данные не вызывают достаточного доверия. Самой зачаточной формой театра — с разговорной речью или с пением — была, по-видимому, пляска в талерах (ludus talarius или talarus), которую утонченные люди называли пошлой и которая получила название по одежде актера: длинной, до пят. Но был известен год, когда Ливий Андроник начал устраивать представление настоящих пьес. С тех пор во время Римских игр, а также во время других больших игр — сценические дни были заняты одновременно национальными произведениями (претекстами, тогатами) и греческими театральными представлениями: трагедиями (Ливий, Энний, Пакувий, Акций) и комедиями (Невий, Плавт, Цецилий, Терентий). Но религия не имела отношения к этому литературному процессу.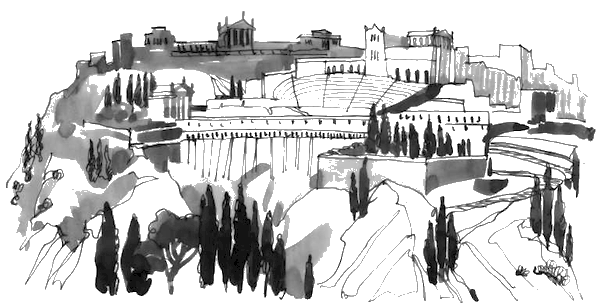
Глава II СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
При изучении древнейших священнослужителей Рима обычно исходят из постулата, которого теперь уже придерживаться невозможно: общественная, публичная религия понимается как частный случай, форма развития приватной религии, при этом представляется что один из многих pater-familias, став царем, придал особую значимость своим родовым культам и навязал их всему обществу. В обычном доме богослужение было делом главы семьи и его жены, а дети им помогали. Точно так же первоначально в царском дворце все необходимое делали царь, царица (rex, regina) и их дети. Затем, поскольку постепенно царю все больше и больше приходилось заниматься управлением государством и командованием армией, он вынужден был привлечь в помощь себе в делах религии советников и заместителей. Прежде всего — это, с одной стороны, был фламин Юпитера, который, как говорится в летописях, был как бы «священным двойником» для него, и поэтому составлял (вместе со своей женой, фламинией, которая была двойником для царицы) «царственную пару». С другой стороны, был понтифик, который — кроме обязанностей, связанных с армией, — был экспертом в сфере священного. По правде говоря, остаются некоторые затруднения для данной интерпретации в объяснении его отношений с весталками. Вслед за Людвигом Дойбнером, многие усматривали в «чете» (верховный) понтифик — старшая весталка отображение царской четы (например, Виссова); другие ученые, позднее, полагали, что весталки были как бы официальными субститутами дочерей царя, занимавшихся домашним очагом, когда их родители уходили работать в поля. Подобные построения приводят к совершенно неправдоподобным утверждениям в отношении понтификов и Весталок: например, странная супружеская чета, в которой жена обязана сохранять девственность! То же самое относится и к фламину Юпитера: если понятно, почему в значительной части религиозной сферы он заменял слишком занятого светскими делами царя, то совершенно непонятно, по какой причине отстранили царицу, передав ее функции фламинии: ведь царица никак не участвовала в общественной жизни. Наконец, фламин Юпитера — всего лишь первейший из фламинов старших, а если два других фламина также дублируют царя, то остается неясным, для чего нужна такая многочисленность? Но прежде всего (как об этом было уже сказано в «Предварительных замечаниях») рассмотрение индоевропейских народов, у которых можно заметить — под тем же традиционным наименованием — эквивалент латинского rex, не позволяет остаться при таком понимании сути дела. Каким бы ни было в далеком доисторическом прошлом происхождение индоевропейского * rēg-, — оккупировавшим Лаций захватчикам не было необходимости его создавать: они принесли эту функцию с собой, уже в весьма дифференцированном виде и с целым рядом обязанностей, представлений, привилегий и обрядов, которые несводимы к одной только приватной сфере. Вспомним хотя бы о проведенном сопоставлении царского жертвоприношения коня в Риме и в Индии, между которыми выявлено столько сходных черт и в побудительных причинах, и в символике, что невозможно считать их никак не связанными друг с другом. Ведический rā́jan, ирландский rí — сосуществуют с многочисленной и могущественной корпорацией священнослужителей, из которой выделяют для них особого жреца, их личного пурохита или друида, который не дублирует их, но оказывает им и обществу такие услуги, делает для них то, что они сами, по своей природе, не могли бы делать. Хотя в легендах есть упоминания о rā́jan, которые были одновременно и брахманами, а также о rí, которые выполняли функции друидов, все же такое совмещение — явление редкое, второстепенное, ни в коей мере не являющееся следом чего-то, существовавшего в древние времена. В летописях сохранилось воспоминание о царях-авгурах в Риме, однако авгуры были особым сословием священнослужителей, и невозможно себе представить, чтобы когда-либо какой-нибудь царь мог быть вовлечен во все те ограничения, которые налагал статус flamen Dialis, quotidie feriatus[691]. Конечно, древние латиняне различали и разграничивали функции царя и функции жреца. Интересно, в какой мере эти последние были продолжением индоевропейских традиций? Уже в начале данной книги была отмечена одна особенность римской религии, которая характеризует как временные и локальные рамки культа, так и действующих лиц. Это тенденция к постоянному дроблению функций и к окончательной специализации. В ведической религии, а также в древнейшем Иране (по-видимому, так же, как наверняка и у кельтов) священнослужители были равны между собой, взаимозаменяемы и могли совершать любые обряды. В Риме же, напротив, даже в самые древние времена компетенция каждого священнослужителя, каждой коллегии, каждого содружества была четко охарактеризована и ограничена. Совмещения были весьма редки и определялись рядом правил; взаимозамены были исключением. И наоборот: даже если в некоторых обрядах требуется присутствие нескольких жрецов, то и в этом случае церемонию проводит только один священнослужитель, либо одна коллегия, либо одно содружество. В Индии же, напротив, всякое жертвоприношение требует объединения нескольких жрецов, выполняющих весьма различные функции, сочетающиеся друг с другом. В общем, дифференциация у ведический индийцев касается не людей, а функций, которые каждый должен исполнять, и безразлично, кто именно будет это делать: любой священник может быть привлечен к исполнению каких-либо функций в совершаемом обряде; тогда как для римлян важны люди, и каждый из них является исполнителем особого ритуала, независимым от других жрецов, с которыми он никак не связан. Иначе говоря, в Индии дифференциация людей — временная, связанная с формированием групп жрецов для совершения какой-либо церемонии, тогда как в Риме дифференциация носит постоянный характер и не связана с созданием «групп». Кроме этого различия, есть еще и другие, и все вместе эти особенности придают римскому культу форму, во многом противоположную ведической форме. Но даже при наличии противоположностей все же заметны аналогии, может быть, более фундаментальные. Когда мы рассматривали огонь, зажигаемый во время культовых церемоний, мы уже охарактеризовали эту ситуацию. Будучи связанными с кочующими сообществами пастухов, ведические обряды не предусматривают постоянного места для жертвоприношений. Для каждого обряда указывается некое место, вне места поселения людей, временное, но всегда имеющее определенные черты, однотипное. В таком месте подготавливается круглый участок для огня, который определяет место совершающего жертвоприношение на земле, и квадратный участок огня, который должен передать богам дары. Став уже давно оседлыми, римляне имеют не одну ara, очаг для жертвоприношений, а большое их число: они находятся внутри городских стен и предназначены в каждом случае для одного определенного бога, причем все они связаны с квадратным участком, который предварительно был торжественно открыт. В отличие от этого, в городе, отделенном от всех жертвенников, имеется только один храм — Весты, только один круглый участок для огня, который утверждает Рим на его земле. Противоположность, которая на первый взгляд кажется радикальной, смягчается, если рассматривать — а римляне сами к этому призывают — весь город в целом, в рамках его померия, как огромное единое и постоянное место для жертвоприношений, внутри которого четырехугольные святилища и круглый храм, соответственно, мистически сочетаются друг с другом подобно тому, как два больших жертвенных огня сочетаются у ведических ариев на небольшом временном участке. В отношении священнослужителей (по крайней мере, великих древних священников) существует аналогичное противопоставление: жизнь Рима можно рассматривать как огромную непрерывную литургию, единую в своем распределении в течение года, в которой каждый жрец или коллегия играет свою особую роль — точно так же, как на ведическом жертвенном участке каждую отдельную церемонию проводят священнослужители из группы, предназначенной именно для данного обряда. Если рассматривать факты с таких позиций, то получаются две картины, которые интересно сравнить. Следует, однако подчеркнуть весьма существенные различия между ними, связанные с развитием социальной структуры, которое в каждом из этих случаев шло особым путем: в то время как в Индии жрецы образуют отдельную касту, в Риме нет отдельного класса священнослужителей. Более того: за исключением священного царя и фламина Юпитера, в Риме не существует несовместимости между функциями жреца и функциями магистрата. Нам известны случаи, когда консулы одновременно исполняли должности фламинов Марса или функции авгуров, и мы знаем, что некоторые честолюбцы, стремившиеся к большой личной власти, захватывали функции авгуров или осмеливались отнять в свою пользу функции великого понтифика, а также захватывали функции трибуна. С этими оговорками можно констатировать значительный параллелизм двух организационных структур. Большую роль в ведической «группе» играли, с одной стороны, брахман, адхварью, удгатар, а с другой стороны — хотар. Первый — практически один и без помощников — самый важный персонаж: одним своим присутствием он обеспечивает связь между видимым и невидимым, поскольку он сам, как указывает его имя, является человеческим воплощением нейтрального брахмана, осмысление которого до сих пор вызывает споры, но который в любом случае обозначает нечто весьма существенное в формулировке священного, т. е. того, что связано с отношениями земного мира с потусторонним миром. Тогда как остальные священнослужители имеют дело с внешней стороной священного, брахман погружен в него, идентифицируется с ним. Следовательно, он одновременно является как совершителем, так и служителем жертвоприношения. Пока ритуал идет нормально, он ограничивается пассивным, хотя и необходимым присутствием, оставаясь молчаливым и неподвижным рядом с тем, ради кого совершается жертвоприношение. Но если происходит ошибка, то только он — благодаря своему статусу и своей глубинной связи с сущностью ритуала — может ее исправить. Поэтому именно он получает большую часть оплаты жертвоприношения, а именно — половину. Его обычная Веда в канонической классификации — это магическая Атхарваведа. Что касается адхварью и его служек, то это самые деятельные священнослужители. Они занимаются материальными процедурами и манипуляциями, одновременно произнося вполголоса связанные с жертвоприношением слова, яджус, объемистый корпус которых, Яджурведа, сборник всех формулировок ритуалов, и есть собственно Веда, свойственная таким жрецам. Наименование адхварью — слово, производное от глагола adhvary-, adhvarīy-, «совершать жертвоприношение», — само извлечено из древнего образного названия «литургии», adhvará, которое ее характеризует как мистический «путь». Действительно, adhvará, с архаическим чередованием r/n неотделимо от ведического ádhvan-, авест. aδvan-«путь», с которым, возможно, связано весьма отдаленное в пространстве древнее скандинавское название лыжи öndurr. Из двух других типов священнослужителей один, удгатар, вместе со своими заместителями составляет хор певчих. Их книга — это Самаведа; а другой — хотар, единственный, кто имеет индоиранское название (ср. авест. заотар) — торжественно произносит более или менее длинные ряды строф Ригведы. В самих гимнах Ригведы слово хотар употребляется в первую очередь, когда речь идет о боге-огне, Агни, который является хотаром для богов. Рим не имеет эквивалента для двух последних типов жрецов, потому что у него нет и эквивалента для ученого лиризма ведических гимнов, как и для их сопроводительных мелодий. Конечно, в некоторых частных случаях в Риме прибегают к пению, но достаточно оценить эстетическую сторону известных carmina — салийской, арвальской — чтобы понять, сколь велико здесь различие. Напротив, две крупных составляющих коллегии понтификов, стоящих ниже царя, могут быть в какой-то мере прояснены, исходя из ведических фактов, в частности, в связи с различиями между брахманом[692] и адхварью. Фламины не образуют коллегии. Каждый из них автономен, одинок и связан с определенным божеством, от которого он берет себе имя. Фламины не являются жрецами, преимущественно занятыми жертвоприношениями, как это нередко утверждают. Все священнослужители совершают жертвоприношения, и даже фламин Юпитера — не единственный, кто совершает жертвоприношения Юпитеру. Что является внешней характеристикой фламинов — это изоляция, напоминающая одиночество каждого брахмана, входящего в группу, совершающую жертвоприношения. Высокое положение трех старших фламинов, стоящих ниже одного только царя, также напоминает почетное положение брахмана, и, по-видимому, причина одна и та же. Мы хорошо осведомлены только в отношении фламина Юпитера, но с ним все ясно, а то немногое, что мы знаем о фламинах Марса и Квирина, аналогично этому. Отношение фламина Юпитера к его функциям — всепоглощающе и глубоко лично, насколько это возможно. Он ежедневно празднующий, постоянный жрец, и даже ночью он не снимает некоторые из своих знаков отличия. Он также не должен покидать Рим больше, чем на одну ночь, и это первоначально входило также в правила, регламентировавшие поведение фламинов Марса и Квирина. Как говорит Плутарх (Q. R. III) ώσπερ έμψυχον καί ιερόν άγαλμα, — он подобен живой и святой статуе, — ограничен сетью неизменных жестких правил личного поведения. Это значит, что он интересует Рим не только в отношении совершаемых культовых обрядов, но и тем, что он представляет как личность. Жрец бога, важнейшего по своей функции, он служит этому богу, но в то же время является воплощением этой функции, ее сущности. И дело не в его опыте как ученого мудреца и не в мастерстве исполнителя церемоний жертвоприношений: главное здесь в том, что он владеет тайнами мистических сил, и поэтому важна его личность. Он ценен своим телом в той же мере, как и своими речами и жестами: благодаря ему — в древней структуре, олицетворяемой триадой Юпитер-Марс— Квирин — Рим оказывает влияние на саму высшую треть невидимого мира: он представляет собой чувственное, человеческое окончание пучка мистических соответствий, второй конец которых заключается в верховной власти и находится в небесах Юпитера; точно так же фламины Марса и Квирина являются человеческой стороной соответствий, ведущих к воинской силе Марса и творческой активности многих богов, связываемых с Квирином на уровне «третьей функции». Благодаря этому маленькому человеческому окончанию Рим постоянно сохраняет — как в рамках культа, так и за его пределами — связь с другим концом, с главным членом каждой корреляции. Многие из тех правил — положительных и отрицательных, — которые навязаны фламину Юпитера, имеют (как уже было сказано выше) только одну цель: постоянно символически выражать и, следовательно, поддерживать и сохранять в целости и сохранности одну важную отличительную черту функции Юпитера как верховного властителя или передавать близость, чувствительность самого фламина Юпитера по отношению к области космоса, мистически связанной с этой функцией, — к небу. Возможно, два других старших фламина, каждый в своей сфере, первоначально были живыми носителями символизма такого же типа. Такая полная и глубоко личная форма связи фламина с его функцией имеет свои последствия: он вне истории. Ежедневно, ежемесячно, ежегодно он совершает религиозные обряды и соблюдает точно установленные неизменные обязанности, но он не имеет власти, необходимой для того, чтобы актуализировать, истолковать какие-либо новые нужды и отреагировать на них. Фламин Юпитера — человек, имеющий столь близкие связи с небом, — не передает волю небес: это дело авгуров. А фламин, как подсказывает нейтральность его наименования, лишь в общем, традиционно и почти пассивно поддерживает связь с третью[693] мира. Это описание противопоставляет фламина как понтифику, так и царю. Коллегия понтификов (а точнее — верховный понтифик, поскольку все остальные всего лишь его представители) действует активно, будучи неотъемлемой частью реальной жизни. И главная задача здесь — быть хранителем священной науки: вести календарь, предлагать формулировки воззваний и молитв, подходящих для любых обстоятельств (обет, освящение, гимн), определять устав для различных храмов (законы храмов)[694], искупления, вводя дополнения и поправки в соответствии с потребностями, возникающими в связи с условиями текущего момента, постоянно обогащать священную юриспруденцию декретами, которые верховный понтифик издавал вместе со своими коллегами. Он присутствует[695] на калатных комициях[696], на которых совершаются религиозные действа (посвящение в должность священного царя, а также старших фламинов; завещание; изменение рода при торжественном отречении…). Главный понтифик принимает решения при непредвиденных обстоятельствах, в частности, берет на себя совершение культовых обрядов в тех случаях, когда нет соответствующего священнослужителя. Он вообще властвует над древними культами и контролирует приватные культы, а также следит за соблюдением законов богов Манов. В эпоху Республики он «берет», т. е. назначает старших фламинов и весталок, над которыми имеет дисциплинарную власть и которым дает советы в случае необходимости. Иногда он даже выступает в роли их представителя. Многие из этих обязанностей, которые постепенно развивались, восходят, по-видимому, к царскому наследию, после установления Республики. Однако понтифик не получил бы их, если бы они не соответствовали его природе. Само его название, что бы оно ни означало, подчеркивает его долг действовать. Ведь это слово было создано в самом латинском языке, и pontifex указывает на того, кто «строит мост». Но несмотря на некоторые церемонии, которые проводились у моста на сваях, такое осмысление плохо согласуется с размахом деятельности понтификов. Высказывалось предположение (Bonfante), что это — пережиток, сохранившийся с тех времен, когда предки римлян еще жили в свайных постройках, но разве даже в таком случае был столь важен мост? Поэтому весьма охотно допускают (еще недавно, например, Байе и Латте), что в этом составном слове pons сохранил свое древнее индоевропейское значение — «путь, дорога». Но о каком пути здесь могла быть речь? О «пути», благоговейно открытом для походов царя (как считал Латте)? Другие древние жрецы — фециалы — выполняли именно эту функцию. Но, может быть, это скорее латинская форма, распространенная на всю религиозную жизнь государства, и от образного представления о жреце — как об активном «движителе» ведического общества — идет фигуральное наименование литургии как некоего «пути» или «хождения»[697]. То, что главным наследником царя был понтифик, представляется вполне естественным, если вдуматься в различие между царем и фламином, в частности, в отличие от фламина Юпитера. Здесь различие другое, но смысл по существу тот же, что в различии между фламином и понтификом. И царь тоже активен, и — согласно своей природе — живет в реальной действительности, которой он должен противостоять. Свои три функции он исполняет иначе, чем это делают тристарших фламина. Как мы видели, эти последние одиноки, и известно лишь одно обстоятельство, в котором они участвуют совместно: это их ежегодный проезд по городу в одном закрытом экипаже и жертвоприношение, которое они совершают все вместе в честь Фидеи. Но торжественность этого действа в достаточной мере свидетельствует о его исключительности. Объединение старших фламинов в единственном случае — в культе Бона Фидес — обретает особую значимость именно потому, что обычно они независимы по своей природе и всегда существуют отдельно друг от друга. У них нет общей часовни. Не существует никакого дома фламинов. Каждый из них — живой инструмент, служащий для поддержания мистических связей между Римом и третьей частью сил, определяющих его идеологию. Кто же объединяет эти раздельные силы в единое целое? Rex, согласно своему статусу. Законы, на которых базируется его господствующее положение, — это его обязанность быть верховным властителем, его долг формулировать юридические нормы и его функция поклонения богам. Но он должен еще быть и воителем, а также кормильцем и покровителем народных масс. И отнюдь не случайно мифы — в другом плане и в различных формах — совершенно ясно и отчетливо сконцентрировали все эти задачи на Ромуле. Прежде чем представить его единственным, самодостаточным, чрезмерно властным, легенда в определенной последовательности объединяет его в пару с тремя компаньонами: с братом-полубогом и, как и он, — до того, как дело решили ауспиции, — являвшимся носителем религиозных надежд при основании города; затем с этруском Лукумо, мастером военного искусства; и, наконец, с тем, кто был прежде всего богачом, — сабинянином Титом Татием. В мифах Ромул поочередно предстает сначала как пастух, затем как воин, затем как законодатель. Более того, легенда дает ему личные связи с богами триады: будучи сыном Марса, он вершит дела под знаком и под покровительством Юпитера, и только в честь него он создает культы; наконец, после смерти он «становится» Квирином. Эта логическая необходимость, однако, еще до возникновения всех этих легенд, заметно проявлялась уже в религиозном использовании и материальном расположении Регии, этого «дома царя», который впоследствии получили в свое распоряжение понтифики и который, по-видимому, воспроизводил на форуме то, чем он был уже на Палатине, и даже ранее, поскольку здесь ясно отражалась древняя идеология царя. Здесь сходились, существовали наравне (как мы уже видели) три типа культов: 1. Жертвоприношения, которые совершали царь, царица, фламиния Юпитера, и которые предназначались то Юпитеру, то Юноне, то Янусу, в качестве регуляторов времени (календы; январь); 2. Военные ритуалы Марса, проводившиеся в специальном святилище; 3. В другом святилище совершались обряды, посвященные Опе Консивии — богине сельскохозяйственного изобилия, входившей в окружение Квирина. Таким образом, дом царя служил местом встречи, а царь был тем, кто осуществлял синтез трех основных функций, которые старшие фламины, наоборот, разъединяли, руководя ими аналитически, по отдельности. Однако, согласно другому обычаю, один из трех старших фламинов, а именно — первый, который служил небесному царю Юпитеру, — составлял вместе с царем особую двойственную структуру, которую мы уже рассматривали выше[698]. Такова древнейшая картина, которую можно себе представить — как благодаря анализу исторического состояния общества (республиканского) и разнообразного жречества, так и по аналогии с ведическими типами богослужения. Из всего этого вытекает, что старшие фламины и понтифик появились не в царский период истории Рима: по-видимому, строгие правила, связывавшие фламинов, и свобода, которой пользовался понтифик, объясняются не определенным ходом развития, но соответствуют различным определениям и функциям, относящимся ко временам, предшествовавшим созданию Рима, что можно заметить в именах. Наконец, было вполне естественно, чтобы большая часть религиозного наследия царской функции перешла к понтифику. Третий тип жречества представляет собой как бы дополнение к коллегии понтификов[699]. По-видимому, дело в том, что он тоже был тесно связан с царем: это коллегиум дев-весталок, которым руководила uirgo maxima (великая дева). Это оригинальное явление, которому этнография нашла лишь немного параллелей. Особая связь с царем вытекает из самого' места, где находился «дом» весталок: они жили в атриуме храма Весты, иногда называемом «царским». Это следует и из ритуала, в соответствии с которым они один раз в году подходили к царю и говорили ему: «Бодрствуешь, царь? Бодрствуй!» (Serv. Aen. 10, 228), — а также из привилегии весталок, общей с царем и со старшими фламинами, — отправляться к общественным жертвоприношениям в экипаже, повозке (Lex Julia Municipalis[700], CIL. I 206, с. 121, 1. 62–65). Древние связи весталок с властью засвидетельствованы, наконец, шествующим перед ними ликтором (Plut., Num. 10, 5). В те времена, когда господствовал царь, весталки, по-видимому, каким-то мистическим образом способствовали его охране. Это напоминает традицию галлов, хотя и совершенно другую по форме, но имевшую тот же смысл. Согласно этому обычаю, легендарный царь Math в мирное время мог жить, только если держал ноги у бедер девственницы. Во времена Республики, естественно, служение царю было затушевано[701], и девы (главным образом весталки) в первую очередь охраняли римский народ, поддерживая огонь в очаге храма Весты день и ночь, держа его символически в отдалении от убивающей его воды. Некогда, в древности, они ходили далеко за пределы Рима за водой, необходимой для содержания храма. Дать очагу погаснуть было большим грехом, который влек за собой телесные наказания и обязывал жриц зажигать новый огонь. С другой стороны, весталки изготовляли различные «священные снадобья» для всех членов римского общества: соленый раствор и жертвенная мука с солью — для жертвоприношений, курительное благовоние — для Парилий. Весталок в совсем юном возрасте — от шести до десяти лет[702] — избирал понтифик, и они должны были оставаться жрицами в течение тридцати лет[703]. Главным условием для их служения были не только целомудрие и нравственная чистота, но девственность, которая была в их имени (или, вернее, это они дали наименование девственности). Как это бывает во многих обществах, называемых примитивными, девственность, наделяемая мистическими силами, особой магией, считалась у весталок особым состоянием — чем-то средним между женственностью и мужественностью, причем не в мифологическом плане, как в других обществах, а (как этого можно было ожидать в Риме) юридически: они освобождены от опеки (Gaius 1, 145; Plut. Num. 10, 4), они свидетельствуют в суде, они полновластно пользуются своим имуществом по завещанию (Gell. 1, 12, 9; 7, 2 в связи с легендарной Тарратией); но зато утрата девственности является для них непростительным преступлением, за которое — по крайней мере, в кризисное время — их запирают живыми в подземной камере, на Злодейском поле, а их партнера подвергают жестоким пыткам. Как все эти различные служения — фламины, весталки, понтифики — объединялись в понтификальной сфере? Это бесполезный вопрос. Дело в том, что воле и честолюбию понтификов незачем было вмешиваться, поскольку тесная связь этих жречеств, сосредоточенных вокруг царя, была естественной для всех трех служений. Что касается того, каким образом великий понтифик сменил царя в основных его функциях, — в начале нашей книги была предложена соответствующая концепция, поэтому здесь будет достаточно нескольких кратких дополнительных указаний. В ходе истории увеличилось число понтификов и весталок, но это не коснулось пятнадцати фламинов: старших и младших. Увеличение числа обязанностей, которые требовались от понтификов, в достаточной мере объясняет тот факт, что их стало уже не трое, а девять (lex Ogulnia, 300), затем — пятнадцать (lex Cornelia, 82) и, наконец, шестнадцать (lex Julia, 46). Такой причины для весталок не было, и непонятно, почему их число возросло с четырех до шести. Может быть, их начальное число было выдумано летописцами, а может быть, они просто были охвачены общим процессом, в ходе которого — как в магистратуре, так и в священнослужении — увеличивался наличный состав. Процесс численного возрастания шел среди подчиненных коллегии понтификов, что облегчало службу жрецов. Так произошло с корпорацией служителей понтификов и фламинов, члены которой получили звание младших понтификов и стали присутствовать на некоторых совещаниях коллегии и при некоторых ее действиях. Если девы-весталки и фламин Юпитера — как, по-видимому, и остальные «старшие» — выбирались, а другие жрецы назначались (в частности, царь) великим понтификом, то основной корпус понтификов, как и большинство священников в коллегиях и союзах, набирались путем кооптации. Первоначально, когда должности великого понтифика и великой весталки освобождалась, то на вакантное место выбирались самые старшие по возрасту понтифик и весталка. Они исполняли свои обязанности пожизненно. Позднее были введены ограничения этой свободы. Например, в отношении весталок — согласно закону Папия (Gell. 1, 12, 11) — великий понтифик должен был предложить двадцать имен, затем бросали жребий, и так отбиралась девушка, которую должно было принять в число весталок. Что касается царя и главных фламинов, то свобода выбора понтифика ограничивалась возможностью выделить одного из трех кандидатов: как для царя (Liv. 40, 42, 11), так и для фламина Юпитера (Tac. Ann. 4, 16). Самого великого понтифика с конца III в. (обычай засвидетельствован с 212 г., Liv. 25, 5, 2) выбирали среди понтификов путем жеребьевки. Наконец, в 103 г. народный трибун Гней Домиций Агенобарб передал народному собранию право избрания всех членов великих коллегий, понтификов, авгуров, децемвиров, эпулонов: одна «часть народа», отобранная таким образом путем жеребьевки, должна была для каждой вакансии выбирать из списка кандидатов, представленного соответствующей коллегий, а коллегия затем должна была кооптировать народного избранника (comitia sacerdotum). Эта демократизация продолжает ту, которая привела к открытию доступа плебеям к занятию поста священнослужителя, до того доступного только патрициям. Это произошло в конце IV века. Об авгурах, децемвирах для проведения жертвоприношения — пойдет речь в связи с разнообразными «знаками», на которых они специализировались. Что касается триумвиров эпулонов[704], число которых тоже с трех дошло до семи, затем до десяти, то они относятся к 196 г. (Liv. 33, 42, 1). Созданные для того, чтобы снять часть обязанностей со старых понтификов, и допущенные к тому, чтобы, как они, носить белую тогу с пурпурной каймой, они получили поручение — следить за пиршественным жертвоприношением на Римских Играх и на Плебейских Играх. По-видимому, богу этих игр — Юпитеру O. M. — они обязаны тем, что, несмотря на ограничения их деятельности, они все же были включены в число «великих коллегий». Братство двадцати фециалов, иногда называемое коллегией, восходит к древнейшим временам. В нем соблюдалось и сохранялось фециальное право (ius fetiale), т. е. те церемонии, которые обеспечивали Риму покровительство богов в отношениях с другими народами. Из того ритуала, который описан у Тита Ливия, видно, что эта институция была общей у Рима с его соседями латинянами: обе группы фециалов — из Рима и из города-партнера — определенным образом согласуют свои действия. Древнее существительное *feti-, от которого происходит их наименование, не означало «условие», «уточнение», поскольку заключение договора не является их единственной задачей, а объявление войны, например, не включает условий и тезисов. Подобно ведическому dhatu, слово *feti- означает «основание». Для управления внутренними делами изначальный договор, заключенный с богами и продолженный через sacra и signa (культы и знаки), послужил достаточным основанием для действий Рима: и понтифики, и авгуры, и другие священнослужители стоят на твердой почве. Напротив, как только действия Рима выходят за пределы его земли, они нуждаются в «обосновании» с позиций религии. Необходимо обеспечить себе не только право, но и то, что за ним кроется, т. е. высший закон. Этим занимаются фециалы с помощью *feti-. Выбор между миром и его нарушением, разнообразное содержание договоров, руководство войной — все это находится в ведении магистратов, зависит от их решений, однако всегда одинаковые церемонии, которые придают этим решениям мистическое значение и при любых обстоятельствах привлекают богов на сторону Рима, — это дело фециалов. Как понтифики, которые ведают божественным правом в Риме, так фециалы, все вместе, должны — в качестве важнейшей обязанности — давать советы Сенату и консулам в сфере международного права, если возникнет такая необходимость: например, если какой-то народ потребует от Рима, который окажется ответчиком в данном случае, выплаты репараций[705]. Для других дел, когда требуются действия, коллегия выделяет двух своих членов, один из которых, называемый пока неясными для нас словами pater patratus, является единственным активно действующим лицом, а второй, называемый вербенарием, сопровождает его с припасами священных трав, sagmina, собранных на Капитолии, которые делают их правомочными представителями. Нам известны церемонии и их формулировки для двух важных случаев: заключение договора; требование репараций и объявление войны. В первом случае роль pater patratus, ведущего переговоры с иностранным коллегой, заключается в том, чтобы призвать в свидетели присутствующих при этом людей, а также богов, дать перед ними слово от имени Рима и призвать гнев богов на Рим, если он свое слово не сдержит. Это exsecratio сопровождается сценой, описание которой существует в нескольких вариантах: либо pater patratus ударяет свинью кремнем, принесенным из храма Юпитера Феретрия, и говорит: «А если отступится первым по общему решению и со злым умыслом, тогда ты, Юпитер, порази народ римский так, как в сей день здесь я поражаю этого кабанчика, и настолько сильнее порази, насколько больше твоя мощь и могу-щество»[706] (Liv. 1, 24, 8); либо же он бросает камень, говоря, что если он не сдержит свою клятву, то согласен упасть — как этот камень (Pol. 3, 25, 6–9). Если Рим подвергается оскорблению и требует восстановления справедливости, тогда его фециалы пускаются в путь: сначала по территории Рима, вблизи границ, затем по самой границе. При этом pater patratus призывает в свидетели Юпитера, границу и высший закон, заявляет, что его дело — правое, затем объясняет, на что жалуется Рим. Далее он вместе со своим компаньоном заходит на территорию виртуально враждебную и идет, повторяя свою речь трижды: первому встретившемуся ему прохожему, затем у ворот города и, наконец, на форуме, перед магистратами. Если он добивается удовлетворения, его иностранный коллега выполняет то, что от него требуется, возмещая несправедливость. В противном случае, pater patratus возвращается в Рим, призвав в свидетели Юпитера, Юнону (согласно всем рукописям), Квирина, богов небесных, земных и подземных — в том, что произошло нарушение закона, и объявив о том, что через тридцать дней начнется война. По истечении этого срока он возвращается на границу и открывает законную и священную войну магическим жестом: торжественно повторив трижды заявление о том, что Рим прав, он бросает на землю копье, снаряженное железом, или ветку кизила с обожженным концом (Liv. 1, 32, 5—14; Dion. 2, 72, 6–8). Когда дипломатический и военный горизонт отдалился от земли, действенность роли фециалов утратилась[707]. Они еще долго участвовали в заключении договоров, но там уже не было такой фигуры, как pater patratus, а выбрать мир или войну Сенату Карфагена предложили послы римского народа. Древний ритуал с копьем остался, но в стилизованном виде: участок земли вблизи храма Беллоны в фиктивной юридической форме объявлялся вражеской территорией; было неважно, кто этот враг, и против него, не покидая Рима, pater patratus каждый раз совершал первый акт насилия. Поводы для действий других священнических коллегий ограничены. Они сводятся к нескольким дням, или даже к одному дню в году. Основные сведения были приведены выше, когда речь шла о салиях-«танцорах» Марса и Квирина, которые включаются в действия неоднократно в марте и октябре: в те периоды, когда происходит переход от мира к войне и от войны к миру. В каждую из этих двух групп входят двенадцать членов. Каждая группа имеет своего руководителя, располагает собственным помещением, имеет свои архивы, но все они находятся под защитой Юпитера, Марса и Квирина. Они вооружены — как весьма древние солдаты. В их танцах все жесты утрированы, а ритм — трехтактный, и они воспроизводят (redamptruare) фигуры, которые исполняет (amptruare) ведущий танцор (praesul). Они в то же самое время подражают начальнику хора (uates) и поют carmen — песнопение, которое стало уже почти непонятным в конце периода Республики, — в честь отдельных богов (в честь Януса, Юпитера, Юноны, Минервы и т. д.) или в честь всех богов вместе (axamenta)[708]. Песнопение заканчивалось призывом, обращенным к Мамурию Ветурию, причем нет оснований для того, чтобы отнять его у легендарного кузнеца, изготовившего священные щиты, поскольку в некоторых ведических гимнах и ритуалах к богам-мастерам — Риб-ху — обращались с призывами и службой в последнюю очередь, а миф объясняет, что они были допущены к благам жертвоприношения в награду за то, что изготовили чудесные предметы. Каждый день, посвященный танцам, заканчивался пиром, пышность которого вошла в пословицы. Луперки отвечали за дикое празднество — Луперкалии, которое было кратко описано выше. Они также состояли из двух групп (но их называли gens — родами), Fabiani и Quinctiales, т. е. «те, кто с Фабием», и «те, кто с Квинтием». Тексты Тита Ливия (5, 46, 2; 52, 3), на которые часто ссылаются, ни в коей мере не доказывают, что Fabiani были «братством с Квиринала», противостоявшим и присоединенным к «братству с Палатина»[709]. Это делает весьма маловероятной возможность того, чтобы ритуалы первоначально были связаны только с Палатином, где находится также место, называемое Луперкал. В конце эпохи Республики и праздник, и жречество потеряли престиж (и даже, кажется, стали причиной скандалов, поскольку одним из запретов, которые провозгласил Август, чтобы вернуть им хоть какое-то достоинство, заключался в запрещении юным отрокам выставлять себя напоказ на этом празднестве). Двенадцать арвальских братьев были обязаны защищать от всех опасностей arua — обработанные поля. Первоначально они делали это так же, как и крестьянин Катона в своем маленьком владении, который обходил землю вокруг его границ, а за ним следом шли своветаврилии; и на празднике Амбарвалий — так же, как в описанном Катоном ритуале — Марса почитали не как «сельское божество», а в его обычной роли: как бога-воителя, только при этом его битва или угроза ставились на службу полей. Еще до конца эпохи Республики этот ритуал был заменен жертвоприношениями в различных местах древней границы земли, а само содружество исчезло, предоставив совершение обрядов понтификам. Но Август его восстановил, и сохранившиеся, к счастью, длинные отрывки текстов Acta новых арвалов нам хорошо известны. Но, к сожалению, это не древние ритуалы. Другое содружество, которое Август, по-ви-димому, тоже вывел из неизвестности, sodales Titii, не имело такой счастливой судьбы. Мы даже не представляем себе, в чем заключалась в эпоху Республики деятельность этого содружества. Однако некоторые признаки позволяют отнести его к «третьей функции». Таким образом, мы, в общем, закончили обзор жречеств в Риме царской эпохи и в Риме эпохи Республики. Несмотря на некоторые изменения, которые имели место главным образом в способе привлечения людей к этому делу, все же подтверждается решительный консерватизм в сфере религии. Несколько фламинов, некоторые содружества — практически исчезли в течение последнего века, однако те, которые сохранились, даже самая динамичная и наиболее подверженная инновациям группа — понтифики в узком смысле — продолжали в основном делать то же самое, что они делали во все времена[710].
Глава III ЗНАКИ И ЧУДЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Все религии признают знаки (чудесные или естественные), которые невидимые силы посылают человеку: то ли для того, чтобы проявить свое отношение к нему, то ли — чтобы прояснить его поведение, направить его шаги, решить его проблемы. Но немногие народы продвинулись так далеко в изучении знаков, как римляне: прорицания (auguria) уравновешивают жертвоприношения (sacra), но это далеко не единственные средства выражения, используемые богами. Столь же древняя и столь же важная, как коллегия понтификов, существует рядом с ней, но независимо от нее, коллегия авгуров. И, тем не менее, с конца эпохи царей, римляне начали обращаться к другим толкователям, и они не перестали делать это. В «Предварительных замечаниях» и в основной части этой книги мы не раз встречали авгуров. Прочтение надписи на Черном Камне показало большую устойчивость их науки. Они появляются, — и это либо уже авгуры, действующие для царя, либо это еще царь-авгур, — со своим служителем, защищенные странным правилом (которое надолго сохранится), занятые служением, идущие по пути, который останется неизменным и при современниках Цицерона, стремящиеся достичь результата, характеризуемого древними прилагательными, которые останутся техническими терминами. Другие признаки наводят на такие же выводы: общественные авгуры, — говорит Варрон (L. L. 5, 33), — различают пять видов земель: ager Romanus, ager Gabinus, ager peregrinus, ager hosticus, и ager incertus [711]. Выделение на одной территории Габия, который сначала был peregrinus, — говорится в комментарии, — было «отделением» (discretus), потому что этот город имел одиночные ауспиции, — и это отсылает к весьма древнему моменту даже не истории, а протоистории Лация. Эта необычайная устойчивость, к сожалению, дополняется следствиями другой особенности ius augurale[712] — тайной, которая его всегда скрывала. Конечно, знатоки старины знали и описали несколько фрагментов, но то, что мы там можем прочесть, не позволяет составить представление об основной части учений и обрядов. Некоторые из церемоний, которые было бы очень важно узнать, остаются загадкой. Даже то, что дало повод для надписи на Черном Камне, не идентифицировано: Виссова говорит, что, возможно, это и есть неясное гадание о благополучии государства; другие авторы считают, что здесь речь идет о периодическом reaguratio всех храмов, о котором — предположительно — идет речь в единственном тексте. Что такое гадание с жертвоприношением собаки, а также uernisera auguria — упомянутые в комментариях, которые дает Фест (c. 386 L2) или автор его сокращенного изложения (с. 467 L2)? Во втором случае — в последнем комментарии этого ценного списка — всего лишь наименование. О первом мы знаем только, что речь идет о жертвоприношении рыжих собак, совершаемом в определенный день, назначаемый понтификами до того, как зерна пшеницы пробивают свою оболочку, но не раньше, чем они сформируются (Plin. N. H. 18, 14). Неясность терминологии создает путаницу. Чем гадание (auspicium) отличается по существу от прорицания (augurium)? Выдвигались замысловатые теории, которые по-разному объясняли это различие, но они вынуждены делать столько оговорок и исключений, что ни одна не представляется достаточно убедительной. Не будем говорить об эволюционистских интерпретациях (согласно которым первоначально магическое прорицание уступило место гаданию: De Francisci); можно ли считать, что собственно ауспиции были делом магистратов, а прорицания — делом авгуров (Coli)? Лишь часть фактов укладывается в такое толкование. То же самое относится и к многочисленным определениям различий, которые предлагались древними авторами. Самые лучшие авторы, в том числе Цицерон, слишком часто используют оба слова как равнозначные, чтобы можно было полагать, что язык их различал абсолютно. Может быть, эта проблема, которую называют первостепенно важной, на самом деле — ложная, мнимая проблема? Этимология этих слов не предполагает их непременного объединения в пару: auspicium — «наблюдение (specere) за птицами (aues)» — прием, который входит также в умбрский ритуал Игувия (auif aseria-). Это значение относится только к способу действия и не касается ни его целей, ни его результатов; augurium — действие augurare, «определение, констатация присутствия *auges-» (а первоначально, и, может быть, еще в некоторых архаичных ритуалах и позднее — легкая еда *auges-), напротив, касается только намерений и результатов действия, а не используемых для него способов. Таким образом, с точки зрения этимологии, правильно будет сказать, что для выполнения своих функций, заключающихся в том, чтобы совершать прорицания, авгур наблюдает за полетом птиц (Варр. L. L. 6, 82). Понятно, что такие слова в течение веков могли составлять разнообразные уравновешивающие друг друга сочетания, не предполагавшие тесных связей между компонентами, но они никогда не оказывались в полном противостоянии друг другу. Большое количество сведений об искусстве авгуров и его использовании, которыми мы располагаем, относится к его отношениям с деятельностью магистратов, к его связи с политикой. В последние века Республики ничего другого и не будет: это относится, скорее, к истории институций, чем к истории религии. Что до остального, то, поскольку невозможно дать связную картину, мы здесь ограничимся несколькими вопросами, по поводу которых имеем более подробные сведения. Каким бы ни было происхождение искусства авгуров и его пережитки, главной его задачей было давать советы и истолкования. Авгуры никогда не занимались предсказаниями. Священнослужитель спрашивает Юпитера — будучи специалистом по знакам (а авгуры — лишь интерпретаторами; Cic. Leg. 2, 20), — дозволено ли высшим законом, чтобы тот или иной человек получил священные функции, или то или иное место стало бы местом культа, причем он задает свой вопрос в следующей форме: «Если позволено… пошли мне такой-то знак». Даже гадание о благополучии государства — изначально служебный ритуал — эволюционировало до этой простой формы, которая давала почти абсурдный результат: у бога не просили благополучия прямо, но, например, вопрошали: «Если позволено просить.». Способ, которым — с помощью своего авгур-ского посоха (lituus; изогнутой палки, которая служит ему инструментом) — авгур устанавливает связь с Юпитером, используя лексику своего разговора с ним, был описан Титом Ливием в связи с церемонией инаугурации легендарного Нумы, проведенной, по-видимому, подобно церемонии для священного царя Республики:«Когда названо было имя Нумы, сенаторы-римляне, хотя и считали, что преимущество будет за сабинянами, если царя призовут из их земли, все же не осмелились предпочесть этому мужу ни себя, ни кого-либо из своих, ни вообще кого бы то ни было из отцов или граждан, но единодушно решили передать царство Нуме Помпилию. Приглашенный в Рим, он, следуя примеру Ромула, который принял царскую власть, испытав птицегаданием волю богов касательно основания города, повелел и о себе вопросить богов. Тогда птицегадатель-авгур, чье занятие отныне сделалось почетной и пожизненной государственной должностью, привел Нуму в крепость и усадил на камень лицом к югу. Авгур, с покрытою головой, сел по левую его руку, держа в правой руке кривую палку без единого сучка, которую называют жезлом. Помолившись богам и взяв для наблюдения город с окрестностью, он разграничил участки от востока к западу; южная сторона, сказал он, пусть будет правой (dextrae partes), северная — левой (laeuae partes); напротив себя, далеко, насколько хватало глаз, он мысленно наметил знак. Затем, переложив жезл в левую руку, а правую возложив на голову Нумы, он помолился так: «Отец Юпитер, если боги велят, чтобы этот Нума Помпилий, чью голову я держу, был царем в Риме, яви надежные знамения в пределах, что я очертил». Тут он описал словесно те предзнаменованья, какие хотел получить. И они были ниспосланы, и Нума сошел с места уже царем»[713].Указывая направление на восток, слева от Нумы, историк использует лишь половину лексики, обозначающей небесные регионы. Их дополняет Варрон (L. L. 7, 7), указывая направление на юг (то, которое указал для Нумы Тит Ливий): pars sinistra — находится на востоке, dextra — на западе, antica — на юге, и postica — на севере. Сообщение о желательных знаках — это изречение законов (Serv. Aen. 3, 89). Неизвестно, насколько велики были возможности, предоставляемые авгурам для их определения в соответствии с их положением относительно четырех направлений. Тит Ливий, который усматривает в инаугурации Нумы прототип для всех инаугураций людей, анахронически заключает ее в авгуракул, который авгуры позднее получили на Капитолии. Было ли само это место templum? Это вполне возможно, поскольку, согласно теории, просьба о ниспослании знаков и наблюдение за ними (auspicia impetratiua) могли происходить только на отграниченном, «вырезанном», участке — templum (Варр. L. L. 7, 8). Этот участок — четырехугольный, с заметно очерченным контуром или нет, и с одним входом — должен был, благодаря надлежащим формулировкам, оказаться, некоторым образом, избавленным и освобожденным (effari, liberare) от всех враждебных или нечистых сил, которые могли там находиться (Cic. Leg. 2, 21; ср. Serv. II Aen. 4, 200)[714]. Обычно за ауспициями, устраиваемыми по особому приказу (auspicia imperatiua) следят магистраты, которые имеют право проводить ауспиции (spectio), а авгуры сохраняют за собой извещение о результатах наблюдения знамений (nuntiatio), т. е. возможность возвестить о появлении жертвенного знака, запрещающего продолжать действо. Наука интерпретации знаков была действительно чрезвычайно сложна, а нам известны лишь несколько крупных категорий и некоторые частности. Что касается птиц, например, то всего лишь некоторые совершенно определенные их виды считались способными давать убедительные знаки: это были авгурские птицы (Cic. Diu. 2, 76). Знаки разных видов имели разные смыслы. Различали: пернатых и вещих птиц (например, ворон, ворона, сова, сорока) — в зависимости от того, усматривались ли знаки в полете или в крике птиц (Fest. c. 308 L2; Варр. L. L. 6, 76). Учитывались особенности (неприятные или благоприятные), в соответствии с которыми различались птицы, подававшие благоприятные знаки (например, пернатые), либо неблагоприятные — как, например, вещие птицы (Serv. Aen. 4, 462). В отношении пернатых кроме части неба учитывались еще высота и способ полета, поведение птицы, место, где она присела. В отношении вещих птиц отмечали тон ее голоса, направление звука. Существовала определенная иерархия (gradus) знаков: так, например, если после орлана (парра) или дятла, подавших знак, орел подавал знак противоположного смысла, то предпочтение отдавалось ему (Serv. Aen. 2, 374). Кроме того, условия действенности наблюдения были весьма строгими: так, некоторые шумы, нарушавшие требуемую тишину, silentium, аннулировали знак: например, писк мыши, падение какого-либо предмета, скрип стула. Мы видели, что iuges auspicium — парализующий знак — заранее препятствовал, застав авгура в тот момент, когда тот шел к месту служения. Знаки, подаваемые птицами, не были единственными сигналами — ни среди знаков impetratiuaor (по особому приказу), ни среди знаков oblatiua (добровольно приносимых), т. е. таких, которые безо всяких просьб появлялись сами собой. Фест различает пять классов знаков, относящихся к весьма различному времени (Paul. c. 367 L2). Так, это знаки: ex caelo (т. е. гром и молния), ex auibus, ex tripudiis (т. е. поведение священных цыплят), ex quadrupedibus (собака, лошадь, волк, лиса), ex diris (т. е. угрожающие предзнаменования). Те знаки, которые в течение последних веков Республики заменили в общественной жизни древние птичьи знаки, это знаки небесные (ex caelo) и получаемые из наблюдения за цыплятами (ex tripudiis). Использование священных цыплят — простой и действенный способ — в течение долгого времени оставалось характерным только для полководцев во время военных кампаний. Если цыплята, захваченные с собой для этой цели, жадно ели, роняя пищу из клюва, то предсказание считалось благоприятным (Cic. Diu. 2, 72). Понятно, как легко было этого добиться: достаточно было дать цыплятам проголодаться, а затем предложить вязкую пищу (ibid. 73). Когда религиозные нравы стали портиться, магистраты не преминули воспользоваться столь податливым источником информации, и пулларий — наряду со писцом, ликтором, глашатаем — присутствует среди служителей, которых перечисляет Цицерон (Leg. agr. 2, 32). Критически относясь к знакам ex tripudiis, Цицерон не менее суров и к знакам ex caelo: для него и те, и другие — всего лишь пародии на ауспиции, подобия ауспиций. Действительно, в первом веке гром Юпитера был ценным оружием в руках тех, кто хотел не допустить комиции (ibid. 2, 74): достаточно было сказать, что ты его слышал. Для магистрата удобно было то, что он уже не должен был лично наблюдать за небом или же притворяться. Эту задачу он переложил на пуллария — или, вернее, приказным путем заставлял его говорить, что тот слышал гром и видел молнию (ibid.: «ныне приказывают пулларию»; ср. Dion. 2, 6, 2). Эта деградация обряда, а также мода, которая все чаще побуждала людей обращаться к гаруспикам, привели к тому, что искусство авгуров пришло в упадок, и в период осуществленной Августом реставрации оно уже пребывало в жалком состоянии. Цицерон констатирует, что его коллеги забыли свое искусство (Diu. 1, 25). Если в других сочинениях он только изобличает древность материала и небрежение к нему (Leg. 2, 33; Nat. d. 2, 9), то в своем главном произведении он проявляет знание истинных причин бедствия. Конечно, дело было в предосторожностях и ухищрениях в области законов, допущенных римлянами и их авгурами в лучшие времена в качестве предохранительных мер против «психоза знаков». Но, между тем, и греческое влияние сыграло свою роль: привлекательная и влиятельная религия побежденных выдвинула своих проповедников, навязала свои мифы, не привнеся при этом ничего такого, что могло бы омолодить и укрепить казуистику интерпретаторов Юпитера О. М. Желательные или вынужденно терпимые ауспиции, служившие формой выражения для Юпитера, не в большей мере противоречат законам природы, чем высказывания людей, своевременно понятые и ставшие omina[715]. Во всех отношениях отличаются от всего прочего знамения (продигии) — из ряда вон выходящие, часто чудовищные явления. Они только указывают на гнев богов или какого-либо одного бога, которого нужно идентифицировать и умиротворить. В древние времена они, как и ауспиции, не предвещают будущего и не предвосхищают его. Они также не проясняют ничего в настоящем. Они лишь неожиданно выдвигают проблемы, вызывающие страх. Все народы в большей или меньшей степени чувствительны к таким сюрпризам. Но римляне и здесь отличаются — не столько тем, какие чувства они при этом испытывают, сколько тем, какое место они им отводят в жизни, и прежде всего — неожиданными последствиями, которые влечет за собой их внимание к знамениям: последствиями в сфере религии, далеко выходящими за пределы того, чем является сам предмет. Примечательно уже большое число их наименований. Кроме слова общего значения — знамение (prodigium), используются еще ostentum и portentum, monstrum, miraculum. Слова ostentum и portentum, по-видимому, чаще всего употреблялись, когда речь шла о феноменах неодушевленной природы, в противоположность слову monstrum. Наименее терминологически определенное слово miraculum характеризует знамение как повод для удивления. Конечно, в этом Рим многое взял от этрусков. Как ни мало у нас сведений о них из-за отсутствия текстов, написанных местным населением, все же можно заметить, что по своему характеру они были мрачными и склонными к тревоге людьми. Однако весьма трудно, исходя из дошедших до нас поздних или искаженных легенд, восстановить возможности влияния этрусков и хоть как-то их датировать. Своих богов они представляли грозными, устрашающими. Было ли влияние этрусков единственным? Не оказали ли греки свое влияние на ранних этапах истории Рима? Поскольку историки всегда делятся на консерваторов и скептиков, они, вооружившись вескими аргументами, вечно спорят друг с другом. К единому мнению они пришли только в отношении одного факта: как мы видели выше, летописи относят ко времени Тарквиния второго «обретение» Сивиллиных книг, и за этим кроется важное подлинное обстоятельство: первые рукописи, в которых речь идет о знамениях, появились в Риме в этрусский период. Чем же были эти «Сивиллины книги», из которых, как считалось, Рим в течение веков черпал информацию о том, как нейтрализовать знамения? Многие авторы допускают, но многие и возражают против мнения, что с самого начала эти сборники были греческими, шли от Cumes, были связаны с некоей «Сивиллой» или даже с Аполлоном. Первые напоминают, что украшение храма Цереры — Либера — Либеры было поручено греческим художникам. Это было первое, что — согласно летописям — было вычитано из Сивиллиных книг. Но разве это не доказывает, что уже тогда греки имели широкий доступ в Город? Вторые подчеркивают, что сама идея пророческих книг вовсе не восходит к грекам, что в Кумах никогда не было — вопреки выводам Вергилия — места, где бы пророчествовала жрица, и не было никакой Сивиллы; что книги, подобные этим, существовали в Этрурии и назывались Книги ритуальные, ахеронтовы, знамений; и даже если корпус таких книг сформировался, то это было в более поздние времена, чем думали римляне; что этим книгам предшествовали в древности устные сказания, сочинявшиеся разрозненно; что, кроме того, были еще «откровения» маленького старичка Тагета и нимфы Вегойи, которые основывались на живых знаниях. Первые Книги, по-видимому, были связаны с упомянутыми выше этрусскими списками или были просто сборниками инструкций, рецептов, суеверий — латинских, а также, главным образом, этрусских. По-видимому, в III в. хлынули греческие элементы, которые оказали столь сильное влияние, что появилась новая форма, получившая классическое наименование «Сивиллиных книг». Первым достоверным фактом было то, что в 293 г. был издан приказ ввести в Риме бога Эскулапа. Такие споры ведутся постоянно, и дискуссия никогда не прекратится. Можно бесконечно рассуждать о правдоподобии или неправдоподобии рассказа Дионисия Галикарнасского о «первой консультации» в 496 году. Лично я, не имея решающего аргумента, испытываю большие сомнения по этому поводу. И сомнения тем сильнее, что рассказ о втором совещании, в 461 г. (Dion., 10, 2; Liv. 3, 10, 5–7), самой точностью повествования выдает свою анахроничность: как могло сохраниться воспоминание о стольких знамениях? Разве не ощущается отзвук политических тенденций, разве не возникает подозрение в мошенничестве? Не относится ли все это к последним векам Республики? С другой стороны, ответ хранителей Книг кажется странным: они сопровождают свои указания о прокурации знамений (да и то об этом говорит один Дионисий) настоящими пророчествами и советами. Вот наименее многословный вариант, предложенный Титом Ливием:
«И на следующий год закон Терентилия, предложенный теперь уже всеми трибунами, досаждал новым консулам, каковыми стали Публий Волумний и Сервий Сульпиций. В тот год [461 г.] в небе стояло зарево, а земля сотрясалась страшными толчками. Говорящая корова, в которую в прошлом году никто не верил, теперь не вызывала сомнений. Среди прочих знамений упоминают о падавших с неба кусках мяса и об огромной стае птиц, которые на лету склевывали этот дождь, а то, что упало и рассыпалось по земле, не протухло и по прошествии нескольких дней. Через дуумвиров по священным делам обратились к Сивиллиным книгам: предсказано было, что угроза исходит от собравшихся вместе чужеземцев, которые могут напасть на Город и погубить его; было дано также предостережение не затевать смут. Трибуны обжаловали его как умышленное препятствование закону, и теперь предстояла открытая борьба»[716].Поистине в этом тексте многое удивляет, но причины удивления и исходный пункт, вызывающий удивление и возражения, не совпадают у разных авторов-критиков. Во всяком случае, список знамений, имевших место в 461 г., — хороший образец тех, которыми заполнена третья декада Тита Ливия. Они достойны большего доверия, поскольку с начала III века понтифики записывали главные события года. Из этих записей были составлены сборники. Сохранились некоторые из них — такие, которые могут послужить ярким свидетельством легковерия людей. Приведем в качестве одного из многих примеров выдержку из Юлия Обсеквента (44), относящуюся к 102-му году, когда Италия была спасена от тевтонов и кимв-ров, в консульство Гая Мария и Квинта Лютация:
«Было совершено жертвоприношение на девятый день, так как у этрусков выпал каменный дождь. По указанию гаруспиков город был очищен, пепел жертв был развеян над морем децемвирами, и в течение девяти дней магистраты, возглавив торжественной шествие, ходили от храма к храму, совершая суппликации. На Регии копья Марса задвигались сами по себе. В окрестностях реки Аниен выпал кровавый дождь. На Бычьем форуме на часовню сел рой пчел. В Галлии, на лагерной стоянке, всю ночь был виден свет. В Ариции свободный подросток был охвачен пламенем и не сгорел. В закрытый храм Юпитера ударила молния. Гаруспик Эмилий Потенсис получил вознаграждение за то, что первым указал на необходимость искупления этого знамения. Римляне победили пиратов в Сицилии. Тевтонов перебил Марий. Зашумели задвигавшиеся сами по себе щиты. Некто оскопил себя в честь Матери Иды, и еговывезли за море, запретив когда-либо появляться в Риме. Город очистили. По городу провели козу с горящими рогами, ее вывели за пределы города через Невиевы ворота, а затем отпустили. На Авентине выпал грязевой дождь. Было нанесено поражение лузитанам. Была усмирена Испания. Были разрушены Кимвры».Прекрасное по сдержанности подведение итогов. Среди этого моря знамений победы при Аквах Секстиевых и Верцеллах выделяются тем более ярко. Как мы видим, в конце II в. «рецепт» умилостивления знамений, случившихся не только в Этрурии, но и на Капитолии, спрашивали у гаруспиков. Прежде они не были в такой чести. Согласно обычной процедуре, если свидетели сообщали о чуде (nuntiare), и если представлялось, что нельзя дожидаться ежегодного отчета новых консулов, то действующие на этот момент консулы (prodigii loco habere) передавали дело на суд Сената (referre ad senatum). Если Сенат не принимал дело, государство им не интересовалось и предоставляло его частному умилостивлению (procuratio priuata). Если же Сенат это дело принимал (suspicere), то — посоветовавшись с соответствующими лицами — он, по их рекомендации, отдавал приказ о procuratio. В нескольких редких случаях (и только в период между 203 и 176 гг.) Сенат обратился к понтификам, которые тогда давали свой указ. Так, на шестнадцатый год войны с Ганнибалом — в тот момент, когда Сципион одержал свои первые победы в Африке, и когда Рим имел на активной службе двадцать легионов и сто шестьдесят длинных кораблей — произошел целый ряд знамений: на Капитолии вороны, а в Антии крысы — съели золото; в Реате родился жеребенок с пятью ногами; в Анагнии, Фрузиноне — в небе появились странные метеоры; огромная пропасть разверзлась на равнине в Арпии. Что было еще серьезнее, это то, что во время жертвоприношения один из двух совершавших его консулов обнаружил в одном из жертвенных животных неправильной формы печень. Совершили умилостивление со взрослыми жертвенными животными, причем понтифики назвали богов, в честь которых надо было принести жертвы (Liv. 30, 2, 10–13). Но чаще всего обращались к Сивиллиным книгам, т. е. к децемвирам для жертвоприношений, в обязанности которых это входило. Вот какой была эта коллегия. Согласно легенде, когда Тарквиний получил Книги, он положил их в храме Юпитера и назначил комиссию из двух членов, дуумвиров для жертвоприношений, которым было поручено навести справки в Книгах (adire) — поручено специальным приказом и исключительно за счет государства. Некоторые критики высказывают мнение, что, по крайней мере, первоначально, это были не постоянные дуумвиры, а своеобразная комиссия, создаваемая каждый раз заново, когда консулы считали это необходимым. И только в 367 г., когда друг за другом происходили победы плебеев, был издан закон, учредивший постоянную коллегию дуумвиров, состоявшую из пяти патрициев и пяти кооптированных плебеев, возглавляемую магистром. Таким образом, склонные к нововведениям плебеи вдруг оказались в составе органа, наиболее способного к их введению. Во времена Суллы — Десять превратились в Пятнадцать (quindecimuiri s. f.), как в то же самое время это произошло с понтификами и авгурами. Что касается Книг, то — что бы ни думали об их происхождении и в каком бы виде их ни представляли — они наверняка подверглись греческому влиянию к тому времени, когда вторая Пуническая война ввела их в употребление. В 213 г. к ним добавились Марциевы песни, изъятые государством из широкого использования и ограниченные только потребностями государства. Книги сгорели при Сулле вместе с Капитолием, а затем были восстановлены или воссозданы комиссиями, которые посылались повсюду, где существовали Сивиллы (и, в частности, в Этрурию). При Августе из Сивиллиных книг были удалены нежелательные места, и они были переданы от Юпитера Аполлону и переместились с Капитолия на Палатин. Они снова подверглись пересмотру при Тиберии, а в начале V в. н. э. их сжег Стилихон: тогда исчезла коллегия, которая пользовалась уважением императоров. В принципе, требовались ответы только на два вопроса: 1. В чем заключается умилостивление? и 2. Каким богам должны быть адресованы соответствующие ритуалы — жертвоприношения, молитвы и т. д. Но эти вопросы могли завести весьма далеко — и, прежде всего, вывести за пределы Города и его летописей. Невозможно переоценить роль, которую эта коллегия сыграла в обогащении религии Рима. Во всяком случае, именно через нее в 293 г. в Рим вошли официально греческие боги и ритуалы, а также важную роль сыграла в 204 г. Мать богов, которая принесла с собой богов Востока. Децемвиры поставили в один ряд с религией фантазию и искусство, если и не включили все это в древнюю религию. Во время второй Пунической войны они конкурируют с понтификами в их сфере, отдают приказы о проведении церемоний в честь национальных богов. Однако, как нам представляется, конфликта между двумя великими коллегиями никогда не было, как не было конфликта между децемвирами и государством. Будучи патрициями или плебеями, свою религиозную деятельность (в частности, в призывах к Венере Эрицине и Великой Матери) они согласовывали с официальной политикой и дипломатией, для которых они были ценными помощниками: компетенция понтификов всегда была ограничена пределами Италии, а для Десяти Мужей был открыт весь мир, в котором существовали всевозможные культы, и они этим весьма мудро пользовались. Историческая судьба гаруспиков совсем другая. Они специализируются на изучении внутренностей, весьма сложном и мудреном, сильно отличающемся от осмотра, которое совершали приносящие жертву уже после того, как животное было убито. Они только проверяли нормальность внутренностей, а затем объявляли жертвоприношение при благоприятных предзнаменованиях или его противоположность. Гаруспики находили во внутренностях множество сведений, касавшихся формы, места, времени и обстоятельств знамения, о котором их спрашивали, и обещали высказать свое мнение подробно[717]. Это было полностью этрусское учение. Возможно, этрусским можно считать и наименование в его первой части, где оно параллельно слову au(i)-spex. Специалисты по изучению внутренностей, несомненно, появились в Риме в период гегемонии «Тарквиниев». Они никогда не утрачивали тот престиж, которым пользовались точные «псевдо-науки», но они подпали под подозрение в период долгого противоборства Римской республики с этрусскими городами: не было отмечено ни единой консультации в течение V в.; и во время войны с Вейями они, как и полагается, активно служат своей стране, которая была врагом Рима. Позднее, Рим редко пользовался их услугами. Это произошло только три раза, как говорится в летописях, до второй Пунической войны. Один из этих случаев — к сожалению, дата неизвестна — мог послужить причиной недовольства. Как рассказывает Авл Геллий (4, 5), основываясь на Анналах понтификов, статую Горация Коклеса, возведенную на Комиции, поразила молния. Вызвали гаруспиков из Этрурии, но они, неприязненно и враждебно настроенные к римскому народу, посоветовали провести умилостивление, противоположным образом по отношению к тому, что было необходимо: они велели перенести статую на менее возвышенное место, расположенное так, что окружающие дома перехватывали все солнечные лучи. Вскоре их изобличили, и они признались во всем и были казнены. Затем, когда были обнаружены истинные правила (мы не знаем, кем), статую поставили выше Комиция, на площади Вулкана. Однако в самой Этрурии, по-видимому, произошли быстрые и глубокие изменения в умонастроении людей, поскольку Ганнибал не смог через нее пройти, и стать лагерем вместе с галлами, не вызвав восстания. Поэтому, начиная с этого времени, стали часто совещаться с ними. Они конкурировали с Сивиллиными книгами, и эта тенденция все больше усиливалась. Государство неоднократно вызывало гаруспиков из Этрурии, оплачивая их услуги. Многие из гаруспиков остались в Риме, зарабатывая на жизнь своим ремеслом. Они объясняли частным лицам (priuati) те знамения, которые они видели, и осматривали внутренности жертв, сочетая искусство изучения внутренностей с искусством изучения неба, как это было описано в этрусской Книге о молниях. Одним словом, они стали настоящими «прорицателями». Будучи иноземцами, но находясь на службе исключительно у римлян, — у государства и у частных лиц, — они развили свою науку, приспособив ее к гражданским, политическим и религиозным проблемам, которые в ней не были предусмотрены. Так образовалась наука гаруспиков, этрусско-римская по своей сути, но ее стали называть этрусской. Не следует относить все ее ответы и правила к древней науке, как это часто делают, поскольку сохранялись и продолжали существовать только основы — методы, принципы, образцы, — а детали могли обновляться. С другой стороны, поскольку гаруспики свободно и бесконтрольно торговали своими знаниями, можно ли было рассчитывать на их «профессиональную совесть»? Римляне понимали, что риск неизбежен: гаруспик мог в своих личных интересах солгать, либо что-то утаить. Поэтому, хотя их использовали, им все же не доверяли. Сенат вызывал по-отдельности многих гаруспиков, контролируя одних через других, вознаграждая премиями самых лучших. Приведенный выше отрывок из Юлия Обсеквента содержит хороший пример такого оправданного недоверия. Одна из глав «Жизни Суллы» Плутарха дает яркую и подробную картину этих совещаний, на которых — даже будучи искренними — эти ученые люди, гаруспики, превратившиеся в прорицателей, не забывали о своей выгоде и о «рекламе». Когда Марий собирается захватить власть, этому «роковому восстанию» предшествует целый ряд знамений: загораются знамена, и погасить пламя оказывает очень трудно; три вороны приносят в город своих птенцов, пожирают их на глазах толпы и уносят останки обратно в гнезда; мыши грызут золото в одном храме, и одна из них, попав в ловушку, рожает пять детенышей, из которых съедает троих. Но, прежде всего, в безоблачном небе раздается звонкий и мрачный звук трубы. Плутарх рассказывает (Syll. 7, 7-11):
«Этрусские толкователи объявили, что чудо это предвещает смену поколений и преображение всего сущего. Существует, говорили они, восемь человеческих поколений, различающихся между собой нравами и укладом жизни, и для каждого божеством отведено и исчислено время, ограниченное кругом большого года. Когда же этому кругу приходит конец, и начинается новый, всякий раз то ли из земли, то ли с неба приходит какое-нибудь удивительное знамение, чтобы те, кто размышлял над такими вещами и умудрен в них, тотчас поняли, что в мир явились люди, и живущие, и мыслящие по-иному, и боги пекутся о них больше или меньше, чем о прежних. Среди прочего, продолжали прорицатели, при чередовании поколений большие перемены испытывает и сама наука предсказания будущего: она то обретает большое уважение, а также точность и надежность, благодаря идущим от богов ясным знамениям, то — при новом поколении, — напротив, влачит жалкое существование, рассуждая о многом наугад и пытаясь проникнуть в грядущее с помощью темных и ненадежных средств. Вот какие предания рассказывали самые ученые из толкователей-этрусков, те, что считались наиболее сведущими. Когда сенаторы, заседая в храме Беллоны, слушали рассуждения гадателей об этих предметах, в храм на глазах у всех влетел воробей, в клюве у него была цикада, часть которой он выронил, а другую унес с собой. Гадатели возымели подозрение, что это предвещает распрю и раздоры между имущими и площадною чернью города. Последняя ведь голосиста, словно цикада, а те, другие, — сельские жители, обитающие среди полей».[718]Может быть, из-за смешения жанров гадания, а возможно — вследствие контаминации греческих представлений, — произошло развитие самой идеи знамения, результат которого мы здесь видим. В то время как первоначально наука гаруспиков ограничивалась определением требуемого умилостивления, теперь она уже решает другой вопрос: что возвещает знамение — quid portentat prodigium? С этим развитием связано еще другое. В Риме знамение при любых обстоятельствах воспринималось как нечто, наводящее ужас, как знак гнева богов. Во II в. — при многозначительной конкуренции между децемвирами и гаруспиками — появляется понятие благоприятного знамения. Это происходит в 172 г., перед войной против Персея, царя Македонии (Liv. 42, 20, 1–3):
«В ожидании новой войны в Риме все граждане были настроены тревожно, поэтому, когда однажды грозовой ночью молния расколола сверху донизу ростральную колонну, воздвигнутую на Капитолии во время первой Пунической войны в честь победы консула Марка Эмилия, чьим товарищем был Сервий Фульвий, этот случай сочли знамением, и о нем доложено было в Сенате. Отцы-сенаторы приказали обратиться за советом к гаруспикам, а децемвирам велели справиться в Сивиллиных книгах. Децемвиры объявили, что над городом нужно совершить обряд очищения, назначить молебствие о помиловании и отвращении бедствий, принести в жертву богам крупных животных — как в Риме, на Капитолии, так и в Кампании, на мысе Минервы; кроме того, в ближайшем будущем надлежит устроить десятидневные игры в честь всеблагого и всемогущего Юпитера. Все это было в точности исполнено. Гаруспики истолковали, что это доброе предзнаменование, предвещающее расширение пределов государства и гибель врагов, потому что колонна, разбитая ударом молнии, была сделана из добычи, отнятой у неприятеля»[719].Такая тонкая и красноречивая наука очень скоро стала необходимой: во времена гражданских войн полководцы держали при себе гаруспиков и заставляли их изучать внутренности жертв накануне принятия важных решений. Однако в то же время — из-за необходимости откликаться на слишком большой спрос — наука гаруспиков обесценилась, пришла в упадок. Чтобы сохранить ее значимость, по-видимому, во II в. до н. э. — когда Катон удивлялся, что два гаруспика могли смотреть друг на друга без смеха (Cic. Diu. 2, 51), — Сенат принял странное решение, о котором нам известно от Цицерона (ibid. 1, 92): «В самые прекрасные дни Рима Сенат приказал, чтобы в каждом племени Этрурии шесть (?) из сыновей знати посвящались в эту науку, с целью избежать того, чтобы такое важное искусство оказалось в руках ничтожных людей, утратило свое религиозное достоинство и скатилось до уровня средства обогащения». В этот день, — говорит Буше-Леклерк, — Сенат проявил наивность, если вздумал сделать обязательным обучение, результаты которого никто в Риме не мог контролировать. И наука о знамениях — равно как и наука ауспиций — потеряла свой авторитет в период гражданских конфликтов, вследствие чрезмерного ее использования борющимися сторонами и злоупотреблений. Мужественный Гай Гракх не обращал на это внимания. По-видимому, он знал, что эти люди слишком легко поддаются влиянию его противников. Когда он строил колонию Юнону на том месте, где прежде располагался Карфаген, за что его резко критиковали в Риме, сильный ветер сломал стержень первого знамени, которое хотел удержать несший его человек, развеял внутренности, уже положенные на алтарь, выбросив их за пределы частокола, огораживавшего территорию зарождавшегося города, а затем появились волки, которые вырвали частокол и унесли его очень далеко. Гракх, тем не менее, все ускоряя работы, смог через семьдесят дней отплыть в Рим. Правда, там его ждала смерть (Plut. C. Cr. 11, 1).

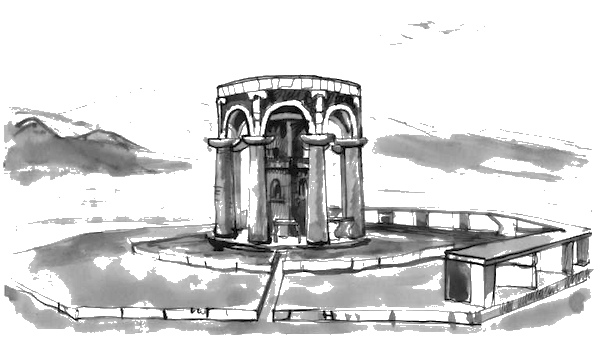
Глава IV ЗАМЕТКИ О ЧАСТНЫХ КУЛЬТАХ
Катон сформулировал правило (Agr. 143), согласно которому uillica (ключница) не совершает жертвоприношений и не распоряжается о том, чтобы кто-то это сделал, если на то нет приказания хозяина или хозяйки: «Знай, что хозяин за всю семью совершает богослужение». И это правило касается не только деревенской семьи, являясь законом на вилле. Оно лежит в основе всех видов частного культа. Во всех случаях, когда существует какой-либо культ, религией занимается глава соответствующей группы, выступая от ее имени. Он делает это и как глава группы, и как носитель традиции, как один из представителей власти. Мы видели сочетание этих двух составляющих в понятии Гения, который как раз занимает господствующее положение в домашнем культе. Широко соблюдается и другое правило: государство не вмешивается в частные культы, если только они не нарушают общественный порядок и не выступают против общественных культов. Если служителей общественного культа о чем-то спрашивают, они дают ответ, но при этом автор вопроса сохраняет полностью свою свободу. В доме, кроме Гения хозяина, существуют еще домашние Лары и Пенаты. Центром домашнего культа является очаг, находившийся первоначально в атриуме, в общем зале, который покрывался копотью от его дыма. Когда стали делать изображения богов, то их помещали именно там. И именно там отец (pater) произносил семейную молитву и подавал перед трапезой с ближайшего стола первые порции еды и питья. В три главных дня месяца, в годовщины, а поначалу в день рождения хозяина, именно туда приносились самые роскошные дары: цветочные венки, фимиам, духи, вина, мед, пироги, которыми некоторые Лары (как, например, Aulularia) даже лакомились каждый день, благодаря почитанию, оказываемому какой-нибудь девушкой. Позднее случалось, что этих богов помещали в других частях дома или же для них устраивалось маленькое святилище, sacrarium, в общей комнате. Но это не меняло ни дух, ни форму культа. В этих простых ритуалах (как правило, не кровавых) глава семьи довольствовался помощью ее членов. Если же требовалась помощь со стороны, то за плату нанимались мелкие работники инсулы, квартала. Примером могут служить отец или некая болтливая старуха, о которой говорит Овидий (F. 2, 571–572): Тут среди жен молодых многолетняя сидя старуха, Таците служит немой, но не немая сама[720]. В этой домашней жизни неожиданное сводилось к осквернению и к очищению от него мистическими способами, которые были весьма разнообразны, как это характерно для фольклора. В одном из комментариев Феста (c. 318 L2) названы имена «жрицы», которую называли piatrix и expiatrix, но также simpulatrix (от simpulum, названия сосуда для возлияний вина, ibid. c. 455) и saga (ср. ibid. c. 414–415)56. Также нам известно, как называли специалиста по жертвоприношениям, которые следовало совершать у деревьев, пораженных молнией, — strufertarius (ibid. c. 394). Благодаря счастливому случаю сохранилась книга Катона, и поэтому мы больше знаем о ритуалах сельских жителей, чем об обрядах горожан, которые находились, несомненно, на том же уровне. Что же мы находим у Катона? Наибольшее внимание привлекало то, в чем без каких-либо оснований усматривали древнейшие ценности этих богов, а именно — использование крестьянами в некоторых обстоятельствах первостепенных фигур Римской теологии — Юпитера и Марса: воина Марса — когда надо защищать себя, свои владения, своих быков и людей от всех опасностей, как видимых, так и невидимых (141); а Юпитера, бога неба и грозы, но также — верховного властителя, с которым крестьянин обращается как с почетным гостем, угощая его торжественной трапезой (daps), прежде чем приступить к посевным работам и сеять просо, хлеб, чеснок, чечевицу (132)[721] [722]. Кроме того, к верховному властителю Юпитеру и к Янусу, богу начал, обращаются, в соответствии с понятным обычаем, во вступлениях нескольких молитв, в которые третьим членом входит Юнона, упоминаемая только в предварительной жертве Церере (134). Вполне естественно, что крестьянин, как всякий гражданин Рима, проявляет почтение к великим богам и просит их направить свою высочайшую деятельность — военную, зачинательную, животворящую — на сферы, которые касаются его, крестьянина: Церера — богиня растительных процессов, Сильван — бог пастбищ в лесистой местности — эти боги теснее связаны с деятельностью крестьянина, и он, конечно, адресует им бóльшую часть своих даров: внутренности свиньи — porca praecidanea — он приносит в дар богам, прежде чем собирать урожай полбы, пшеницы, ячменя, бобов, репы (134). Значительное количество мяса и вина приносилось ради силы волов (83). Но, что прежде всего поражает при чтении этого достойного трактата, так это несколько ритуалов, где анонимные магические рецепты добавляются к техническим, претендующим на экспериментальную ценность: в жизни управляющего виллой, как еще недавно в жизни наших деревень, они занимали существенное место в отношениях между человеком и сверхъестественным. Так, одни зимние работы надо делать только в полнолуние или в одну из четвертей луны (37), а для предохранения быков от вызывающей опасения болезни следует составить смесь ингредиентов — каждого по три (три лавровых листа, три зернышка ладана, три раскаленных уголька, и т. д.). При этом каждому быку надо давать есть эту смесь из деревянного сосуда в течение трех дней по три раза, и бык должен съедать всю порцию без остатка. Кроме того, собирать ингредиенты и смешивать их, а также кормить ею быка надо стоя и натощак. Точно так же, когда животное начинает заболевать, надо стоять около него и заставить проглотить, разбив, сырое куриное яйцо, а на следующий день дать проглотить головку лука, раздавленную в вине (70, 71). Далее в книге, сразу после восхваления ценных целебных качеств капусты — настоящей панацеи, — а также мочи людей, поевших капусты (157), можно прочесть удивительный рецепт слабительного: бульон из нежирного свиного окорока, к которому добавляют два маленьких кочешка капусты, различные овощи, скорпиона, шесть улиток и горсть чечевицы (158); затем приводится магическое средство на случай вывиха или перелома. Против вывихов два человека должны приложить две половинки зеленого тростника к вашим бедрам, а вы в это время должны петь, произнося следующие слова: motas uaeta daries dardaries astataries dissunapiter. А против переломов используется та же самая формулировка или же надо сказать: huat hauat ista pista sista dannabo dannaustra[723] (160). Такой была, по-видимому, основа магико-религиозной жизни сельских жителей, на фоне которой выделяются несколько более религиозные обряды, такие как: уничтожение лесов (lucum conlucare, 139) и распашка целины (fodere, 140). Прежде чем начать вырубать рощу, следует принести в дар свинью в качестве искупления. В дар кому? Приведу молитву, полную оговорок и уточнений, достойных pater patratus:«Будь ты богом или богиней, ты, кому это посвящено, прими в качестве справедливой компенсации свинью, даруемую тебе как искупление, с целью прикоснуться к этому святому месту. Прими как законное то, что с этими намерениями сделаю я сам, либо кто-нибудь по моему приказанию…».Прежде чем начинать вспахивать целину, рекомендуется та же молитва с добавлением трех слов (operis faciundi causa[724]). Затем надо будет работать каждый день без перерыва. Если произойдет перерыв на праздники, — общественные или семейные — либо по любой другой причине, то эффект искупления прекратится, и его надо будет возобновить. В этих ритуалах не участвует свита Цереры, Вервактора и т. д. Когда-то над ними насмехались христианские полемисты, а в наше время примитивисты ищут здесь древнейшую форму религиозных представлений. Крестьянин, по-видимому, ничего обо всем этом не знал. Это рафинированный анализ, которым занимается фламин богини. Когда Катон тщательно описывает строительство виллы, ему и в голову не приходит умилостивлять Форкула, хозяина дверных проходов, Кардею, хозяйку дверных петель, Лиментина, хозяина порога дома — и всех других богов, которым, по словам Сервия (Aen. 2, 469), посвящены все отдельные помещения. Не уделяя внимания этим разделенным и очень неясным персонажам, он просто их оставляет на усмотрение науки понтификов. То же самое относится и к многочисленным псевдо-божествам, которые — начиная с брачной ночи родителей и до момента, когда ребенок пойдет в школу — якобы управляют семейной жизнью. Если ни один автор, ни в каком жанре литературы о них не упоминает, то это значит, что они не присутствовали в повседневной жизни. Брак в Риме — личное дело. Три его юридических формы (между которыми нет оснований усматривать какую-либо хронологию) — с одной стороны, а с другой стороны — присущие ему религиозные обряды — обнаруживают значительное сходство с обычаями Индии. Все разновидности брака, обильно представленные в индийских классификациях, сводятся к трем вариантам (по крайней мере, те его формы, которые считаются «правильными»). Это: брак при посредстве брахмана — преимущественная форма: самый чистый, самый священный брак (иногда несколько упрощенный); брак как скрытая сделка, когда отец девушки получает от юноши символические дары, которые он возвращает молодой чете; наконец, брак по способу Гандхарвов, когда юноша и девушка соединяются по доброй воле. В легендах говорится, что такой брак может быть расторгнут в случае нарушения договора. По своему типу эти формы брака напоминают конфарреация, коэмпция и узус. Только конфарреация определялась религиозными особенностями, предполагавшими участие государства: там действовали высокопоставленные священнослужители, и супругов соединяли плодами и мукой с солью (Serv. Georg. 1, 31), а также водой и огнем (Serv. Aen. 4, 105). Возможно, что совершалось жертвоприношение животного (ibid. 4, 374). Эта форма бракосочетания была обязательной для священного царя и для старших фламинов, и это требование оказывалось выполненным дважды, поскольку фламины столь высокого ранга были обязаны быть сыновьями farreati, а также быть farreati и сами. Обычно считается, что бракосочетание этого типа имело место в весьма редких случаях. Что касается коэмпции и узуса, то они относились к сфере гражданского права. В религиозном плане эти три формы брака находились под покровительством Юноны Покровительницы брака, и включали в себя обряды, которые, в случае конфарреации, были, по-видимому, добавлены к основному акту бракосочетания. Кроме того, входя в дом мужа, молодая жена должна была принести три асса — один она держала в руке и отдавала мужу; второй она несла на стопе ноги, и его она клала на очаг Лар (Lares familiares); третий и последний асс она несла в кошельке и должна была звякнуть (?) им на ближайшем перекрестке (Non. C. 852 L). Так она должна была влиться в свою семью, в свой дом, в свой квартал. Подобно всем важным решениям, принимаемым в жизни, брак, конечно, предполагал и учет ауспиций. Действительно, таким, по свидетельству Цицерона, был старый обычай (Diu. 1, 104)[725]. За рождениями тщательно следила Юнона Луцина. Как только ребенок рождался, его клали на землю, чтобы напророчить, будет ли праведным, и Пилумн и Пикумн — боги младенцев (Serv. Aen. 10, 76) — сразу получали «лектистерний», а в древности, по-видимому, менее претенциозные приношения. Позднее, в аристократических семьях этих сельских богов сменили Юнона и Геркулес. Варрон (в Aug. Ciu. D. 6, 9, 2) указывает другой ритуал покровительства роженице, где опять фигурирует Пилумн. Три бога должны были помешать Сильвану приходить и мучить ее по ночам:
«Изображать этих трех богов-стражей, — говорит св. Августин, — должны были трое мужчин, обходя дом вокруг, ударяя по порогу сначала топором, потом пестом, а затем выметая все метлой. Эти три символа сельского хозяйства мешали Сильвану войти: ибо без железа невозможно срезать деревья, без песта не сделать муки, а без метлы не смести зерно в кучу. Именно к этим трем предметам восходят имена богов: богиня Интерцидона получила имя от надреза, сделанного топором; бог Пилумн — от песта; Деверра — от метлы. Вот три божества, занятые охраной рожениц от жестокости Сильвана…».Христианский богослов, может быть, неудачно толкует имена, но сам ритуал, несомненно, подлинный. Если день рождения и его годовщина — это семейные праздники, то именины (Fest. c. 247 L2), девятый день для мальчиков и восьмой день для девочек: день, отмечающий вступление ребенка в жизнь общества, — не менее важен и для религии. Он включает, кроме присвоения имени (solemnitas nominalium) также еще и жертвоприношения, о которых у нас нет достаточных сведений (Tert. Idol. 16). Жертвоприношение совершалось, кроме того, позднее, обычно в честь семнадцатилетия: празднество togae purae, т. е. отмечался переход от мальчика к юноше, когда юноша надевал тогу мужчины, и это нередко происходило во время Либералий 17-го марта (Ov. F. 3, 771–778). Юноша снимал знак детского возраста — буллу (медальон в виде шарика), посвящая ее Ларам (Plaut. Pers. 5, 32), а также он снимал и белую тогу. На этот раз жертвоприношение совершалось на открытом воздухе, на Капитолии, во владениях Юпитера О. М., в честь богини Ювенты (Serv. Ecl. 4, 50), к статуе которой, по словам Дионисия Галикарнасского, юноша клал монетку. В смерти человека римляне ощущали в большей мере его исчезновение из этого мира, чем вхождение в мир потусторонний, о котором (как мы видели) они имели весьма смутные представления. Для них смерть была, прежде всего, осквернением, оскорблением живущих, и именно это осквернение familia funesta (семьи, потерявшей своего члена) стремились стереть выполнением некоторых обрядов (iusta facere): для этого приносили в жертву Церере свиноматку — porca praesentanea[726]; тело погребали, либо, в случае кремации, хоронили палец умершего (os tesectum). На могиле совершали трапезу, по-видимому, в самый день погребения (silicernium). После выноса тела покойника из дома, помещение специально подметали и совершали очищение (suffi tio) огнем и водой. Это делали те, кто участвовал в похоронном шествии (Paul. c. 94 L2; ср. 194 s. v. exfir). Совершали sacrificium nouendiale[727] (Porphyr. ad Hor. Ep. 17, 148) и устраивали похоронное празднество (Cic. Mur. 36, 75) — через девять дней после начала траура. Надо ли отграничивать от этих ритуалов праздник, который отделял живых от покойника: поминальные торжества, после которых семья умершего снова становилась чистой (Paul. c. 180 L2) и могла заняться на-следством[728]? Что касается культа своих покойников, несколько затерянных среди многочисленных богов Манов, то семья соблюдала его в достаточной мере в церемониях, обязательных в будние дни февраля, во время государственных праздников, длившихся с 13-го числа до Фералий 21-го февраля. В этих и некоторых других обстоятельствах постепенно исчезали различия между общественным и приватным культом: общественный культ указывал дату и включал официальные ритуалы, сопровождавшиеся — в более свободной форме — церемониями у всех очагов, на всех могилах. Продолжением Фералий были Харистии, или cara cognatio, 22-го февраля, в которых принимали участие только «когнаты» (кровные родственники) и свояки (Val. Max. 2, 1, 8). В этом случае народные культы (Fest. c. 357 L2) были на Форнакалиях, Парилиях, Терминалиях, на Компиталиях, на праздниках виноградных лоз и вина. Общественные ритуалы дробились на многочисленные действия, в соответствии с расслоением общества, доходя до самой маленькой единицы — дома. Участие слуг и рабов в проведении религиозных ритуалов в домашних условиях, хотя и умеренное, было принято явно с давних пор. К ним имел отношение не только Гений хозяина дома, который давал им возможность и обязанность проявить свою любовь, но также управитель и ключница виллы Катона получают от господина свою маленькую долю участия в культе: на перекрестке и в очаге для первого (5), а для второй — обслуживание очага и украшение очага венками в календы, иды и ноны, а также во время праздничных дней (143). Более примечательна их роль в двух важных случаях: во время Матроналий 1-го марта и Сатурналий 17-го декабря. Матроналии — это день матерей семейства. Они поднимались на Эсквилинский холм, к храму Юноны Луцины, у которой это был день рождения, dies natalis. В это время их мужья молились дома о сохранении брака (Schol. Hor. Carm. 3, 8), а также дарили им многочисленные подарки и карманные деньги. Женщины же подавали своими руками угощение для рабов (Macr. 1, 12, 7), причем это были рабы-мужчины, — уточняет Иоанн Лид (Mens. 3, 22). Во время Сатурналий господа, domini, сами оказывали почести рабам (Macr., Lyd. ibid.). При этом рабам подавали культовые обеды раньше, чем их хозяевам, которые должны были ждать, пока их обслужат во вторую очередь, если они не хотели разделить по-братски то, что давали в первую очередь рабам — рабы вместе с хозяевами (Justin. 43, 1). Домашняя религия — так же, как все приватные религии — придавала не менее важное значение божественным знакам, чем государственная религия. Как говорит Цицерон: «Ничто хоть сколько-нибудь важное, даже у частного лица, не делалось встарь без ауспиций, nisi auspicato» (Diu. 1, 28). И если Катон (Agr. 5) рекомендует управителю виллы не советоваться ни с какими толкователями, то он явно хочет отстранить дорого берущих за свои услуги шарлатанов, и это их он осуждает, а отнюдь не сам принцип священных сведений. Представляется вполне достоверным существование частных специалистов, которые называли себя авгурами. Об этом свидетельствует и текст Катона, и то, что членов государственной коллегии часто называют государственными авгурами (Варрон, L. L. 5, 33; Fest. c. 352, ср. 144 L2). Впрочем, мы ничего не знаем об их технических приемах. По крайней мере, изучение ауспиций требовало того же основного условия, какое соблюдалось и в отношении магистратов, и в отношении жрецов: это тишина. Кроме того, принимались те же ограничения (quod ego non sensi nullum mihi uitium facit[729]). Весьма ценный фрагмент текста Катона, сохранившийся благодаря Фесту (c. 342 L2), напрямик вводит нас в близкое окружение главы семейства:
«Когда мы изучаем ауспиции дома…, то если раб или рабыня пукнет под одеждой, а я не замечу этого, мои действия не потеряют от этого своей силы. Точно так же, если с каким-либо рабом или с какой-то рабыней случится во сне то, что в нормальных условиях препятствует комициям, это также ни в коей мере не нанесет ущерба моим действиям.».Из другого комментария Феста (с. 438 L2), к сожалению, поврежденного, можно извлечь кое-что, характеризующее ритуал:
«Silentio surgere, — говорит Веррий Флакк, — это выражение, которое часто употребляется, когда речь идет о человеке, который после полуночи молча встал с постели, чтобы заняться ауспициями, и который, отодвинувшись от постели, устроился на массивном сидении (in solido) и — прежде чем вернуться на постель — проследил за тем, чтобы ничего не опрокинуть в течение этого времени. Ибо тишина — это отсутствие в аупиции чего-либо, способного нанести ущерб их действенности».Молния также содержала некие указания для частных лиц, но это, по-видимому, относилось к этрусской науке, хотя и несколько обесцененной (Plin. N. H. 2, 138). Что касается гаруспиков, то (как мы видели) они нашли в Риме достаточно возможностей для деятельности, и это побудило их не возвращаться в свою страну. Задолго до того, как Ювенал (6, 396) изобразил забавного гаруспика, страдающего варикозным расширением вен из-за того, что так долго стоял, отвечая на вопросы тех, кто пришел к нему за советом, Плавт (Cure. 483–484) показал другого гаруспика, который предлагал свои услуги на улицах Вела-бра — так же, как пекарь и мясник. Такие приемы, по-видимому, способствовали постепенной транспозиции общественного в приватное. Можно составить себе представление об этом на примере одного из комментариев Феста (с. 389 L2), где речь идет о внутренностях:
«Religia exta: так называют внутренности жертвенных животных, которые предвещают сильным мира сего неожиданные почести; частным лицам и людям скромного положения — наследства; сыновьям семейства — статус главы семьи».Знамения, замеченные частными лицами, не всегда принимались во внимание общественной властью, и потому не во всех случаях с ними обходились должным образом. Те, которые не удостоились этой чести, оставались делом тех граждан, которые их наблюдали, и это требовало умилостивления частных знамений. Тит Ливий, говоря о нескольких функциях великого понтифика, упоминает о том, что тот должен был давать советы — причем явно частным лицам (priuati) — насчет похоронных ритуалов, а также о способах умиротворения умерших. Кроме того, он должен был помочь принять решение относительно того «какие знамения — молнии либо другие явления — следует учесть и предотвратить» (1, 20, 7). Если добавить «халдеев», составителей гороскопов, толкователей снов, а также разнообразных прорицателей, которые в течение последних веков нахлынули в поисках удачи в столицу всего мира, то можно представить себе, какая форма религии возникла и все больше проявляла тенденцию к тому, чтобы заменить, заслонить древние обычаи, весьма разумные по сравнению с нею. В конце своего трактата О дивинации (2, 149–150) — фразой, основанной на богатом опыте, хотя и несколько риторической по форме — Цицерон описывает среднего римлянина, подверженного суевериям:
«…Суеверие на нас наступает, нам угрожает, нас, куда ни повернись, преследует, — слушаешь ли ты прорицателя, или заклинание (omen), совершаешь ли жертвоприношение или наблюдаешь за птицей, встречаешь ли халдея или гаруспика, сверкает ли молния, или прогремит гром, или молния во что-то ударит, или что-то похожее на чудо родится или произойдет. А так как подобные факты неизбежно происходят, то никогда наш разум не пребывает в покое»[730].И в наше время многие порядочные люди живут точно так же: добрую старую традицию хранят ясновидицы, гадалки на картах, маги, — и они до сих пор наживаются на этом. Всякие объединения: либо промежуточные между домом и государством (такие как, например, деревни и села, роды и курии), либо специализированные — такие, как коллегии ремесленников или, позднее, войсковые единицы; или даже естественные или условные группы, охватывающие широкие слои населения (например, мужчины как мужчины, женщины как женщины, плебеи по отношению к аристократам, иноземцы по отношению к римлянам, вольноотпущенники) — все они имели свои собственные культы, в которых иногда грань между общественным и приватным была нечеткой. И хотя в сущности они ничего особенного собой не представляли — ни индивидуально, ни коллективно, — все, и даже рабы, иногда имели центры богопочитания, «поверх» служебных функций, которые они исполняли в государственной религии и частных культах. Недавно вышла работа, посвященная этой теме, которой долго не уделяли внимания. Невозможно здесь рассмотреть все разделы этого исследования, так что я ограничусь тем, что в общих чертах опишу культы родов и ремесленных цехов. Итак, роды (по крайней мере, большие патрицианские роды) имели традиционные культы, и все, что входило в соответствующие ритуалы, принадлежало им. Во время осады Капитолия галлами в качестве примера мужественного поведения указывали на поступок одного из юношей рода Фабиев, который дошел до Квиринала, чтобы совершить некоторые жертвоприношения своего рода (Liv. 5, 46, 2). Было высказано весьма правдоподобное предположение, что прозвище одной части Лукрециев — Триципитин — является намеком на культ. А род Клавдиев использовал жертвенное животное особого типа, которое называлось позорной свиньей и служило умилостивительной жертвой и избавлением от всех религиозных обязательств (Fest. c. 345 L2). Кроме того, должно быть что-то истинное в традиции, согласно которой у Великого Алтаря государство становилось наследником и заместителем двух родов — Потитиев и Пинариев. Иногда — признавая автономность культов родов — государство проявляло, тем не менее, интерес к ним: например, род Аврелиев, «Auselii», сабинского происхождения, несет солнце в самом своем имени и совершает в честь него жертвоприношения, для которых римский народ официально предоставил место (Fest. c. 120 L2). Вполне вероятно, что ежегодная церемония tigillum sororium[731], которой современная критика дает столь удивительную интерпретацию, является продолжением, — как о том говорится в летописях, — ритуала, присущего одновременно роду Горациев и государственному обычаю: это очищение воина, возвращающегося из похода. Возможно также, что обе команды, образующие братство Луперков, — Quinctiales и Fabiani, — изначально были выходцами из рода Квинтия и Фабия. Так, Моммзен отметил, что редкое имя Kaeso встречается только у этих двух родов, и он сопоставил это с действием februis caedere, которое характеризует один из главных моментов праздника. Поскольку род не имеет вождя, представляется, что избирался — не пожизненно — один из членов (если можно использовать Dion. 6, 69, 1, который говорит о смене у Навтиев), которому поручались родовые культы, священные жертвоприношения или трапезы, которые, впрочем, требовали присутствия небольшого числа (всего трех или четырех) участников (ibid., 9, 19, 3). Переход из одного рода в другой предполагал торжественный отказ, публичное отречение от sacra, происходившее на калатной комиции[732]. Коллегии ремесленные или рабочие, учреждение которых — согласно фактически ложному, но идеологически интересному преданию — приписывают Нуме (Plut. N. 17), имели в качестве руководителя магистра, подобно братствам. Нам мало что известно об их религиозной жизни до эпохи Империи. В большинстве случаев их праздником было 19 марта — Квинкватрии. Праздник посвящался богине ремесел Минерве. В отнюдь не исчерпывающем списке Овидий (F. 3, 809–832) упоминает по этому случаю ткачей, сукновалов, красильщиков, сапожников, врачей, школьных учителей, скульпторов и художников. Флейтисты, особенно важные в сфере религии, проводили свои пирушки во владениях Юпитера Капитолийского (Liv. 9, 30, 5 и 10), но они поклонялись также Минерве, проводя культовые обряды в ее честь в Малые Квинкватрии в июньские иды (Fest. c. 267 L2). Рыбаки и ныряльщики Тибра (CIL. VI 1872), по-видимому, были участниками игр рыбаков 7-го июня (Fest. c. 345, ср. 318 L2), а ремесленники, нуждавшиеся для своего ремеслав воде (qui artificium aqua exercent; Serv. Aen. 12, 139), устраивали праздники в честь Ютурны.


ПРИЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИЯ ЭТРУСКОВ
Предварительные замечания
Принято рассматривать религию этрусков в одном томе с римской религией, но ее освещают раньше, чем римскую религию, к которой она должна как бы послужить необходимым введением. В нашей книге мы от этой традиции отступаем. Хотя обе религии здесь рассматриваются под одним переплетом, все же Рим идет первым, а Этрурия оказывается в приложении. Изложим причины, побудившие нас так поступить[733]. Представленная нами картина римской религии в достаточной мере показывает, что она отнюдь не столь многим обязана Этрурии, как это обычно утверждают. Когда римляне, латиняне, расположились на своих территориях, они уже имели хорошо структурированную систему верований, унаследованную от их индоевропейского прошлого. Этрусский вклад — столь ранний, столь важный и возобновлявшийся, если не непрерывный, как обычно считают, — всего лишь обогатил, дополнил эту структуру, но не расшатал ее. С другой стороны, можно сказать, не впадая в парадоксальность, что, скорее, восстановленная в своей самобытности римская религия способствовала прояснению этрусской религии, выявив различия между ними. Если бы мы знали теологические основы Умбрии, то они лучше выполнили бы эту задачу. Но, даже сведенный к одному только Риму, италийский контекст остается лучшим инструментом, позволяющим оценить документы, касающиеся Этрурии. В-третьих, основные документы, касающиеся религии этрусков, содержатся в текстах латинских авторов, начиная с I в. до н. э., т. е. они относятся к тем временам, когда Рим был широко открыт всему миру, Востоку и Греции. Эрудиты, которые приводили факты и которые переводили этрусские «книги», знали тогда многое, кроме этих фактов, и они занимались многим другим, кроме этих книг. Они нередко пересматривали, утяжеляли, делали более неуклюжими те летописи, которые использовали или хотели спасти. Необходима постоянная критическая работа, которая требует, чтобы мы расположились на том всемирном перекрестке, в какой превратилась бывшая «вотчина» Тарквиниев. Наконец, несмотря на немалое количество исследований, религия этрусков остается неясной. Когда о ней идет речь, приходится распространяться о том, что лучше всего известно, и, в частности, говорить о пророчествах, которыми особенно интересовались и римское государство, и римские эрудиты. Но это, конечно, нарушает равновесие изложения в ущерб теологии — этой главной части любой религии, — а также в ущерб рассказу о календарных праздниках. Это немыслимая затея — хотеть описать религию народа, ни один текст которого мы не в состоянии прочитать; религию, которую ни один автор не попытался охарактеризовать в целом, или хотя бы посвятить ей несколько строк, как это сделали Геродот и его соперники в отношении скифов, фракийцев и многих других варваров. Как известно, хотя алфавит, которым пользовались этруски, никаких секретов не имеет, и несмотря на то, что, кроме тысяч кратких надписей, сохранилось несколько довольно больших текстов, которые, казалось бы, посвящены вопросам религии или магии, тем не менее, они остаются недоступными для нас, и использовать их невозможно, потому что мы не знаем этрусского языка. Уже более века — либо с помощью внутреннего анализа форм (так называемого комбинаторного метода), который неизбежно приводит к произвольным трактовкам, как только от статистики переходят к интерпретации, либо с помощью сопоставления с древними или современными языками, в которых хотя бы в малейшей степени можно усмотреть родство с этрусским языком, в результате чего высказываются бредовые предположения, — ученые проявляют изобретательность и терпение в работе, а иногда используют и подлинно научные знания для решения неразрешимой задачи! Как жаль, что римские грамматисты вместо разрозненных комментариев не оставили нам хотя бы эквивалента двуязычных словарей, которые делают честь вавилонской науке. Весьма огорчительно также и то, что двуязычные надписи на латинском и на этрусском, которые сводятся к именам собственным и названиям родственных связей или должностей, дают нам так мало полезных сведений. Такова, однако, ситуация, и иллюзии, которые питают в своей работе столь многие этрускологи, как и пылкие утверждения, которые иногда выходят из-под пера даже самых осторожных ученых, не могут ничего изменить здесь. Несколько десятков слов, значение которых достоверно установлено или предполагается, а также несколько элементов морфологии, которые удалось выявить, не позволяют перевести ни одной фразы в больших текстах. В отношении столь странного языка прогресс в исследовании может быть достигнут только в том случае, если будут обнаружены двуязычные надписи достаточного размера, либо если будет установлено достоверно близкое родство между этрусским языком и каким-нибудь известным древним языком. Обнаружение двуязычных надписей зависит не от расчета, а от случайностей в раскопках или от удачной находки вскапывающего землю крестьянина. Недавно одна из таких удач произошла, но пока еще рано оценивать результаты. В июле 1964 г. на территории одной из двух гаваней этрусского города Цере, сегодня Черветери, господин Massimo Pallottino обнаружил три маленьких золотых пластинки с надписями: на одной — на пуническом языке (11 строчек), а на двух других — на этрусском языке (16 и 9 строчек)[734]. В сущности, это нельзя точно назвать двуязычностью, однако по-видимому, содержание более длинной этрусской надписи и пунической надписи — параллельны: одно и то же мужское имя и одно и то же имя божества фигурируют в первых строчках. Пунический текст сразу же прочитал господин Giorgio Levi Della Vida, а затем господин Giovanni Garbini. Интерпретировал его господин André Dupont-Sommer[735], располагавший лучшими возможностями исследования. Таким образом, можно считать что главное сказано. Следует доверять мастерству этрускологов, чтобы извлечь из этого маленького сокровища полезные сведения в отношении грамматики и лексики, которые в нем содержатся. Первая публикация, в конце 1964 г., где M. Pallottino высказывается с большой осторожностью[736], конечно, не была разочаровывающей, но она прежде всего показала, насколько трудна задача: не было получено результатов сколько-нибудь вероятных. Распознать язык, родственный этрусскому, это, напротив, дело интуиции и критического анализа. Это близко к проблеме, еще недавно вызывавшей большие споры, — к вопросу о происхождении этрусского народа. Все большее число авторов, отказавшись от гипотез об «автохтонии» и «континентальной миграции»[737], принимают летописный вариант, высказанный в форме мифа Геродотом (1, 94), а после него большинством античных авторов. Говоря о лидийцах, отец истории указывает, что они считают себя изобретателями почти всех игр, принятых у греков, и это в те времена, когда была «колонизирована Тирсения»[738]:«При царе Атисе, сыне Манеса, вся Лидия оказалась жертвой сильного голода. Некоторое время лидийцы его терпели. Затем, так как бедствие не прекращалось, они стали искать способы выйти из беды, и каждый придумал что-то свое. Именно тогда они изобрели игру в кости, игру в бабки, мяч и все другие игры, кроме шашек, изобретение которых они себе не приписывали. И вот как они использовали свои изобретения против голода: один день из двух целиком посвящался игре, чтобы люди не думали о еде, и только на следующий день, перестав играть, принимались за еду. Так они прожили восемнадцать лет. Однако бедствие не отступило, а, напротив, усилилось. Царь разделил лидийцев на две группы и приказал им тянуть жребий. Из двух участников один оставался в стране, а другой должен был ее покинуть. Он возглавил ту группу, которой выпал жребий остаться на родине, а ту группу, которая должна была уехать, поручил своему сыну, которого звали Тирсен. Те, кого постигла эта участь, отправились в Смирну, построили корабли, погрузили на них то имущество, которое могло им пригодиться, и отправились на поиски земли и средств к существованию. Миновав берега многих народов, они причалили в стране Умбров. Там они построили города, в которых и живут до сих пор. Но они отказались от своего имени, и стали зваться не лидийцами, а тирсенянами — по имени сына своего царя, который стал их вождем».Заморское — лидийское — происхождение этрусков уже давно подтверждено лингвистическими аргументами: начиная с 1886 г., когда французские археологи Georges Cousin и Felix Dürrbach опубликовали в Bulletin de Correspondance Hellénique сделанное ими в предыдущем году открытие в Каминии, на острове Лемнос, — погребальную стелу с двумя надписями на неизвестном языке, — обнаружилось, что общая картина языка и несколько четких слов, стоявших на необычном месте, напоминают этрусский язык и некоторые погребальные надписи Этрурии. В частности, то, что весьма вероятно указывает на время (в «А»: σιαλχfειζ αfιζ; в «B»: αfιζ σιαλχfιζ). Это, с одной стороны, близко к указаниям на этрусские времена (такие, как, например, avils XXV, avils XXXVI и т. д.), а с другой стороны — этрусские числительные (кратные 10): — alxl (ce(a)lxl, muvalxl, cezpalxl, semφalχl), засвидетельствованные в случае окончания s после avils (avils cealxls; со вставленными единицами: avils huOs celxls, avils maxs semφalχls, avils esals cezpalxls, avils θunem muvalxls…). Следовательно, можно было быть уверенными в том, что в VII или в VI веках люди, говорившие на языке, родственном этрусскому, бывали на острове Лемнос или жили на нем, совсем близко от побережья Малой Азии. Предпринятые впоследствии раскопки по соседству с Каминией обнаружили некрополь VIII и VII вв., где было много предметов из золота — такого же типа, как те, которые украшают этрусские могилы того же времени. С другой стороны, как только были открыты лидийские надписи, обнаружились аналогии между этим неизвестным языком и языком этрусков[739]. В 1916 году, публикуя первые тексты сардов, Enno Littmann отметил самые поразительные аналогии: в системе звуков, в ударении (сильное начальное ударение, искажающее греческие имена: например, лидийское Ibśi-Έφεσος, а также, возможно, Timle-Τιμόλαος или Τιμέλης; этрусское Axle Άχιλλεύς, Lamtun Λαομέδων, Clut(u)msta Κλυταιμήστρα…). А в морфологии прилагательные этрусского происхождения, оканчивающиеся на l и 5 (s), этрусский генитив на l, 5; отсутствие рода; окончания имен родов: например, лидийское Sfardak — «из сардов», этрусское Rumax — «из Рима». Однако поскольку лидийский не поддавался интерпретации, несмотря на двуязычные лидийско-арамейские сопоставления, и так как неясное не может служить объяснением непонятного, эти констатации не помогли ученым продвинуться в знании этрусского языка. Тем не менее, было получено подтверждение, — и это очень важно для исследования цивилизации, — того факта, что итальянские этруски (по крайней мере, те люди, которые дали название местности) действительно пришли из Малой Азии. Открытие и расшифровка хеттского и родственных ему языков (лувийского, палайского), затем признание Педерсеном (H. Pedersen) того, что один из языков, на котором гораздо позднее говорили в Малой Азии, ликийский, является эволюционировавшей формой лувийского языка[740], — дали лингвистам новые возможности для исследования. В последние годы появились серьезные основания считать, что лидийский язык, также представляет собой результат развития одного из древних языков, известных по клинописным документам, — одного из диалектов хеттского. Следовательно, в ближайшие годы нам предстоит стать свидетелями обратной операции, не менее увлекательной, чем та, которая позволила Шамполлиону (Champollion) расшифровать древнеегипетский язык с помощью производного от него коптского языка, и можно надеяться, что в ближайшем будущем, по крайней мере, часть грамматики и лексики лидийского языка раскроет свои секреты. Может быть, это даст в отношении этрусского хоть что-то, касающееся религии. Однако следует внимательно отнестись к датам: тот лидийский язык, который можно видеть в самых древних надписях сардов, относится ко временам ахеменидов, т. е. это позднее V в. до н. э. А миграция, названная «тирренийской», произошла, несомненно, на несколько веков раньше. Принято считать, что когда греки основали Сиракузы и Кумы во второй половине VIII в. — вскоре после возникновения Рима, — этруски уже прочно заселили ту часть побережья, которой предстояло стать Этрурией. Они, по-видимому, появились там уже в IX в., т. е. в то время, которое одинаково удалено как от хеттской империи, так и от письменных свидетельств лидийского языка. Используя аргументы разной степени убедительности, А. Пиганиоль преобразовал данные этой проблемы, отнеся весьма смело время миграции «этрусских викингов» приблизительно к 675-му году. По его мнению, они покинули Малую Азию во времена опустошительного нашествия киммерийцев и скифов в конце VIII в. и большей части VII в. Такая оценка может согласоваться с другой, согласно которой последние переселенцы (возможно, более многочисленные) просто пополнили поселения, основанные их предшественниками. Во всяком случае, при распаде империй, не только языки, но также и нравы и верования эволюционируют очень быстро, особенно в Малой Азии, где воздействие различных влияний всегда было сложным и мощным. За два века могут возникнуть большие различия. Этим объясняется тот факт, что на первый взгляд лишь немногие этрусские слова похожи на лидийские. Правда, они не похожи и на хеттские слова, к которым a priori они должны были бы быть ближе. Поэтому следует учитывать и другую возможность. Можно было бы допустить, что название «лидийцы» употреблялось для характеристики весьма смешанного населения, среди которого «хеттизированные» азиаты существовали рядом с другими племенами, более консервативными, говорившими еще на тех языках или сохранившими некоторых слова, которые использовались здесь до нашествия индоевропейцев. В то время как, например, несколько числительных, известных нам из языка ликийцев, действительно являются индоевропейскими, — весьма примечательно, что этрусские числительные не поддаются сближению с этой семьей языков. Впрочем, они не обнаруживают сходства также и с числительными известных нам кавказских языков[741]. Хотя столь значительная вероятность восточного происхождения заставляет искать в Малой Азии самые древние материалы об этрусских верованиях, тем не менее, это пока еще не позволяет провести сравнений, по-настоящему проясняющих вопрос. Напротив, специалисты по азиатским языкам и цивилизациям справедливо предостерегают нас от эйфории «найденных родственников»: итальянские родственники сильно изменились. Несомненно, изменились они от контактов с италийскими племенами, в частности, с жителями Умбрии, которые пришли в будущую Тоскану задолго до них и которые — так же, как римляне — отнюдь не были малоразвитыми варварами. С другой стороны, будучи морским народом, они, по-видимому, с самого начала были открыты влияниям, которые следовали друг за другом или проявлялись одновременно в Средиземноморье: влияние финикийцев из Азии и Африки, влияние греков отовсюду. Путешествовали не только материальные искусства и ремесла: приходили примеры образа жизни и тех, и других, доходили также их религиозные верования, их философский опыт, их магические и пророческие приемы. И этот новый народ — потомок (по крайней мере, в своих аристократических слоях) древних народов Малой Азии, которые во все времена были готовы учиться и у запада, и у востока — живет в условиях непрерывного синкретизма. На нашем уровне знаний почти не будет парадоксом, если сказать, что самая достоверная часть этрусского наследия заключалась в этой способности к восприятию, а впоследствии и к трансформации. В те времена, о которых мы что-то знаем, результатом стало разнородное целое, в котором, как правило, трудно установить хронологическую перспективу и уточнить истоки. Легко говорить о «стратах», но трудно наполнить их достаточно вероятным содержанием. И тем более, что — за исключением может быть, одного раздела, в который археология вносит значительный вклад (я имею в виду погребальные обычаи и верования, которые их поддерживают), — можно себе представить местные варианты, которые наверняка имелись в «этрусской религии». На примере Греции и Лация нам известно, как сильно один и тот же традиционный материал может различаться от города к городу на ограниченном пространстве, населенном людьми, говорящими приблизительно на одном и том же языке. По-видимому, Юнона из Вейев, Вольтумна из Вольсиниев — были божествами, общими для всей Этрурии (вторая — по крайней мере, в течение какого-то определенного времени). Но теологические представления могли, вероятно, по-разному выстраиваться в разных местах вокруг различных богинь-покровительниц. Однако об этом у нас сведений нет.
«Книги» этрусков
Одной из самых поразительных черт представления, которое римляне конца эпохи Республики имели об этрусской религии, является то, что они считали ее религией «книг», ответственность за которые несли некие мистические «авторы». Понятно, что римляне особо выделяли эту черту: в эпоху, когда Рим едва умел писать, — надпись Форума, нанесенная в конце царских времен, свидетельствует о том, какая неуклюжесть допускалась даже в самых официальных документах, — Этрурия имела заимствованный у греков алфавит, весьма умно откорректированный, и этруски наверняка не ограничивались написанием имен собственных на обратной стороне зеркал или на надгробиях могил. Но что представляли собой в древние времена эти книги? Конечно, так как этруски пришли из Малой Азии, то они могли если не принести с собой экземпляры сборников юридических или религиозных правил, какие уже давно существовали на Ближнем Востоке, оформленные с помощью картинок, гвоздей или букв (а таких примеров довольно много), то хотя бы сохранить воспоминания, представление о том, что религия цивилизованного народа должна опираться на авторитетные писания. В таком случае они не могли надолго задержаться в Цере, Тарквиниях, Кьюзи, не поставив свои писания на службу этой традиционной потребности. Но в какой форме? Мы не знаем. Те книги, фрагменты из которых римские писатели могли перевести или пересказать, относятся к другим временам. Они принадлежат своеобразному этрусскому Возрождению, но это было безнадежное Возрождение, подобное завещанию. В последние века до нашей эры Этрурия, тесно связанная с Римом, имела лишь цель, причем эту цель поддерживали сами римляне: способствовать развитию цивилизации и достойной совместной жизни, собирая материалы, способные приносить пользу своим собственным летописям, дополняя их и направляя в зависимости от потребностей и вкусов империи, которая была на пути к тому, чтобы стать всемирной державой. Из этой литературы ничто не дошло до нас прямо, но над ней работали два или три поколения римских эрудитов, с которыми связаны до самóй эпохи Византии, в период от Цицерона до Иоанна Лида, все те, кто упоминал об Этрусских знаниях (Etrusca disciplina). Эти усилия Рима, впрочем, присоединяются к великому движению ученых исследований, которые, — начиная с Варрона, а также после него, — стремились вновь обрести древности, зафиксировать обычаи, закрепить ритуалы, а также их интерпретировать и обосновать, продлить их существование с помощью всего того, что науки, псевдонауки, философские рассуждения Греции и Востока предоставляли в распоряжение умов, которых обилие знаний интересовало больше, чем критическое к ним отношение. Это время, когда такой человек, как Граний Флакк посвящает Цезарю свой трактат О молитвенных формулах, когда Геренний пишет книгу, которую хотелось бы почитать: О посвященных тибурских Салиях; когда Об ауспициях (Мессала) добавляется к О святынях юриста Требация; когда Вераний, кроме Книг ауспиций, пишет еще Понтификальные вопросы, немногие сохранившиеся отрывки из которых заставляют сожалеть об утрате этих книг. Специалисты по этрусским древностям присоединяются ко всему этому, добавив ко всеобщей любознательности еще знание языка, которым, несомненно, лишь очень немногие римляне могли пользоваться. Наибольшей популярностью среди этих авторов пользовался этруск Тарквитий Приск (по всей вероятности, современник Цицерона), уроженец Тарквиниев — города, который считался колыбелью науки гаруспиков. Макробий цитирует отрывки из его «переводов»: из Этрусской книги знамений (Ostentarium Tuscum), из Книги знамений деревьев (Ostentarium arborarium). По-видимому, впоследствии в Этрурии его считали национальной гордостью, и он занимает достойное место в надписях, которые в начале эпохи Империи город Тарквинии выгравировал в честь своих великих людей[742]. Не менее значительной фигурой был другой этруск — Авл Цецина, друг Цицерона, уроженец Волатерры, талантливый оратор (и даже, в свое время, пророк, воспитанный отцом в духе Этрусских знаний). Он в значительной степени был причастен к теории молний, большие отрывки из которой записали Плиний Старший и Сенека (к сожалению, не слишком понятные). Другие авторы менее известны, и данные о личности и времени жизни некоторых из них вызывают споры. Например, некий Фонтей и Капитон (которые, по-видимому, были одним и тем же человеком), некий Вицеллий, которого упоминал Лид, некий Атал, которого ценил Сенека. К ним, конечно, следует добавить друга Цицерона — Публия Нигидия Фигула, которого Цезарь отправил в ссылку. В этой голове, напичканной астрономией, физикой, естественными науками, а также теологией и моралью, царила вера в Пифагора — просвещающая, ослепляющая, искажающая. Он написал такие работы, как О гадании по внутренностям и О богах. Как же такой человек мог пренебречь материалами об этрусках? Он создал «бронтоскопический календарь»[743], который подвергся критике современников. Действительно, прежде всего необходимо критически рассмотреть эти единственные свидетельства (весьма фрагментарные) знания, оригинальное изложение которого утрачено. Как работали эти свидетели? Как они передают «этрусский образ мыслей»? Какую свободу они позволяли себе при упорядочивании и интерпретации данных, при подведении итогов? Легко понять, насколько трудно осуществить такое исследование, поскольку необходимо рассмотреть и оценить не только самих Цецину или Тарквития, но и тех, кто их использовал. Ведь Сенека, Плиний — имели свои собственные представления и мнения. Приводя цитаты, не поддаются ли они тенденции, которая нередко побуждает нас выделять те фразы или страницы, которые согласуются с нашими понятиями? Комбинируя несколько источников, в какой мере они их искажают? Когда мы имеем дело с Лидом, такой риск ничтожен, так как он лишь копирует, компилирует используемые материалы, но никаких собственных идей не имеет. Однако хорошая компиляция требует здравых суждений, которыми эта посредственность не располагает. Хотя мы не позволяем себе резкой критики, которая возможна в таких случаях, все же дискуссии последних десятилетий привели к значительному снижению ценности этих свидетельств: они дают нам представление об этрусской науке последнего периода, полной заимствований, скрывавших ее древнюю форму. Легенды, которые — несмотря на их позднейшее использование — нельзя отнять у этрусских летописей, приписывают сочинение религиозных текстов, называемых иногда «откровениями», двум персонажам прежних времен — мужчине и женщине: Тагету и Вегойе (Vegoie или Begoe). Легенда о Вегойе краткая: Сервий (Servius, Aen. 6, 72) называет ее нимфой и говорит, что в стране этрусков она написала ars fulguriatorum (искусство толкования молний). Также она якобы преподавала межевое дело и обучала тем знаниям, которых оно требует (Die Schriften der römischen Feldmesser, éd. K. Lachmann, I, 1848, c. 350). Напротив, о Тагете были известны удивительные вещи: он родился из борозды, которую на поле провел один человек из Тарквиниев, и окликнул пахаря. Увидев это существо, по виду напоминавшее ребенка, но проявлявшее мудрость, присущую старикам, пахарь стал кричать. Вся Этрурия очень быстро собралась вокруг этого гостя, слушала его речи, тщательно их записывала: результатом этого и стали Знания о предсказаниях по внутренностям жертвенных животных (haruspicinae disciplina). Таков рассказ Цицерона (Diu. 2, 51). По словам Лида (Ost., 3), греки отождествили «ребенка» Тагета с Гермесом Хтоническим и приписали ему в качестве особого слушателя некоего «Тархона». У Феста (Festus, c. 448 L2) он — «сын Гения, внук Юпитера», и он преподает disciplinam haruspicii двенадцати народам Этрурии. Поскольку буквы B и G в этрусском алфавите отсутствуют, нам не известна местная форма имен Tagès и Vegoie-Begoe; второе имя сближали с нередким родовым именем в Кьюзи — Vecu-. По этим персонажам «книги» этрусков получают иногда названия Tagetici, Vegonei. Однако чаще их характеризует по их содержанию. Так, говорят «о книгах судеб, о предсказаниях по внутренностям жертвенных животных, молний, ритуальных, Ахеронтовых», но здесь нет систематического распределения материалов. Единственный текст, в котором три из этих имен расположены рядом друг с другом с целью классификации, — это Одивинации, I, 72: «…У этрусков есть книги об искусстве гадать по внутренностям животных и по молниям и об обрядах, у нас — авгурские книги.»[744]. Принято считать, что Ахеронтовы книги входили — как их часть — в Книги ритуалов, а Книги судеб связывают либо с последними, либо с Книгами о предсказаниях по внутренностям жертвенных животных, а для удобства изложения придерживаются трехчастности этого отрывка из Цицерона. Мы не можем предложить ничего лучшего[745].Libri fulgurales[746]
В течение долгого времени считалось, что «теория молний», искусство fulgur(i)ator — самая хорошо известная и самая оригинальная часть Этрусских знаний[747]. Казалось, что два длинных текста — один текст Сенеки (N. Q. 2, 31–41 и 47–51), а второй текст Плиния (N. H. 2, 137–146), причем оба текста опирались на Цецину и достаточно согласовались друг с другом в общих чертах — описывают доктрину, которая, несмотря на рано замеченные аналогии с греческой Метеорологикой[748], заслуживала того, чтобы считаться этрусской. Существовала еще теория громов — или, вернее, список смыслов грома в зависимости от моментов года, который имеется в О происхождении и развитии искусства гадания: произведении Лида, опиравшегося на неизвестного автора (принадлежавшего, несомненно, к той же школе); а кроме того, был еще сохраненный тем же Лидом бронтоскопический календарь, который составил Нигидий Фигул[749]. В наше время уже невозможно так легко доверять этим текстам. По крайней мере, мнения о них значительно расходятся. В качестве примера мы рассмотрим Tonitruale[750] — последний месяц пифагорейского календаря. В 1951 г. почти одновременно появляются две работы: автор одной из них — Андре Пиганиоль[751], автор второй работы — Стефан Вайнсток[752]. Исходя из одних и тех же фактов, они пришли к противоположным выводам по самому важному вопросу. Исходя из знаменитой статьи, которую написали Carl Bezold и Franz J. Boll[753], а также из недавних работ René Labat[754], Пиганиоль прежде всего отметил, что этот список построен по образцу месопотамских перечней. Для каждого дня года в одной (обычно краткой) фразе указывается смысл грома: так, например, если гром гремит 15-го июля, то будут распри в народе и нехватка вина; 16-го июля восточного царя постигнут война и болезни, вызванные засухой, и т. д. Так действуют календари библиотеки Ашшурбанипала, а также менологии и гемерологии Ашшура. Более примечательно, что пейзажи и нравы — восточные. В стране, где составлен календарь, боятся большой жары, хороший ветер дует с востока, кузнечики наносят вред, преступников сажают на кол, женщины заводят интрижки с рабами. «Не кажется дерзким утверждение, что этрусский текст сам переведен с халдейского оригинала». Однако этот оригинал в политическом отношении применен к этрусской жизни.«Речь идет о могущественных людях, стремящихся к монархии, о владыках города, о раздорах между вельможами, о конфликтах между власть имущими и народом. Картина эта имеет сходство с борьбой сословий в Риме времен Цицерона. Однако, по-видимому, здесь четко отражены беспорядки в этрусских городах, но формулировки слишком туманны, чтобы быть приложимыми к какому-то критическому периоду жизни восточных городов. Во всяком случае, такие выражения встречались в других этрусских книгах. Сервий пишет (Aen. 2, 649: “По поводу молнии в секретных книгах написано, что если она поражает вождя или царя (principem ciuitatis uel regem), и если он при этом выживает, то его потомки прославятся”. Также и Фест (c. 289 L2) говорит о молнии, которая обещает могущественным неожиданные почести».И вот, вскоре после возвращения Цицерона из ссылки, в 56-м году, кроме прочих знамений на латинских землях происходит грохот и глухой рокот, раздается раскат грома. Обратились к гаруспикам. Они дали совет, известный в наших исследованиях, ибо Карл Тулин подверг его тщательному анализу. Гаруспики назвали поименно богов, которых надо умиротворить, перечислили их претензии и возвестили опасность в ближайшем будущем. Риск заключался в следующем: «Следовало опасаться, — переводит Пиганиоль, — что вследствие раздоров между вельможами останутся незамеченными убийства и опасности для вождей, так что, не получив поддержки, они падут, и это приведет к тому, что провинции подпадут под власть одного человека, что армия потерпит поражение, и наступит упадок», — deminutio. Как указывает Пиганиоль, это слово соответствует оригинальной оценке. В Tonitruale Нигидия читаем то, что относится к 25-му сентября:
«Если прогремит гром, то — в результате беспорядков и раздоров в государстве — появится тиран. Сам он погибнет, но власть имущие подвергнутся невыносимым испытаниям».Французский историк делает вывод:
«Кажется очевидным, что римские гаруспики навели справки если не в самом календаре Нигидия, то, во всяком случае, в аналогичном документе. Впрочем, вполне вероятно, что Цицерон произнес свою речь об ответе гаруспиков именно в сентябре. Таким образом, мы можем выявить преемственность, которая идет от халдейского календаря, через этрусскую книгу, и от нее к ритуалам римских гаруспиков».Такая интерпретация не делает этрусскую доктрину значительно старше: она просто связывает ее — через недавнее заимствование — с Халдеей, причем посредниками, по-видимому, были те «кочующие халдеи, которые заполонили Запад во II в. до н. э.». Но это толкование допускает (или, скорее, предполагает), что устанавливает тот факт, будто список Нигидия точно копирует этрусский образец, с которым сообразуется совет 56 г. Вайнсток тоже считал, что этрусское учение возникло на востоке, и что оно всего лишь одно из многих адаптированных изложений халдейской доктрины, влияние которой в течение долгого времени чувствовалось повсюду в бассейне древнего Средиземного моря. Он тоже считает, что с такой оговоркой образец, который предложил Нигидий, можно называть этрусским, поскольку гаруспики не переводили текст, а копировали его. Но действительно ли то, что передает Нигидий, и есть этрусский образец? Нет, Нигидий, в свою очередь, также скорее копировал, чем переводил. При этом, копируя, он вдохновлялся римскими обстоятельствами. Вайнсток не делает выводов ни из рубрики 25-го сентября, ни из совета гаруспиков в 56-м году, он лишь выделяет несколько примеров (действительно показательных), позаимствованных им из краткого обзора, который опубликовал Kroll: по-видимому, именно на Рим указывают слова βασιλίς πόλις (с. 65, l. 13 Wachsmuth2) и πόλις (77, 22). Раздоры, гражданские войны, заговоры предсказываются довольно часто, например, 70, 17, οΐ ύπεξούσιοι των εύγενων σκέψονταί τι καινόν έν τοίς κοινοίς (Kroll переводит это как «государственный переворот устроили первые из знати»). Нередко упоминаются тиран и страдания, которые приходится выносить по его вине. В двух отрывках идет речь о правлении одного человека, εις ένα τήν πάντων δύναμιν έλθείν φράζει· ούτος δέ έσται τοίς πράγμασιν άδικώτατος (66, 16) и εύνοία του δήμου άνήρ τις είς &κρον εύδαιμονίας άρθήσεται (87, 16)[755]. При этом тон повествования в них настолько разный, что можно предположить, что в одном из них идет речь о Цезаре, а в другом — о Помпее. Таким образом, то, что Лид скопировал у Нигидия Фигула, это просто бронтоскопический календарь, составленный «в стиле этрусков», но содержание которого во всех подробностях было «обработано» римским писателем, — как выразился Вайнсток. Следовательно, перед нами документ не подлинный, а поздний. Впрочем, и Нигидий, и Лид честно предупредили читателя. В конце Tonitruale мы видим следующую фразу: «Нигидий заявил, что эта бронтоскопия дней не применима повсеместно, она касается только Рима». Если вернуться к ответу, который гаруспики дали в неизвестное нам число в 56-м году, то он кажется настолько соответствующим событиям, происходившим в Риме в то время, что напрашивается мысль — не они ли послужили толчком для гаруспиков, хотя им и не пришлось приводить параграфов из гемерологии. Во всяком случае, рубрика Нигидия, относящаяся к 25-му сентября, гораздо более ясна, чем тогдашний ответ гаруспиков. В ней не только предсказываются раздоры в государстве и появление тирана, но также и его гибель, и тяжкие испытания для власть имущих. В последний век Республики, перед мартовскими идами, многие стечения обстоятельств подходят под эту схему. Так, например, доверенное лицо и вдохновитель Цицерона[756] вполне мог иметь в виду сентябрь 63 г., когда Катилина заканчивал подготовку заговора, которому предстояло выявить устремления, стать причиной его гибели, и — в качестве последствия — привести к ссылке бывшего консула. Так и Boll, с которым согласился Вайнсток, усмотрел римский «источник», т. е. события римской истории, вдохновившие неизвестного автора трактата о молниях περί κεραυνών, и Лид также сохранил это в своем повествовании: с. 106, l. 27 W2 (солнце в Рыбах), «Молодой аристократ будет воевать с пиратами и уничтожит их, и эта победа прославит его» (намек на Помпея, победившего пиратов); 105, 22 (солнце в созвездии Скорпиона), «Если молния ударит в какую-либо часть общественных владений, тогда бессовестный юноша попытается захватить царскую власть с помощью гиблых людей, темных личностей» (это намек на заговор Катилины); 103, 15 (солнце в созвездии Близнецов), «Два человека будут соперничать в борьбе за царскую власть, и в сенате будет раскол; вскоре после этого каждый из них погибнет, а многие люди окажутся из-за них в большой опасности» (соперничество Помпея и Цезаря). Эти действительно вызывающие удивление совпадения наводят на мысль, что Нигидий и другие эрудиты, скорее, адаптировали, чем переводили этрусские ученые писания. Ни один человек того времени не усмотрел бы здесь мошенничества: в самом Риме теория «хороших» и «плохих» дней обогащалась за счет опыта, за счет истории, за счет поражений, подобных поражению при Аллии. Обновление, модернизация — разве это не было самым лучшим доказательство жизнеспособности Этрусских знаний? Это прекрасно знал Цицерон, который, рассказав о рождении Тагета и о первом откровении гаруспиков, добавляет (Diu. 2, 51), что эта наука postea creuisse rebus nouis cognoscendis et ad eadem illa principia referendis[757]. Выражение res nouae cognoscendae («новые познания») говорит о многом. Если история последнего века Республики, наряду с рецептами бродячих халдеев, дала осмысление некоторых ударов грома или некоторых молний, то общая теория, интерпретирующая их, в свою очередь, черпала в греческой физике и философии, и на этот раз именно Сенека свидетельствует об этом, давая следующую характеристку своему учителю, стоику Атталу: наш Аттал, соединивший этрусскую науку с греческой тонкостью[758] (N. Q. 2, 50). Вайнсток очень тщательно изучил тексты Исследований о природе и Естественной истории, на анализе которых Карл Тулин построил свой доклад, и эти тексты не имеют себе равных по значимости. Рассказ Плиния составлен плохо: это набор небрежно сложенных листков, и даже слегка спутанных, как нередко бывает в творчестве этого великого человека. Сенека говорит проще и изящнее. К этим двум авторам, а также к нескольким отрывкам из Цицерона, Сервия, Феста и Арнобия — и сводится все, что мы знаем. Этруски, — говорит Плиний (2, 143), — делят небо на шестнадцать регионов, в которых Цицерон (Diu. 2, 42) усматривает результат двух последовавших друг за другом делений на две части римского деления на четыре части. Восемь из этих регионов расположены к востоку от линии север — юг, а другие восемь — к западу от этой линии. Первые называются левыми «sinistrae», а вторые — правыми «dextrae», что отражает ориентированность на юг. Первые считаются благоприятными, а вторые — неблагоприятными: и тем более благоприятными и неблагоприятными, чем они — каждый в своей половине — ближе к северу (по-видимому, потому, что север — это место, где пребывают боги; Fest. c. 428 L2). «Смысл» молнии определяется той частью неба, из которой она приходит, и той, куда она добирается (unde uenerint fulmina et quo concesserint), а также той частью неба, куда она «отпрыгивает» (resilire, reuerti; Sen. N. Q. 2, 57, 4), поскольку этруски приписывали молниям такое свойство. В то время как в понимании римлян только Юпитер и Сумман могут извергать молнии и громы, причем Сумман — ночью, этруски признают такую привилегию за девятью богами, называя ее словом, этимология которого неизвестна, возможно — транскрипцией этрусского слова: manubiae (удары молний; Serv. Aen. I, 42). Так как Юпитер владеет тремя видами молний, в сумме получается, что различаются одиннадцать разновидностей. Из восьми других божеств, обладающих такой способностью, пять известны достоверно: их латинские имена — Юнона, Минерва[759], Вулкан (Serv. ibid.), Марс, Сатурн (Plin. N. H. 2, 139)[760], однако нам неизвестны подробности об их поведении[761]. Напротив, теория Юпитера сохранилась. Конечно, она была самой важной, и вполне понятно, что Сенека в своем трактате, параллельном тексту Плиния, говорит об одном только Юпитере, а не о девяти богах, мечущих молнии. Юпитер не только владел тремя видами молний, он был еще правителем трех из шестнадцати регионов неба: трех первых, — по словам Марциана Капеллы (1, 45–47) и по данным комментария Псевдо-Акрона к Горацию (Carm. 1, 12, 19). При этом не следует думать, что он извергал каждую молнию из одного из своих владений, так как, напротив, об одной из молний (первой?) сказано, что он извергал ее, откуда хотел: toto caelo, hoc est de diuresis partibus caeli, scilicet sedecim (Serv. Aen. 8, 427)[762]. Эти три молнии стали предметом нескольких попыток толкования их происхождения, и поскольку интерпретации были различным, то компиляторы пытались найти соответствия, но убедительной точки зрения никто из них высказать не смог. Самая интересная интерпретация исходит из мифологических представлений (Sen. 2, 41, 1–2): первые удары молний доброжелательны: Юпитер посылает по собственному усмотрению, ни с кем не советуясь[763]. Именно о советующей молнии говорил Сенека несколько раньше (39), и именно эту молнию использует Юпитер для того, чтобы убедить либо отговорить тех, кто замыслил какой-то план. Напротив, вторые и третьи удары молний вредоносны, — либо частично, либо полностью. «Конечно, именно Юпитер посылает вторые удары молний, — говорит Сенека, — но он делает это после того, как созывает двенадцать богов и спрашивает их мнение. Эта молния тоже делает иногда что-нибудь хорошее, не без того, однако, чтобы навредить: даром она никогда не приносит пользы». Что касается третьего вида молний, то Юпитер извергает их только посоветовавшись с богами, которых называют высшими и скрытыми. Дело в том, что эти молнии действительно разрушают все, что поражают, изменяя обстоятельства и состояние дел как в частной, так и в общественной сфере, «ибо огонь не оставляет ничего от того, что было». По крайней мере, в последней части эта картина присоединяет к мифологической классификации (исходящей из характера и намерений несущих ответственность богов) — другую классификацию, основанную на материальных последствиях действия, а Сенека в предыдущей главе назвал ее «научной»: существует три вида молний — пронзающая, раскалывающая, сжигающая, — причем последний вид имеет многочисленные подразделения. Кроме этого Фест (c. 255 L2) вводит классификацию по величине: первые удары молний Юпитера — наименьшие, вторые — больше, третьи — еще больше[764]. Несмотря на обилие комментариев, а также множество исторических или псевдоисторических событий, к которым применена данная теория, мы все же менее детально информированы о других частях искусства молний (ars fulgurales). Однако от Сенеки (Sen. N.Q. 2, 48, 2) — от его философа Атала — мы знаем, что специалисты оценивали каждый случай в зависимости от следующих категорий, в которых, впрочем, нет ничего неожиданного: место, время, адресат, обстоятельства (ubi factum sit, quando, cui, in qua re), характер и сила молнии (quale, quantum). Они различали (2, 50, 1; ср. 51, 1): молнии, знак которых относится к человеку; молнии, ничего не предсказывающие; и молнии, которые, возможно, имеют смысл, затрагивающий нас, либо такие, интерпретация которых недоступна нашим силам. Плиний (Plin. N. H. 2, 113) тоже разделяет молнии на fulmina fatidica, bruta, uana. Целая казуистика осмысляла молнии в зависимости от мест — общественных или частных, мирских или священных, — в которые они попадали. Учитывалась также связь молнии с тем, насколько человек продвинулся вреализации своего плана (до, после, без связи). В зависимости от значимости предостережения или опасности, о которых они сигнализировали, различали молнии perpetua, finite (только на какое-то время) и prorogatiua (отсроченные). Последняя разновидность молний вводит понятие, которое, видимо, было важным для всех отношений человека с богами, а именно — понятие отсрочки. Prorogatiua были те молнии, которые сигнализировали не об устранении опасности, а о том, что ее можно отсрочить, если выигранное время — не больше десяти лет в частной сфере и не больше тридцати лет в общественной сфере. Вся эта наука приводила к практическим мерам, направленным на то, чтобы очистить место, предмет, живое существо, в которые попала молния. Определить необходимые меры можно было по карте шестнадцати регионов неба. Очищение земли, в которую ударила молния, заключалось в том, что уничтожались следы происшествия (condere fulmen) — все закапывалось, а кроме того, приносилась в жертву овца (oue expiare). Место, которое римляне считали связанным с религией и которое нельзя было топтать, называлось puteal (путеал, «колодец для молнии») или bidental (место, пораженное молнией)[765]. Древние обычно объясняли, что это место… где были принесены в жертву бараны, которые имели два резца (dentes praecisores; Ps.-Acro ad. Hor. ad Pis. 471). Во всем этом Usener не без основания усматривает образ молнии-гарпуна, конкурировавшего с греческим трезубцем. Специальные предписания предусматривали различные случаи, когда молния попадала в разные породы деревьев (Plin., N. H. 15, 57; 17, 124; Варр. R.R. 1, 40, 5). Другая часть этого тонкого искусства ставила молнию на службу человеку, согласно теории посещений молний (fulmina hospitalia) и помощи от молний (fulmina auxiliaria). На них указывают и Сенека (N. Q. 2, 49, 3), и Плиний. По мнению Плиния (N.H. 2, 140), некоторые жертвоприношения и некоторые молитвы могли либо задержать молнию, либо получить ее (uel cogi, uel impetrari), и как доказательство он приводит чисто этрусский пример — легенду о Вольсиниях: царь Порсена именно так добился того, что молния поразила чудовище, которое опустошало территорию города. Что касается гостеприимных молний, то в этих случаях Юпитер сам являлся в виде гостя в различных видах небесного огня, что было не лишено опасности, самым известным примером которой в Риме была трагическая смерть Тулла Гостилия. Критическое рассмотрение этих данных начал Тулин, затем его мощно продвинул Вайнсток. Конечно, не все предлагавшиеся сопоставления с учениями и техническими приемами, существовавшими в Греции или на Ближнем Востоке, в равной степени убедительны, однако нет сомнения в том, что мы здесь имеем дело с «наукой» недавней, авторы которой черпали материал во всех источниках эллинистической эпохи, начиная с Метеорологики, приписываемой Аристотелю, и до болтовни странствующих халдеев. Под этими наслоениями трудно выявить древнее ядро. Даже те данные, которые поначалу казались самыми своеобразными, получили интерпретацию, в которой с приемлемой степенью правдоподобия указывались их источники. Уже Тулин объяснил одиннадцать видов молний[766] как отражение древнего вавилонского зодиака, имевшего одиннадцать знаков, в котором Скорпион содержал то, что позднее образовало Весы, и это было известно и в Греции, и в Великой Греции, судя по Федру Платона (246е) и по диску из Тарента, относящемуся к IV в., а также об этом упоминали многие астрономы: было ли это прямым заимствованием этрусских ученых у вавилонян или это было результатом посредничества греков? В любом случае это заимствование. «Научные» интерпретации трех видов молний Юпитера по их воздействию (quod terebrat, quod discutit, quod urit[767], и т. д.) восходят к греческой метеорологии, которая дает несколько вариантов. Двенадцать богов Советников (Consentes или Complices), которые помогают Юпитеру, когда речь идет о том, чтобы он изверг второй вид молний, — это отражение древних этрусских представлений. Они смущали римских эрудитов, которые — в выражениях, более подходящих для Высших (Superiores) богов, — иногда называли их этрусскими «Пенатами», что тоже представляется неясным понятием. Во всяком случае, если они древние, то они были истолкованы «по вкусам» того времени. Так, Арнобий (3, 40), — как передает Варрон, — сказал, что они обязаны своим именем тому факту, что «они встают и ложатся спать одновременно, вместе, шесть особ мужского пола и шесть особ женского пола». Эти выражения указывают на систему знаков зодиака, но состоящую из двенадцати элементов, и напоминают египетское учение, в котором четырем элементам предназначаются дважды четыре божественных покровителя, одни — мужского пола, другие — женского[768]. Греки тоже — Евдокс, Платон, — по-видимому, идентифицировали знаки двенадцати месяцев с древним своим представлением о δώδεκα θεοί[769], культ которых существовал в Афинах с конца VI в. и которые торжественно вошли в пантеон в Риме во время лектистерний 217-го года. Что касается представления о богах, советниках великого бога, то здесь аналогий немало. Например, покровительствующие боги (βουλαίοι θεοί) у халдеев и у египтян, причем последние как раз были двенадцатью богами зодиака. Точно так же обстоит дело и почти со всеми подробностями текстов Плиния и Сенеки, даже в отношении шестнадцати регионов неба, возникших в результате двух последовавших друг за другом делений (осуществленных халдеями и римлянами) неба на квадранты[770]. Но только с появлением богов Высших и Скрытых — мы чувствуем, что прикасаемся к собственно этрусской мифологии судьбы. Однако о них мы ничего не знаем, кроме того, что если их следует отождествить с Пенатами[771], то они — в неизвестном числе и с неизвестными именами — живут в святилище неба.
Можно только согласиться с соображениями, которыми Вайнсток вводит свое доказательство[772]: «В первые века, когда их приглашали в Рим для объяснения знамений, гаруспики не должны были обосновывать то, что они обнаруживали. Однако в эллинизированном Риме ни один римлянин и ни один иноземец уже не могли обсуждать небесные знаки, не зная Метеорологики Аристотеля, не будучи в курсе споров между стоиками и эпикурейцами о предсказании и детерминизме, и т. д. Гару-спики были в состоянии ответить на новые требования, потому что их страна была в не меньшей степени эллинизирована, чем Рим, а также потому, что они всегда стремились «быть в курсе» всего. Этрусские писатели I в. до н. э. были людьми широкой эрудиции и не уступали в этом отношении ни Цицерону, ни Варрону. Тем не менее, одно важное отличие разделяло гаруспиков и теоретиков науки гаруспиков с одной стороны, и римлян — с другой: в то время как греческий ум подготавливал римлян к восприятию многовековой культуры, которая могла их заинтересовать сама по себе, на этрусков греческий ум оказывал влияние только в той мере, в какой он помогал им улучшать и модернизировать их священные книги. И поскольку греки не могли оказать эту услугу в достаточной мере, этруски обратились к писаниям эллинизированных жителей востока».Могла ли теория молний дать возможность пробиться сквозь эту плотную и пеструю оболочку и различить хотя бы малейшие черты этрусской «религиозности»? Даже это маловероятно. Часто выделяют фразу Сенеки, в которой он противопоставляет научный позитивизм греков мистической теологии этрусков (N. Q. 32, 2): «Hoc inter nos (=philosophos) et Tuscos interest: nos putamus, quia nubes conlisae sunt, fulmina emitti, ipsi existimant nubes conlidi, ut fulmina emittantur; nam cum omnia ad deum referant, in ea opinione sunt, tanquam non, quia facta sunt, significent, sed quia significatura sunt, fiant»[773]. Но противоположность, которую подчеркивает Сенека, касается не контраста между греческой наукой и этрусской религией, а противостояния любой науки и любой религии. Выражение cum omnia ad deum referant, по-видимому, приложимо к любому учению о молнии, и если здесь особо выделено этрусское учение, то это просто потому, что Сенека черпает свои сведения из латинского произведения этруска Цецины. Если бы у него в библиотеке были писания халдеев, то он сказал бы то же самое о них. В теории о молниях Юпитера, с грозной свитой советников, которая помогает ему при метании второй, и особенно третьей молнии, часто отмечают также одно из проявлений этого деморализующего абсолютного фатализма, которое считают характерным для этрусков: якобы у этрусков человек подавлен и, в конце концов, покоряется воздействию богов, самые могущественные из которых всегда недоброжелательны. Однако отнюдь не это вытекает из материалов по теме: разделение молний на fulmina fatidica, bruta и uana должно было открыть этрусским ученым, конечно, меньшие пределы свободы, чем у авгура (который отказывается видеть что-то, говоря, что он этого не видел), однако оно все же оставляло им немалую степень свободы. Теория гостеприимных молний (fulmina hospitalia) и помогающих (auxiliaria) даже давала человеку такое могущество, какого римляне за собой не признавали. Цари из мифов — ловкий Нума и неловкий Тулл — не имели последователей в ходе истории. Наконец, представление о доброжелательной молнии, bonum fulmen (по-видимому, самой обычной из трех видов молний Юпитера, имеющей немало аналогий в Греции и в Риме), выявляет — за вызывающими тревогу богами-Советниками и грозными Высшими богами — присутствие очень могущественного бога, союзника людей[774].
Libri haruspicini[775]
В той же степени, что и умение интерпретировать и заклинать молнии, или вычитывать указания, содержащиеся во внутренностях жертвенных животных, римляне выделяли еще одну черту, присущую этрусками. Она им казалась настолько характерной, что Цицерон смело назвал так всю науку[776]. Неясность первой части латинского слова haru-spex[777] способствовала расширению смысла. Но тот же Цицерон на другой странице той же книги сводит значение слова haruspex к ограниченному значению extispex, наблюдатель внутренностей, в противоположность словам fulgurator и interpres ostentorum[778]. Не следует, однако делать вывод, как это нередко бывало, что рассмотрение внутренностей было «исконной и главной составной частью предсказания у этрусков». Во всяком случае, здесь шла речь об искусстве, чуждом для собственно римской религии. Конечно, была важна внешняя и внутренняя безупречность жертвенного животного, его соответствие требованиям, позволяющим принести животное в жертву. Этому придавалось большее значение в Риме (так же, как в Индии). Производился осмотр животного, который назывался probatio и приводил в благоприятном случае к жертвоприношению при благоприятных предзнаменованиях (litatio). Однако первоначально осмотр был лишь контрольной проверкой. Так, несоответствие печени нормам вело к ее отбраковке и к замене ее другой. У этрусков, напротив, подлинный осмотр начинался после probatio. Тщательно изучаются внутренности с целью выявления их нормальности или ненормальности, и этот процесс напоминает чтение книги, раздел за разделом. Это в особенности касается печени, которую ее форма и топография как бы предназначают для такого использования. Действительно, в основе науки гаруспиков лежал один принцип, которым руководствовалось все религиозное мышление этрусков: это требование, чтобы различные структурные совокупности, составляющие вселенную, были гомологичны друг другу. Точно так же, как все боги распределяются по совокупности небесных регионов, этот последний «комплекс», с населяющими его богами, отражается в комплексе, который составляют части печени барана, принесенного в жертву, и из состояния каждой из этих частей можно делать выводы о мистическом состоянии соответствующего региона неба и о намерениях того божества или тех божеств, которые им управляют. Внешнее, но значимое следствие заключается в том, что римлянин, приносящий жертву, осматривает органы жертвы там, где они находятся в ее теле, adhaerentia exta, тогда как гаруспик технически вынужден их из тела извлекать. Другим следствием, когда в Риме распространилась деятельность гаруспиков, стало то, что начали различать вопрошаемые жертвы (hostiae consultatoriae), служившие для пророчества, и одушевленные жертвы (hostiae animals), когда богу-адресату приносили в жертвенный дар «душу», жизнь. В 1877 г. в окрестностях Госсоленго, на юго-западных подступах к Пьяченце, было сделано такое открытие, каких хотелось бы побольше: выкопанный археологами предмет оказался воспроизведенной в бронзе бараньей печенью, на которую были нанесены линии и имена богов[779]. Очевидно, это был образец, руководство для исследования печени. Здесь сконцентрировалось все учение гаруспиков. Сомнений нет: это воспроизведенный в миниатюре макрокосмос, причем на двух сторонах органа изображения разные. До сих пор продолжаются споры о том, к какому времени относится печень, найденная в Пьяченце. Наиболее вероятна гипотеза Körte, который относит ее к III или II в. до н. э., к эпохе «этрусского Возрождения», о котором говорилось выше. Однако возможно, что эта печень относится к более позднему времени (как предполагает Deecke, — к концу эпохи Республики)[780]. Символика выпуклой стороны проста. Она разделена выпуклой линией, проходящей между двумя долями (fibrae). На каждом из этих «полей» написано по одному слову: usils — на правом, tivr — на левом. По общему мнению, это названия солнца и луны. Следует, по-видимому, предположить, что каждая из двух долей соответствует половине пространства или времени, и что эти две половины рассматривались, соответственно, как светлая, солнечная сторона, и как лунная — ночная. Вполне вероятно, хотя и недоказуемо, что эта структура соответствует той, которая лежит в основе искусства молний (ars fulgural), и на которой шестнадцать частей неба распределены по двум половинам, по обе стороны оси север — юг: «левая» (к востоку) — благоприятная, а «правая» — неблагоприятная. Соответствует ли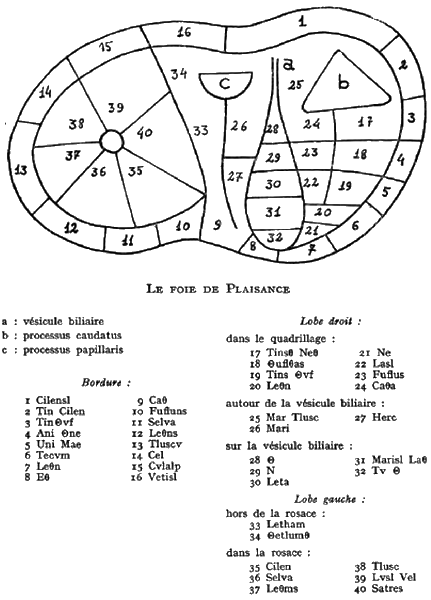 Соответствует ли это делению печени на pars familiaris[781] и pars hostilis (inimica)[782], о котором говорит Цицерон (Diu. 2, 28; ср. Liv. 8, 9, 1; Luc. Phars. 1, 621)? Так принято считать. Но мы не знаем, для какого вида заключения служило разделение этой грани.
Вогнутая сторона обработана в гораздо большей степени. На ней сорок имен богов, чаще всего вписанных в закрытые ячейки, которые образуют кайму по всему краю. Сначала весь контур разделен на шестнадцать частей. Конечно, число шестнадцать здесь не случайность. Эти маленькие неправильные прямоугольники представляют собой проекции шестнадцати регионов неба. Если отвлечься от каймы, то две различные структуры покрывают доли. Большая — и самая внешняя — часть левой доли разделена на шесть неправильных трапеций, расположенных так, что образуют розетку. Остальное — часть самая близкая к сужению, соответствующему поддерживающей связки печени, — содержит два имени, не обрамленные никакой линией (всего восемь имен). Правая доля и, выступая над ней, желчный пузырь, расчерчены довольно правильными клеточками, а в прямоугольниках этих клеток расположены тринадцать имен, к которым добавляются еще три имени, не полностью обрамленных клетками (что дает в целом шестнадцать имен). Эта противопоставленность розетки слева и решетки справа, несомненно, имела значение, которое нам недоступно. В принципе это напоминает индоевропейское противопоставление круглого и квадратного, которое было рассмотрено выше в связи с римским учением о священных огнях, и которое — в ведическом понимании — сводится к следующему: круг — это посюсторонний мир, а квадрат — это мир небесный.
Две неясности делают рискованной любую попытку подробной трактовки вогнутой стороны: многие имена представлены сокращениями, состоящими только из начальных букв; направленность печени, линия, которая должна изображать ось север — юг, вызывает разногласия.
То, о чем можно судить по именам богов, написанных на печени, будет рассмотрено в дальнейшем. Что касается направленности, то наиболее вероятной и самой естественной является та, которую предположил Albert Grenier[783]: это частично обозначенная линия, соединяющая два «залива» каймы по обе стороны сосочкового отростка (processus papillaris). По-видимому, она представляет собой ось север — юг, причем север находится там, где возвышение ближе всего к краю. Если это так, то следует начать и закончить нумерацию клеток бордюра как раз над processus papilaris, и тогда ячейки 1 (Восток) и 16 (Запад) соприкоснутся. Восток (благоприятный) займет здесь часть каймы, входящую в правую долю. Запад (неблагоприятный) займет левую долю. Но эти обозначения, по-видимому, годятся только для бордюра, тогда как части розетки и решетки, расположенных внутри, имеют другую символику. Положение «Юпитера», по-видимому, говорит в пользу этой интерпретации. Он не занимает ячейку 1 (помеченную Cilensl), но присутствует в ячейках 2 (Tin(ia) Cilen) и 3 (Tin(ia) θvf). Более того, ячейка 16 помечена Vetisl: если это существительное (с генитивом на l) является, как предполагают, транскрипцией имени подземного Юпитера (?) латинян (Vedius), то «Jupiter» был бы в трех ячейках — двух самых лучших (после 1) и в самой плохой (подобно тому, как он присутствует в трех регионах неба, но, — по словам Марциана Капеллы, — в трех первых), причем ячейка 1 резервируется, возможно, под именем Cilen-, для таинственных богов «Высших и Скрытых», либо для Пенатов[784], которые — как своеобразный совет судьбы — кажутся более могущественными, чем сам Юпитер. Это всего лишь гипотеза. Примечательно, но и тревожно, что ни в одном из этих четырех упоминаний (двух о бордюре; двух о правой доле — Tinsi Nei, Tins ivf) имя Tinia не единственное, как следовало бы ожидать по отношению к верховному богу.
Открытие печени в Пьяченце подкрепило и уточнило исследования сравнительного гадания на печенке. Начиная с 1960 г., Карл Тулин долго занимался ее сравнением с моделями из терракоты, которые имели такое же применение в Месопотамии, в частности он сравнил ее с двумя экземплярами Британского музея, покрытыми надписями[785]. В дальнейшем возможностей сравнения стало больше. Работы René Labat и господина Jean Nougayrol, в частности, во Франции, уточнили и исправили представление, которое существовало в начале XX в. относительно ассиро-вавилонской науки гаруспиков, а с другой стороны — прочтение текстов на хеттском языке открыло доступ к новому пространству. Каковы же на сегодняшний день результаты этих долгих усилий?
Действительно, отношения преемственности вполне вероятны, но они не доказаны, так как выявленные аналогии носят очень общий характер. Например, месопотамские изображения печени, которые использовал Тулин (остающиеся лучшими документами до сих пор), не дают, однако, того, что первостепенно важно для печени, найденной в Пьяченце: явного соответствия между космосом и поверхностью модели. Нет ни каймы, ни противопоставления розетки и решетки. В ячейках нигде нет имени бога. То, что написано на различных частях органа, — это короткие фразы, возвещающие конкретное действие бога или даже событие, не подкрепленное никаким именем бога[786]. Предполагаемые несколько совпадений в деталях — между расположением на поверхности печени этрусского бога и вавилонским пророчеством относительно возможности его места — не слишком убедительны[787]. Так, опираясь на Alfred Boissier, Тулин говорит[788], что на халдейской печени, которую он рассматривал, желчный пузырь имел надпись из пяти строк, четвертая из которых, по-видимому, означала «и дождь во вражеской стране (?)». Но, как указывает Плиний (N. H. II, 195), гаруспики приписывали желчный пузырь «Нептуну». А желчный пузырь печени из Пьяченцы тоже имеет пять надписанных делений, и во втором из них есть буква N, которую можно считать инициалом Нептуна… Самое интересное толкование содержится в высказывании Nougayrol:
Соответствует ли это делению печени на pars familiaris[781] и pars hostilis (inimica)[782], о котором говорит Цицерон (Diu. 2, 28; ср. Liv. 8, 9, 1; Luc. Phars. 1, 621)? Так принято считать. Но мы не знаем, для какого вида заключения служило разделение этой грани.
Вогнутая сторона обработана в гораздо большей степени. На ней сорок имен богов, чаще всего вписанных в закрытые ячейки, которые образуют кайму по всему краю. Сначала весь контур разделен на шестнадцать частей. Конечно, число шестнадцать здесь не случайность. Эти маленькие неправильные прямоугольники представляют собой проекции шестнадцати регионов неба. Если отвлечься от каймы, то две различные структуры покрывают доли. Большая — и самая внешняя — часть левой доли разделена на шесть неправильных трапеций, расположенных так, что образуют розетку. Остальное — часть самая близкая к сужению, соответствующему поддерживающей связки печени, — содержит два имени, не обрамленные никакой линией (всего восемь имен). Правая доля и, выступая над ней, желчный пузырь, расчерчены довольно правильными клеточками, а в прямоугольниках этих клеток расположены тринадцать имен, к которым добавляются еще три имени, не полностью обрамленных клетками (что дает в целом шестнадцать имен). Эта противопоставленность розетки слева и решетки справа, несомненно, имела значение, которое нам недоступно. В принципе это напоминает индоевропейское противопоставление круглого и квадратного, которое было рассмотрено выше в связи с римским учением о священных огнях, и которое — в ведическом понимании — сводится к следующему: круг — это посюсторонний мир, а квадрат — это мир небесный.
Две неясности делают рискованной любую попытку подробной трактовки вогнутой стороны: многие имена представлены сокращениями, состоящими только из начальных букв; направленность печени, линия, которая должна изображать ось север — юг, вызывает разногласия.
То, о чем можно судить по именам богов, написанных на печени, будет рассмотрено в дальнейшем. Что касается направленности, то наиболее вероятной и самой естественной является та, которую предположил Albert Grenier[783]: это частично обозначенная линия, соединяющая два «залива» каймы по обе стороны сосочкового отростка (processus papillaris). По-видимому, она представляет собой ось север — юг, причем север находится там, где возвышение ближе всего к краю. Если это так, то следует начать и закончить нумерацию клеток бордюра как раз над processus papilaris, и тогда ячейки 1 (Восток) и 16 (Запад) соприкоснутся. Восток (благоприятный) займет здесь часть каймы, входящую в правую долю. Запад (неблагоприятный) займет левую долю. Но эти обозначения, по-видимому, годятся только для бордюра, тогда как части розетки и решетки, расположенных внутри, имеют другую символику. Положение «Юпитера», по-видимому, говорит в пользу этой интерпретации. Он не занимает ячейку 1 (помеченную Cilensl), но присутствует в ячейках 2 (Tin(ia) Cilen) и 3 (Tin(ia) θvf). Более того, ячейка 16 помечена Vetisl: если это существительное (с генитивом на l) является, как предполагают, транскрипцией имени подземного Юпитера (?) латинян (Vedius), то «Jupiter» был бы в трех ячейках — двух самых лучших (после 1) и в самой плохой (подобно тому, как он присутствует в трех регионах неба, но, — по словам Марциана Капеллы, — в трех первых), причем ячейка 1 резервируется, возможно, под именем Cilen-, для таинственных богов «Высших и Скрытых», либо для Пенатов[784], которые — как своеобразный совет судьбы — кажутся более могущественными, чем сам Юпитер. Это всего лишь гипотеза. Примечательно, но и тревожно, что ни в одном из этих четырех упоминаний (двух о бордюре; двух о правой доле — Tinsi Nei, Tins ivf) имя Tinia не единственное, как следовало бы ожидать по отношению к верховному богу.
Открытие печени в Пьяченце подкрепило и уточнило исследования сравнительного гадания на печенке. Начиная с 1960 г., Карл Тулин долго занимался ее сравнением с моделями из терракоты, которые имели такое же применение в Месопотамии, в частности он сравнил ее с двумя экземплярами Британского музея, покрытыми надписями[785]. В дальнейшем возможностей сравнения стало больше. Работы René Labat и господина Jean Nougayrol, в частности, во Франции, уточнили и исправили представление, которое существовало в начале XX в. относительно ассиро-вавилонской науки гаруспиков, а с другой стороны — прочтение текстов на хеттском языке открыло доступ к новому пространству. Каковы же на сегодняшний день результаты этих долгих усилий?
Действительно, отношения преемственности вполне вероятны, но они не доказаны, так как выявленные аналогии носят очень общий характер. Например, месопотамские изображения печени, которые использовал Тулин (остающиеся лучшими документами до сих пор), не дают, однако, того, что первостепенно важно для печени, найденной в Пьяченце: явного соответствия между космосом и поверхностью модели. Нет ни каймы, ни противопоставления розетки и решетки. В ячейках нигде нет имени бога. То, что написано на различных частях органа, — это короткие фразы, возвещающие конкретное действие бога или даже событие, не подкрепленное никаким именем бога[786]. Предполагаемые несколько совпадений в деталях — между расположением на поверхности печени этрусского бога и вавилонским пророчеством относительно возможности его места — не слишком убедительны[787]. Так, опираясь на Alfred Boissier, Тулин говорит[788], что на халдейской печени, которую он рассматривал, желчный пузырь имел надпись из пяти строк, четвертая из которых, по-видимому, означала «и дождь во вражеской стране (?)». Но, как указывает Плиний (N. H. II, 195), гаруспики приписывали желчный пузырь «Нептуну». А желчный пузырь печени из Пьяченцы тоже имеет пять надписанных делений, и во втором из них есть буква N, которую можно считать инициалом Нептуна… Самое интересное толкование содержится в высказывании Nougayrol:
«Боги ассирийской науки гаруспиков — это Шамаш (бог-солнце) и Адад (бог грозы). Присутствие Шамаша само собой разумеется: он сам читает текст пластин сквозь оболочку, и сам же записывает свое послание на животе ягненка. Но присутствует Адад — верховный бог горных местностей Севера, Ассирии, Урарту, хурритов, хеттов северной Сирии — под различными именами, которые не скрывают, однако его основной сути. Его присутствие оправдано только в том случае, если, в какое-то время прорицатели Месопотамии и Египта присоединили экстиспиций (extispicine) — обряд, пришедший из Вавилона (Sippar, Larsa), — к бронтоскопии и к предсказанию по грому (kéraunoscopie), по-видимому, более процветающим на верхнем периметре плодородного полумесяца[789]».Но и это не доказательно: ведь вполне естественно, что народы, у которых предсказание играет важную роль, устанавливают связи между различными техническими приемами прорицателей и мифической их опорой. Те, кто не теряет надежду найти в этрусских данных последних веков до нашей эры учения, принесенные в Италию семью или восемью веками ранее переселенцами из Малой Азии, многого ждали от хеттской науки гаруспиков, представленной в многочисленных документах, — в надежде обрести в ней прямой или близко родственный ему источник науки тирренийцев. После первых восторгов пришлось признать очень важный факт: хеттская наука гаруспиков — в той мере, в какой она происходит от вавилонской — сначала была переосмыслена хурритами, которым хетты многим обязаны, и эти хурриты навязали глубокие искажения, введя новую лексику (например, искажения, касающиеся желчного пузыря). Господин Emmaneul Laroche в конце наводящей на размышления статьи[790] делает следующий вывод:
«Гипотеза передачи науки гаруспиков жителям запада (лидийцам, этруско-римлянам) хеттами гораздо сложнее, чем обычно думают (A. Boissier, G. Contenau, A. Grenier). Если признать более тесным родство между вавилонским и этрусским пророчествами, чем родство между пророчествами вавилонян и хеттов, то проблема этрусской науки гаруспиков не может быть решена анатолийским путем».Исследования привели к следующему: Этрурия не продолжает анатолийскую область месопотамской науки гаруспиков, и те аналогии, которые наблюдаются между Этрурией и Месопотамией, следует объяснять позднейшими влияниями и заимствованиями. Но к какому времени следует их отнести? В принципе, здесь возможны любые времена. Nougayrol указывает:
«Ассиро-вавилонская наука гаруспиков — это непрерывная традиция, которая предстала перед нами «во всеоружии» уже на грани второго тысячелетия до нашей эры, и она продолжается (дополняясь, прежде всего, тонкими комментариями или критическими замечаниями) до кануна нашей эры. Самые лучшие «гепатоскопические» пластинки — луврские — относятся к 90-м годам эпохи селевкидов… Макеты и анатомические схемы эпохи саргонидов тоже дошли до нас. Если археологических данных об этом времени меньше, чем о временах Хаммурапи или пост-амарнского периода, то это просто случайность. Другими словами, этрусские макеты — как бы мы их ни датировали — всегда найдут современников на востоке».Этрурия, как и Греция, по-видимому, весьма рано познакомилась подробно с этими учениями, а может быть — именно Греция послужила посредником. Такой вариант исключать не следовало бы. Как напомнил Nougayrol, значительная часть лексики, связанной с гепатоскопией, содержавшейся у Исихия[791], была буквальным переводом образных выражений, употребляемых вавилонянами («путь», «дорога», «препятствие», «река», «большие двери» и т. д.). Впрочем, вполне возможно, что Этрурия черпала свои понятия или технические приемы из многих источников, либо — если угодно — была связана с Вавилоном разными способами. Печень из Пьяченцы — самый эффектный, но не единственный образец среди того, что нам оставили этруски[792]. Есть один пример совершенно другого типа — это печень Старых Фалериев (Falerii Veteres), сохранившаяся на Вилле Джулии, по-видимому, с III в. до н. э. На нее также указал Nougayrol. Этот «скромный глиняный макет» не украшен столь богатыми иллюстрациями, как бронзовый, однако весьма знаменательна сама сдержанность в его оформлении. Кроме трех выпуклостей, непременно показываемых на любом изображении печени, — желчный пузырь, сосочковый отросток, хвостатый отросток — там есть две перпендикулярные черты в центре левой доли. «Любой ассиролог, хоть немного сведущий в bârûtu, сразу узнает и назовет их: это manzîzu — “присутствие (бога)” и padanu — “путь”, а также бог (θεός) и путь (χέλευθος), по Исихию, — основные элементы гепатоскопической схемы. Действительно, для вавилонских прорицателей и их конкурентов все это имеет большое значение в отношении знамений (omina). Достаточно напомнить, что отсутствие manzîzu означало отсутствие бога, т. е. любая печень без manzîzu — бесполезна». И вот, на схематическом изображении печени Старых Фалериев единственные отмеченные бороздки не могли появиться из простой заботы об анатомической точности. Будучи определяющими для прорицателя или изготовителя макета, они для анатома — всего лишь две незначительные морщинки. «Наши анатомы не обращают на них внимания, а несведущий ум также не различает эти эфемерные следы давления органов от других, которые их окружают». Печень Фалериев, конечно, не была привезена извне, это этрусский стиль изготовления (об этом достаточно говорит пирамидальная форма хвостатого отростка — processus caudatus), и эта печень, следовательно, доказывает, что «при осмотре печени гаруспик точно следовал весьма специфическим принципам анатомического анализа, присущим bârû». Более того: рассмотрение этого макета наводит на мысль о новом пути влияния:
«Каким путем, — говорит Nougayrol[793], — фундаментальная традиция могла дойти из Вавилона в пригород Рима? Возможно, на этот вопрос нам даст ответ одна подробность. Обе печени Мегиддо — палестинского очага международной культуры — имеют пять элементов, изображенных также на печени Фалериев (и только их), и они уже представляют хвостатый отросток не таким, каким он был в действительности, а также на большинстве месопотамских и хеттских печеней (т. е. в виде поднятого пальца), а в геометрической пирамидальной форме, как в Фалериях или в Пьяченце, тогда как их плоскость с левой долей прямоугольной формы, по-видимому, имеет в качестве образца известный вавилонский прототип. Если общая геометрическая форма в виде «пальца» не является простым совпадением, то это значит, что, возможно, именно в Финикии следовало бы искать центр продвигающейся на запад практики, которая повлияла на культуру этрусков в наибольшей степени».На том уровне знаний, на котором мы находимся, нельзя пренебрегать этими гипотезами (конечно, в осторожных формулировках). Не следует также забывать о том, на что уже указывал Тулин, что противопоставление pars familiaris и pars hostilis печени имеется в одном комментарии к Прометею Эсхила, стих 484: желчь, выделенная из пузыря и направленная «в сторону врагов», предвещает их поражение[794]. Наконец, не следует упускать из виду, что — так же, как теория молний — божественная топография печени уделяет большое место богам, которых этруски заимствовали у италийских племен: кроме Ветисла, упомянутого выше, это Ани (Янус), Уни (Юнона), Марис, Сельва(нс), Нет(унс) и, возможно, Вел(ханс), к которым следует добавить Геркле. Следовательно, теологическая система, присоединенная к гепатоскопическим техническим приемам, разнородна и не связана с Ближним Востоком. Так же, как вавилонская наука гаруспиков, у этрусков эта наука не сводилась к изучению гладкой поверхности печени: вены, бороздки, головка печени (caput iecinoris) (по-видимому, хвостатый отросток (processus caudatus) анатомов) — имели свой код, о котором мы мало знаем. Сама печень была всего лишь отборной составной частью большого ассортимента. Судя по тому, во что превратилось этрусское искусство у римлян, и сердце, и легкие и селезенка — также давали знаки. С другой стороны, из нескольких римских выражений можно понять, что гаруспик — так же, как и жрец, гадающий по молниям, — использовал немало уловок. Подобно тому, как молнии, объявленные шальными или бесполезными, считались не имеющими значимости или не относящимися к человеку, так и эксперт мог заявить, что внутренности ни о чем не говорят, что они «немы»: muta exta (безмолвные внутренности) называют те, из которых не давались никакие прорицания (Paul. 274, L2)[795]. Нам неизвестно, на основе каких критериев (или, следовательно, с какой степенью свободы) выносился такой вердикт. Параллелизм с молниями распространяется на помощь внутренностей, которые предостерегают против близкой опасности, пожара, отравления и т. д. (Fest. ibid.). Эти благожелательные внутренности играют, следовательно, такую же роль, как fulgura monitoria — «добрые» молнии Юпитера. Этрусское название гаруспиков не установлено с достаточной достоверностью[796]. Однако можно заметить некоторые особенности их священнослужения, имевшие большое значение как в общественной, так и в частной жизни. Самое явное — это то, что они были выходцами из высших классов общества[797], и это помогает понять, каким образом такое множество иноземных «интеллектуальных» элементов могло постоянно входить в корпус доктрины. Политически можно было констатировать в Риме, что они благоприятствовали оптиматам своих вердиктов, лексика и тон которых поразительно «благородны», аристократичны. Эта направленность проявляется во всем пророчестве этрусков. В календаре, который составил Нигидий Фигул, например, постоянно упоминаются только опасности для людей, которые остаются на месте. Так, только в первые два месяца это: те, кто имеет власть в крепостях и маленьких городах (5 июня), очень могущественный человек (13 июня), очень состоятельный человек (16 июня), глава республики (27 июня), хороший глава (5 июля), великий глава (17 июля), могущественные люди (19 июля), могущественный человек (24 июля); а также «раздоры» в народе, на которые часто делаются намеки, явно рассматриваются как хроническая болезнь аристократической республики. Конечно, можно считать, что все это общие места: «персонажи», столь же ожидаемые в тогдашних совещаниях, как за столом наших гадалок на картах — дама-блондинка и богатый господин. Однако отнюдь не безразлично то, что общие места и ожидаемые персонажи именно эти.
Libri rituales[798]
Материал ритуальных книг выходил за пределы того, о чем возвещает название: наряду с религиозными ритуалами они освещали все, что касается жизни государства и частных лиц. Так, Фест (c. 386 L2) характеризует их следующим образом: «Ритуальными назывались этрусские книги, в которых предписаны обряды, которые должны соблюдаться при создании городов, освящении алтарей и храмов; с какими обрядами мы должны строить стены, по какому праву освящать врата, как мы должны распределять трибы, курии и центурии, устанавливать и упорядочивать войска — в общем, все остальные вещи, касающиеся войны и мира». Однако libri rituales, о которых говорит Веррий Флакк (в передаче Феста), также представляли собой компиляцию, созданную в последние века, и здесь доля римского опыта, отраженная в этрусском учении, по-видимому, была еще более значительной, чем в книгах молний или в книгах о предсказаниях по внутренностям жертвенных животных: каким образом устанавливать и упорядочивать войска, и сразу после упоминания центурий говорится о Марсовом Поле, на котором формировались легионы. Говоря о своем происхождении, римляне (а тем более — романизированные этруски, когда они говорили о Риме) были склонны прикрывать свою деятельность почетной этрусской ширмой, придававшей престижность древности, а также дававшей своеобразную умственную гарантию. Современные авторы идут дальше, и охотно приписывают Этрурии многое из того, что было известно только в Риме и чего сами римляне за этрусками не числили. К такому виду этрускомании следует относиться с большой осторожностью, без излишнего доверия. С другой стороны, будучи подлинно и издревле этрусскими, некоторые религиозные обряды, на самом деле были заимствованы этрусками у самих италийских народов, так что их сходство с римскими обрядами отнюдь не предполагает, что Рим в каком-то случае совершает этрусский обряд, а все дело в том, что это может быть древним италийским обрядом, который этруски превратили в теорию и возродили в этрусской форме, а заимствовали сам обряд у италийских народов или у латинян Рима. Здесь я приведу по одному примеру каждого из этих двух процессов. И начну со второго из них. Древние авторы говорят, что Рим был основан в соответствии с этрусским обрядом (Etrusco ritu)[799]. Так, Варрон (L. L. 5, 143):«Многие закладывали города в Лации по этрусскому обычаю, а именно: впрягши вместе быка и корову, причем корова шла с внутренней стороны, проводили кругом борозду при помощи плуга» (ср. Macr., 5, 19, 11).Так, во-первых, Плутарх (Rom. 11, 1–5) говорит: Ромул вызвал из Этрурии компетентных людей, чтобы они, как в мистериях, обучали ритуалам и формулировкам, подходящим для каждого действия. Был выкопан круглый ров вокруг будущего Comitium, и в него стали бросать первины всего, что считали вкусным или же необходимым для жизни. Затем каждый из присутствующих бросил в ров немного земли, принесенной из родных мест. Этот ров — mundus, центр, вокруг которого в виде круга были намечены контуры города. Сам основатель города вел плуг, запряженный быком и коровой, и он провел глубокую борозду. Люди, шедшие за ним, старательно бросали комья земли внутрь окружности, не оставляя ни одного комка снаружи. Проходя там, где должны были быть двери, вытаскивали лемех из земли и несли плуг на весу. Не называя эту процедуру этрусской, Дионисий Галикарнасский все же по существу говорит то же самое, но, — по его словам, — очерченный плугом периметр был не круговой, а четырехугольный. К каким бы временам они ни относили основание Рима, начиная с первых лагерных стоянок на Палатине, и какой смысл они бы ни придавали выражению Roma quadrata («Четырехугольный Рим»), на которое намекает Дионисий и которое сами римляне уже не слишком хорошо понимали, все современные авторы единодушно признают, что описанные ритуалы основания города были подлинными этрусскими обрядами и что, в частности, mundus, выкопанный в центре пространства, ограниченного вспаханной плугом бороздой, — это подлинный этрусский обычай. Они даже охотно распространяют это свойство на нечто совсем другое, что в Риме также называлось словом mundus, а именно — на колодец, обычно стоявший закрытым, но периодически открываемый для установления связи Рима с подземным миром, с умершими. Действительно, вполне возможно, что ритуал, связанный с mundus, — этрусский обряд. Однако, с другой стороны, он поразительно соответствует древнему ведическому ритуалу, согласно которому ограничивалось квадратное место для жертвенного огня, ориентированного определенным образом — индийского гомолога италийского храма (templum)[800]. Контур очерчивался четырьмя бороздами: сначала проводили прямую борозду с юго-запада на юго-восток, потом — другие, по прерывистой линии, которая проходит через юго-запад, северо-запад, северо-восток, юго-восток. Затем в середине четырехугольника, точно на пересечении диагоналей — в точке, которую они называли «ртом», — священнослужители размещали символический эквивалент mundus: пучок травы дарбха («которая была одновременно и растением, и водой»), и туда выливали двенадцать кувшинов воды (двенадцать — это число месяцев, а вода олицетворяет дождь), а также бросали семена «всех трав» (т. е. «всех видов пищи»). Этот ритуал, несомненно, весьма древний: проведя борозды, служитель культа произносит формулировку, содержащую одно из самых поразительных упоминаний индоиранской группы богов трех функций (это Митра-Варуна, Индра, боги Ашвины), значимость которых уже была невелика в гимнах Ригведы. Народы, занявшие Италию и сохранившие (как мы видели) противопоставление круглого национального очага и храмов, квадратных вследствие их ориентированности по сторонам света, вполне могли принести также обряд четырехугольной вспашки и центрального «рта», символического хранителя всего благого. Следовательно, если и в самом деле классические этрусские знания предвидели urbs quadrata и mundus, то вполне может быть, что этруски — среди других заимствований у италийцев, которых было немало, — также восприняли, кодифицировали и поставили свою метку на эти древние индоевропейские обычаи. Другой пример также касается основания городов. Это последняя глава первой книги Витрувия, о которой мы уже упоминали в связи с капитолийским храмом, о котором часто говорят как об одном из очень редких доказательств того, что объединение в триаду Юпитера, Юноны и Минервы не было особенностью римских Тарквиниев, а просто соответствовало общепринятому у этрусков обычаю. Речь идет о выборе мест, подходящих для возведения общественных зданий. Эту главу необходимо прочитать целиком, не выделяя (как это обычно делают все, даже Тулин) отрывок, в котором говорится о трех божествах:
«Когда уже намечены все улицы, маленькие и большие, следует выбрать места для зданий, пользоваться которыми будут все жители города, т. е. для храмов, форума и т. д. Если стены города идут вдоль моря, место для форума надо выбрать вблизи от порта, но если город стоит на суше, то место для форума должно находиться в центре города. Для храмов богов покровителей города — таких, как Юпитер, Юнона и Минерва — следует выбирать места на самом возвышенном участке города, откуда видна бóльшая часть городских стен. Храм Меркурия должен находиться на форуме, или даже (подобно храмам Исиды и Сераписа) посреди рынка. Храмы Аполлона и Вакха должны располагаться около театра. Храм Геркулеса — в тех городах, где нет гимнасиев и амфитеатров, — должен находиться поблизости от Цирка. Храм Марса следует возводить за пределами города, на Поле, а храм Венеры должен находиться вблизи от порта. Вот, что сказано по поводу всех этих атрибуций в писаниях этрусских гаруспиков (id autem etiam Etruscis haruspicibus disciplinarum scripturis ita est dedicatum): храмы Венеры, Вулкана и Марса размещаются за пределами городских стен — для того чтобы, с одной стороны, страсти не завладели молодежью и матерями семейства внутри города, а также, с другой стороны, потому, что если церемонии и жертвоприношения, напоминающие о могуществе Вулкана, будут проводиться за пределами городских стен, то здания будут в какой-то мере защищены от опасности пожаров. Что касается Марса, то если он разместится вне стен города, среди граждан не будет раздоров, а также сами городские стены будут защищены от нападений врагов. Точно так же храм Цереры будет находиться за городом — в таком месте, которое люди должны будут посещать только в связи с культом, так как это место требует религиозного и морального почтения. Храмы других богов должны располагаться в зависимости от характера культовых обрядов, которые будут в них совершаться (ceterisque diis ad sacrificiorum rationes aptae templis areae sunt distribuendae)».Надо ли подчеркивать, что используемые здесь писания этрусских гаруспиков учитывают различные новшества, чуждые их родине, и особенно принимают во внимание состояние дел в Риме? Ведь Аполлон и Дионис в связи с театром, Геракл с гимнасием, амфитеатром или Цирком — свидетельствуют о греческих обычаях, Исида и Серапис происходят из еще более удаленных мест, а Марс со своим Полем, как и Церера внутри города, совершенно точно — римские. Какое же значение в этих условиях имеет свидетельство о капитолийской триаде? Действительно ли Тарквинии следовали «этрусскому» правилу или же их деяния способствовали появлению «этрусско-римских» правил? Здесь нельзя высказываться решительно, однако весьма уместно усомниться. Точно так же вызывает сомнения другое упоминание «этрусской триады» (Serv., Aen. 1, 422): искусные этрусские учения говорят, что во времена основателей этрусских городов не считались законными города, в которых не было трех ворот, и столько же дорог, и столько же храмов, посвященных Юпитеру, Юноне и Минерве. Это, конечно, не отражает в точности состояние дел в Риме, однако это может быть результатом размышлений и обобщений этрусско-римских ученых, предметом которых была группа божеств, обеспечившая Риму блестящую судьбу. Аналогичное подозрение — не в фальсификации, а в адаптации — вызывает большая часть указаний, которые можно отнести к ритуальным книгам. В материалы этого сборника Фест включил освящение храмов. Но что именно из древнего, этрусского, содержится в нашем, самом обстоятельном документе, отражающем совещание гаруспиков при Веспасиане — во время восстановления Капитолия, пострадавшего от пожара (Tac. Hist. 4, 53)? Сначала они приказывают выбросить в болота все, что осталось от старого здания, и построить новые здания точно на месте прежних, так как боги не хотят изменений в плане. Затем, в прекрасный день, 21-го июня, все пространство, предназначенное для храма, было украшено лентами и венками. Туда впускают солдат, держащих ветви плодовых деревьев. В сопровождении своих юных помощников, предвещающих удачу, весталки приступают к омовениям. Следуя за великим понтификом, претор очищает место, совершая жертвоприношение своветаврилии, освящает внутренности на комьях дерна, взывает к Юпитеру, Юноне и Минерве, а также к богам покровителям Империи, прикасается к лентам, привязанным к камням или зажатым между канатами. И тогда магистраты, жрецы, сенаторы, всадники и значительная часть присутствующего народа начинают тащить — в качестве камня, который должен статьоснованием, — огромную скальную глыбу, и бросают на фундамент золото, неочищенное серебро, так как гаруспики рекомендовали не осквернять все дело, кидая камни или золото, предназначавшиеся для другого использования. Новое здание было построено более высоким, чем то, которое оно заменило: вот и все изменения, которые допустила религия, как если бы прежний храм был в чем-то виноват. Следует отметить такое же осторожное отношение, когда речь шла об изначальных трибах и куриях — кроме, может быть, сообществ в Мантуе (Serv., Aen. 10, 202) — либо о каких-либо правилах общественного или частного права, которые древние авторы приписывали именно этрускам. Приведу два примера этих последних: «в книге этрусского закона есть запись слов Тагета, “который предводительствовал родом клятвопреступников… сосланный по воле судьбы и изгнанный” (Serv. Aen. 1, 2)[801]; согласно этрусской науке, ничего нет настолько несоответствующего свадебным обрядам, как движение земли и неба» (ibid. 4, 6). Что касается трех изначальных римских триб, то было бы преувеличением, исходя из этрусской или этрускизирован-ной формы двух из их имен (Рамны, Луцеры, наряду с Тициями), делать вывод, что все сообщество происходила от этрусков. Эти имена наверняка существовали еще до последних царей, которые внесли в них лишь небольшие изменения в тех условиях, о которых сохранилось воспоминание в легенде об Атте Навии. Точно так же среди восьми известных имен (из тридцати) курий времен до Сервия, если Тифатская курия действительно воспроизводит название горы, расположенной вблизи от этрусской Капуи, то три других имени (Foriensis, Rapta, Veliensis) легко понять непосредственно на основе латыни. Имя «Аквилея» не поддается объяснению ни с помощью этрусского языка, ни с помощью латыни. И было бы логической ошибкой пытаться объяснить имена Faucia, Titia, Velitia этрусскими родовыми именами (φαυχa, Titie, VeliOna) — притом, что латинский язык дает сходные слова: такие как faux, titus, uelites[802]. Книги судеб (libri fatales; если допустить, что это были действительно книги) содержали нечто более правдоподобно этрусское. Судя по древнейшим римлянам, италийцы не имели теории судьбы изначально. Они создали такую теорию под влиянием греков, использовав малоизвестные божества, не игравшие особой роли: таких, как Парки. Более того, боги, которых можно заметить во главе пантеона Этрурии и на его заднем плане — эти высшие и скрытые боги, которые встречаются в теории молний, — не имеют эквивалентов ни в Риме, ни в Греции. Однако о книгах судеб — кроме факта их существования — мы знаем очень мало, так что можем свободно усматривать в них, если пожелаем, прототип для римских Сивиллиных книг. Из сохранившихся отрывков учения один из самых интересных — параллельный отрывку из теории молний — касается отсрочки, которая несколько смягчает фатализм: судьбы настолько отличаются и никогда всецело не меняются, — говорит Сервий (Aen. 8, 398). Эта отсрочка, или максимум отсрочки, составляет десять лет для людей и тридцать лет для государства. Тот, кто делал вставки в текст Сервия, добавляет ценное, хотя и краткое указание: «Как сказано в Этрусских книгах, отсрочку грозящих бед можно получить в первую очередь от Юпитера, а во вторую очередь — от Судеб, primo loco a Joue dicunt posse impetrari, post a fatis[803]. Хотелось бы знать, как молитва высказывалась Судьбам, т. е., конечно, «богам Высшим и Скрытым». Хотелось бы также знать, что именно следует понимать под primo loco (сначала, прежде всего) и под post (потом): следующие друг за другом и связанные между собой фрагменты одной и той же процедуры? Или же первую инстанцию и обращение? В этой неопределенности скрывается самое главное в отношениях между Юпитером и Высшими богами. Этрусских ученых интересовала длительность жизни и ее темпы. Из Книг судеб Варрон узнал, что жизнь человека протекает на протяжении двенадцати седмиц (гебдомад). До конца десятой седмицы, т. е. до семидесяти лет, соответствующие ритуалы могут продлить жизнь, однако после этого уже нельзя ни о чем просить, и больше ничего получить невозможно. После двенадцатой седмицы люди «выходят из своего ума» (a mente sua homines abire), и боги больше не посылают им никаких знаков. Теория человеческого века (saeculum; если не само слово, которое вполне может быть латинским), т. е. «самая длинная протяженность человеческой жизни, определяющаяся рождением и смертью» (Censor. 17, 2), сформировалась (или, по крайней мере, определилась в этом круге размышлений) прежде, чем была экстраполирована на жизнь городов (Censor. 17, 5–6), мужественно назначив человеческим сообществам в самой Этрурии, а также римлянам, ее победителям и наследникам, неизбежный конец — смерть[804]. Вполне вероятно, что в последних сражениях за независимость, в быстро наступившей полной покорности — этот фатализм и эта пораженческая настроенность сыграли определенную роль[805]. Сохранившиеся отрывки Ахеронтовых книг, приписываемые Тагету, как и отрывки из Книг судеб — не позволяют утверждать, что они сравнимы или не сравнимы с египетской Книгой Мертвых, как иногда говорят. Многие авторы предполагали, что текст, написанный на ленточках мумии Аграма, принадлежит этим libri, но это плод воображения. Даже само слово вызывает недоверие. Правда, на одной этрусской вазе имеется надпись, оспариваемая многими: это слово aχrum (aχru-m?), которое хотят понимать как «Ахеронт» (речь идет об Альцесте, которую выводят из ада), однако в заглавии книг прилагательное может оказаться не этрусским, а быть просто переводом на греко-латинский некоего туземного выражения. Если это этрусское выражение, то оно весьма кстати напоминает обо всем, чем Этрурия обязана Греции, вплоть до представлений об аде. Кроме продления срока (Serv. Aen. 8, 398) мы знаем еще один тезис ахеронтической доктрины, который может утешить тех, кого сильно удручает краткость жизни людей, длящейся семьдесят лет или восемьдесят четыре года: они могут превращаться в богов. «В своих Ахеронтовых книгах, — говорит Арнобий (Gent. 2, 62), — Этрурия обещает, что, благодаря крови некоторых животных, принесенной в дар некоторым божествам, души становятся невидимыми и избегают смертности». Также и Сервий (Aen. 3, 168) отмечает, что в трактате Об обожествленных духах усопших Лабеон сказал, что существуют виды жертвоприношений, благодаря которым души людей превращаются в богов: богов, называемых обожествленными духами усопших, чтобы напомнить об их происхождении. Если понимать эти тексты буквально (а других свидетельств у нас нет), то обожествление достигается post mortem путем особых жертвоприношений, по-видимому, принудительных. Такая концепция далека от орфизма, который предоставлял благосклонность потустороннего мира тем, кто был посвящен при жизни. Она далека и от пифагореизма с его переселением душ. Этрурия многим обязана Греции, однако ритуальный способ получения бессмертия, который она предлагает, если он действительно сводится к этой магии, — это ее собственное учение. Но зато значение, которое придается гебдомаде в измерении человеческой жизни, наводит на мысли о мистических обычаях, связанных с числом семь в Греции, а также и в Халдее, и в Библии[806]. С этой литературой можно также связать сборники Ostentaria, списки знамений, которые этрусско-римляне перевели в последний век до нашей эры. В этом вопросе, особенно начиная со второй Пунической войны, этруски были постоянными информаторами римских чиновников, так что именно по ответам, которые они давали на запросы Сената, можно составить себе представление об их методах исследования и о форме изложения результатов. Основное различие, характеризовавшее до весьма позднего времени обычное восприятие этрусков и римлян, было указано выше: в то время как римляне видели в знамениях угрозу, выражающую гнев богов, этруски допускали, что знамение могло передавать также и благосклонное отношение, благоприятные намерения. Один из редчайших отрывков, сохранившихся от перевода одной Этрусской книги знамений, который сделал Тарквитий Приск, как раз касается замечательного знамения. Он написан на странном латинском языке, отличающемся не только пророческим тоном, но еще и рабским копированием. Это отрывок из третьей книги Сатурналий Макробия (7, 2), и в нем идет речь о баране:
«В этрусских книгах сообщается, что если приведут это животное необыкновенного цвета, то властителю предвещается удача во всех делах. Кроме того, есть книга Тарквития, переписанная из Этрусской книги знамений. Там находится следующее: “Если овца или баран будут покрыты пятнами пурпурного или золотистого цвета, то вместе с большой удачей умножаются и награды предводителю войска и народа, а народ во славе увеличивает потомство и делает его очень счастливым”».В первой фразе Макробий резюмирует эту галиматью в достаточной мере, указывая, что такие пурпурные или золотистые пятна (или, скорее — обобщенно характеризуя таким образом любой цвет, необычный для шкуры овцы) предвещают императору удачу во всем. Этот случайно сохранившийся отрывок текста интересен во многих отношениях: он свидетельствует о довольно регулярном проведении совещаний с гаруспиками (что было отмечено выше), которые придавали весьма важное значение власть имущим; с другой стороны, мы видим, как Макробий в своих комментариях выявляет и приспосабливает к новому строю то, что Тарквитий Приск рассказывал очень свободно, благодаря чему его рассказ можно было истолковать и как повествование о республиканском Риме, и как описание древних этрусских государств (principi ordinis et generis). Другой фрагмент текста Тарквития, извлеченный из Древесной книги знамений, дает определение «несчастных» деревьев. Это пример тщательных подробных классификаций, неполных и произвольных, которые были характерны для псевдонауки (Macr. 3, 20, 3):
«Деревья, находящиеся под опекой богов ада, богов, которые отклоняют (опасности?), принято называть сулящие несчастья. К ним относятся: вечнозеленая крушина, папоротник, черная смоковница; все деревья, ягоды или плоды которых черного цвета; рябина-ария, дикая груша, ежевика, остролист, колючие кусты. Именно их надо использовать, когда требуется сжечь чудовищ, или вредоносные знамения».Это последнее предписание иллюстрируется некоторыми фактами из истории римской Империи, которые всем хорошо известны: так, в 193 г. тщательно собрали и сожгли рой ос, который имел несчастье опуститься на храм Марса в Капуе (Liv. 35, 9, 4); спустя два года после этого, два быка, забравшихся на крышу одного дома в римском квартале Карины, были сожжены заживо по приказу гаруспиков, а пепел был сброшен в Тибр (Liv. 36, 37, 2); более точен Лукан (Phars. 1, 589–591), по словам которого прорицатель Аррунт приказал сжечь спонтанно родившихся чудовищ несчастливым огнем, т. е. на огне, в котором горели «несчастные» деревья. Здесь мы сталкиваемся с самыми неясными элементами теории знамений. Нет ничего более жестокого, чем обращение с гермафродитами, которое римляне переняли у этрусков: этих несчастных заколачивали в гроб живыми и топили в открытом море (например, в 142 г., Jul. Obs. 22, учение гаруспиков). Конечно, именно по римским совещаниям можно представить себе способ действий гаруспиков. Так же, как у жрецов, гадающих по молниям, их процедура проводилась в три этапа: точное определение замеченного знамения, интерпретация, указание противодействующих средств. Классический пример, который хорошо проанализировал Тулин (а за ним, повторно, господин Raymond Bloch), — это заключение гаруспиков в 56-м году, о котором говорилось выше. Та часть этого ответа, которую передал и прокомментировал Цицерон (Har. resp. 20–60), касается только двух первых этапов, поскольку третий этап был ему неинтересен. Но эти два описаны четко[807]: 1. Определение знамения: ввиду того, что на земле латинян услышали звяканье, сопровождавшееся содроганием, и что на соседнем участке земли раздался глухой шум, и послышалось устрашающее бряцание оружием (20)… 2. Интерпретация, в трех частях: a) Разгневанные боги: претензии исходят от Юпитера, Сатурна, Нептуна, Теллус, небесных богов (20). b) Пять причин гнева богов: из-за того, что игры были проведены слишком небрежно и были профанированы (21); из-за того, что священные религиозные места были использованы вопреки их назначению для мирских целей (9); из-за того, что ораторы были убиты в нарушение человеческих и божеских законов (34); из-за того, что были забыты и данное слово, и клятва (36); а также из-за того, что издревле учрежденные тайные жертвоприношения были совершены слишком небрежно и профанированы (37). c) Грозящие опасности: бессмертные боги предостерегают и велят следить за тем, чтобы сенаторам и их вождям, из-за раздоров в высших классах, не угрожали убийства и погибель, и чтобы они не оказались лишенными помощи и покинутыми, вследствие чего провинции могут восстать, изгнать армию, а это может привести к ослаблению и упадку (40); кроме того, боги предостерегают и велят следить за тем, чтобы общественному делу не был нанесен вред тайными интригами (55); и чтобы не возвысились оказавшиеся на обочине порочные люди (56); а также, чтобы не была изменена форма правления (60). В третьей части можно заметить консервативный конформизм, оттенок «благомыслия», присущий совещаниям гаруспиков. Тип перечисляемых угроз, носящих одновременно и серьезный, и туманный характер, напыщенный стиль речи — все это характерно для бронтоскопических календарей. Этот литературный жанр требовал именно таких формулировок, и он никогда им не изменял. Что касается второй части, а особенно определения разгневанных богов, то Тулин восхищался точностью выражений и противопоставлял ее осторожной сдержанности римских понтификов, проявляемой ими в подобных вопросах: «Ссылаясь на Варрона, Авл Геллий (2, 28, 3) говорит, что во время случившегося однажды землетрясения понтифики не смогли идентифицировать бога, пославшего этот знак, и постарались выйти из положения с помощью выражения si deo, si deae. Насколько отличается от этого упомянутый выше ответ гаруспиков: “Есть требование жертвы Юпитеру, Сатурну, Нептуну, Теллус, богам небесным!”. Такие выражения, которые можно прочитать у Тита Ливия (“сиракузское знамение замаливали перед богами, каких указали гаруспики”; Liv. 41, 13, 3), показывают, что гаруспики — не в меньшей мере, чем децемвиры — были способны определить, каких богов следует умиротворить. Нам неизвестно, к каким средствам они прибегали. Учитывая большое разнообразие знамений, они, по-видимому, не ограничивались одним способом». Можно предположить, что список разгневанных богов получали, рассматривая печень жертвенного животного, на поверхности которой можно было видеть точную локализацию божеств: Юпитер, Сатурн, Нептун — указаны на печени из Пьяченцы; а также, по-видимому, и те имена, которые мы не можем распознать, и Теллус, и Небесных богов. Этрусское умилостивление знамений известно лишь по тому, чтó заимствовали из него римляне. Об этом см. в римской части книги.
Боги
При рассмотрении этрусского пантеона на материале, сохранившем местный исконный язык (т. е., изучая предметы искусства или печень из Пьяченцы), — можно выявить два главных факта. Первый факт, на который неоднократно обращали внимание, это большое число имен богов, заимствованных из италийских языков. В частности, многие боги, действительно этрусские, носят латинские имена — искаженные, но узнаваемые. Хотя это не относится к Тинии (Юпитеру), так, однако обстоит дело с одной богиней, несомненно, заимствованной извне, — Уни: это имя восходит к Юноне, с такой же утратой начального i-, которая произошла с Ани, восходящим к Янусу[808]. Аналогичные случаи — Нетунс (Neθuns, Neθunus; Agram Neθuns-l), произшедший от Нептуна; Марис (Maris, Mariś, Mars-, Mares), т. е. Марс; весьма вероятны также и Ветисл и Сатре, которые можно прочесть на печени из Пьяченцы, т. е. Ведий-Вейовис и Сильван[809]. Эти божества имеют только одно имя — то, которое у них было на их родине. И дело здесь либо в том, что они целиком заимствованы, т. е. заимствована персона вместе с именем, либо причина в том, что — будучи национальными божествами — они были отождествлены (в ходе процесса, обратного процессу этрусской интерпретации) с древними иноземными божествами, потеряли свое национальное имя и продолжили свое существование под иноземным именем. Иногда одно и то же божество предстает одновременно и под исконным именем, и под заимствованным. Так, нередко Мен(е)рва (Merua, Mera) рассматривается как то же самое, что Текум (на Печени и в Загребе[810]). Вполне возможно, что Vel- на печени представляет собой начало имени *Velχans, как бы дублирующего древнее Сетланс, из которого на зеркалах совершенно ясно получился Гефест. Предполагалось также, что в некоторых случаях два однотипных божества: одно местное, исконное, а другое заимствованное — могли сосуществовать независимо друг от друга. Так, Ларан, встретившийся девять раз на зеркалах, — обнаженный, в сапогах, почти всегда вооруженный и со шлемом на голове — иногда вместе с Туран-Афродитой якобы является воинственным богом, для которого Марс стал двойником (так считают Torp, Тулин и др.). Однако у воинственного народа воинская деятельность вполне может получить нескольких богов-покровителей, ориентированных по-разному (ср.: Индра и Ваю у индоиранцев[811]). Другой факт — это раннее и устойчивое смешение большого числа этих божеств с греческими богами. Так, иллюстрации на зеркалах[812] представляют Тинию и Уни только в функциях и обстоятельствах Зевса и Геры. При этом Тиния держит скипетр и молнию, а Афина рождается из его головы[813]. Уни, объединенная с Тинией, как Гера с Зевсом, фигурирует в суде Париса, кормит грудью Геракла; ее освобождает от цепей Гефест[814]. Богиня Менрва, вооруженная и сопровождаемая маленькой порхающей Викторией, богиней победы, представляет Афину. Бог Нетун(у)с с трезубцем Посейдона сидит на скале, из которой вытекает струя воды[815]. Этот процесс идентификации затронул даже таких богов, которые имели только этрусские имена. Если cognomen одной из самых древних Венер латинян, Frutis, можно объяснить этрусским произношением Афроди-ты[816], то на зеркалах этой богине соответствует Туран. Точно так же Турмс носит хламиду, широкополую шляпу-петас, жезл Гермеса — кадуцей, и он провожает души умерших. (Само греческое слово переводится только один раз, herma, но это просто любопытная деталь. Этрусский Гермес — это действительно Турмс.) Бог Фуфлунс держит тирс Диониса, и он изображен около Семлы (Семелы), Ареаты (Ариадны). Так же обстоит дело со всеми подлинными богами: ни один из них не носит греческого имени. Если на зеркалах мы видим Аплу (Apulu, Aplun) в лавровом венке, с формингой, и его целует Летун; если мы видим Артуме, играющую на кифаре около Аплу или верхом на олене, то все это — литература в картинках, отнюдь не предполагающая, что Аполлон, Артемида и Латона могли играть какую-либо роль в религии этрусков. Следует отметить, что эта литература все же не прошла совершенно бесследно для религии и для общества. Вполне вероятно, что именно под воздействием этрусского произношения Персефона стала Прозерпиной на берегу Тибра, и наверняка Катмит (Catmite), этрусский Ганимед, все же отражал некую реальность, если он дал Плавту и римскому арго слово catamitus («любимчик»). Изучение этрусской транскрипции имен в греческой басне привело Еву Физель (Eva Fisel) к тому, что она составила в 1928 г. множество серьезных и любопытных примечаний, а также смогла констатировать весьма важный факт[817]: Этрурия обрела эти имена в различное время в различных областях Греции. В общем, они делятся на три группы: 1) наибольшее число имен восходит к ионическому эпосу (Castur, Nestur, Sature, Patrueles…); 2) имена, пополнившие прежнюю группу имен, заимствованных из дорийского диалекта, от которого в них сохранились долгое а и дигамма, а в некоторых случаях — и имена менее предсказуемой формы (например, Aivas из Αΐfας; Μαχαη из Μαχάων; Prumaθe из Прометея; Pakste из Пегас; Velparun из Elpénor…); 3) но, по-видимому, эти последние имена появились не первыми; есть другие имена, форма которых необъяснимо далека от греческой и которые, по-видимому, имеют до-эллинский прототип, причем его греческое оформление само, вероятно, представляет собой результат «этимологизирующей» деформации слов: Catmite-Γανυμήδης (< *Γαδυ-?), Heplenta-Ίππολύτη, Talmiθe-Παλαμήδης, φulφsna-Πολυξένη…). На самом деле, третья группа сомнительна: Ганимед наверняка имел до-эллин-ское имя, это до-эллинская фигура. Однако Катмит с зеркал может быть только именно Ганимедом из греческой басни, виночерпием Зевса, который сам отнюдь не был заимствован в до-эллинские времена. Каким бы ни было деформированное слово, национализированное в виде Πολυξένη, этруски, конечно, приняли эту дочь Приама вместе со всей легендой о Трое, и она сохранила то место, которое занимала в этой легенде, т. е. одновременно с Патроклом, Ахиллом и др. Противоположная гипотеза создает более значительные трудности, чем те, которые вызывает несоответствие имен. Однако разграничение дорийского и ионийского источника представляло бы большой интерес, если бы было точно известно, что свой алфавит этруски заимствовали у дорийцев самой Греции. «Через посредничество Коринфа, роль которого не забыли римляне (Tac. Ann. 11, 14), этруски получили свой алфавит и сокровища эллинской мифологии, — пишет Бенвенист, — и, следовательно, отнюдь не безразличен тот факт, что имя Vilae, Vile, т. е. греческое имя Иолай, согласуется с коринфской формой fιόλαfος или Aevas, Aivas и т. д. и с коринфским Αΐfας». Нам трудно представить себе, как функционирует мифология: т. е. такая религия, в которой главные богини носят, например, имена, заимствованные у италийских племен (Уни, Менрва), а с другой стороны — они наделяются роскошными аксессуарами, которые легенда и искусство Греции дают Гере и Афине. Однако это очень важно для истории религии Рима: если отождествление римских божеств с греческими произошло так рано и настолько полно, то это было подражанием Этрурии, причем почти всегда это были Юнона, Минерва, Нептун и многие другие, которые стали Герой, Афиной, Посейдоном — вслед за Уни, Менрвой, Нетунсом. Остальные последовали примеру великих. Так возникли тройные эквиваленты — такие, как Венера — Туран — Афродита, Меркурий— Турмс — Гермес. Крайне редко можно встретить одно из этих божеств в неиталийских или не-греческих функциях или мифах. Так, «богиня со змеями», в которой хотят видеть богиню Туран, фигурирует на пластинке с погребальной камеры из Цере. Из этого делают вывод, что она играет роль, связанную с умершими, и могла бы послужить прототипом для римской Венеры Либитины. Но разве 23-й Римский Вопрос, касающийся именно Ли-битины, не напоминает о том, что в Дельфах видели статуэтку Афродиты Epitymbia, к которой приглашали покойников, чтобы они могли около нее предаться возлияниям? Мифология этрусского Марса не связана с греческим Аресом, но есть серьезные основания для того, чтобы отнести к индоевропейским италийским племенам то, что в этих мифах на первый взгляд кажется самым оригинальным. Зеркало из Больсены, зеркало из Кьюзи и сценка, изображенная на знаменитой этрусско-латинской цисте в Палестрине (Пренесте), составляют группу родственных документов: 1) На цисте, среди расположенных в ряд богов с латинскими именами (Юнона, Юпитер, Меркурий, Геркулес, Аполлон, Либер, Фортуна…), в центре изображены Минерва и Марс, занятые непонятным делом. Марс — обнаженный, но в шлеме, вооруженный копьем и щитом — склонился над большим сосудом, наполненным кипящим веществом (жидкостью? паром? огнем?). Минерва обнимает его левой рукой за талию, а правой рукой подносит к его рту или носу своеобразную короткую палочку. Позади богини, на груде камней лежат ее щит и ее шлем, а над ней порхает маленькая Победа (Victoire). Над Марсом растительный декор фриза прерван, и там можно видеть сидящего Цербера — собаку или волка с тремя головами. 2) На зеркале из Кьюзи изображены стоящие слева направо следующие персонажи: обнаженный молодой человек, Леинт, держащий в левой руке копье, а на согнутом правом его бедре сидит ребенок, Mariśhalna (ребенок держится двумя руками за его опущенную правую руку. Далее Туран, этрусская Афродита. В середине зеркала — Минерва в шлеме вынимает из амфоры ребенка Mariśhusrnana, взяв его за обе руки. Справа обнаженный юноша, имя которого не указано, опирается правой рукой на свое копье. На рукоятке зеркала имеется, кроме того, женская фигура, названная Recial. 3) На зеркале из Bolsena слева направо изображены: Турмс в крылатой шляпе и с кадуцеем Гермеса, придерживающий одной рукой за живот ребенка Mariśisminθians, сидящего на его согнутом бедре. Дальше Минерва в шлеме, купающая в амфоре Mariśhusrnana. Правой рукой она опирается на свое копье, а левой — держит левую руку ребенка, вынимая его из ванны. Затем мы видим Туран; далее стоит юноша, одетый в хламиду и опирающийся на свое копье. Дальше изображена женщина, Аматутун, которая держит ребенка Mariśhalna, сидящего на ладони ее левой руки. Под центральной сценой Геркле, которого можно узнать по его палице, стоит позади расположенных в ряд пяти амфор того же типа, что и та амфора, из которой выходит Mariśhusrnana, но менее роскошно украшенных. Археологи весьма смело комментировали эти картинки, предположив, что было несколько Марсов, имевших общего для всех них отца — Геркле, а их матерями были женские фигуры: Менрва, Туран, Аматутун. Такая интерпретация слишком многого требует от этих изображений: они описывают действия, но не указывают на родство. Во всяком случае, принято считать, что это — сцены, отражающие эпизоды посвящения юноши. Я предложил уточнение: это посвящение юноши в воины. Такое толкование обосновывает основное действие, и о том же говорят все без исключения атрибуты всех действующих лиц. Весьма вероятно, что три Марса, охарактеризованные по-разному, представляют одного и того же Марса во время трех эпизодов инициации[818]. Господин Gustav Hermansen изобретательно сопоставил с этими изображениями один отрывок из Пестрых историй Элиана, где говорится, что племя авзонов в Италии имело в качестве предка некоего Marès — кентавра, прожившего 123 года (это объясняется мистикой чисел: Censor. 17, 5), которому довелось прожить три жизни. Кроме того, Hermansen сравнил с этим стихи из Энеиды (8, 563–567), в которых Эвандр рассказывает, как он в юности убил в бою царя Герула, которому его мать Ферония дала три души, из-за чего его надо было сразить три раза. Эти сравнения действительно соблазнительны, так же как и тип объяснения, который предлагает господин Hermansen: сцены, изображенные на цисте и на зеркалах, можно сравнить с поступком Фетиды, которая погрузила своего сына в огонь, чтобы сделать его неуязвимым. Иначе говоря, это юношеская инициация. Однако вызывает удивление то, что господин Hermansen принижает значимость элемента, который совершенно очевидно везде является главным: воинственность. Минерва предстает либо вооруженная (зеркала), либо подчеркнуто рядом со своим оружием (циста). Сам Марс на цисте вооружен, а над Минервой, которая им занимается, витает Победа. Обнаженные юноши представлены на зеркалах вооруженными — как живой итог предыдущих сцен. Если привилегия Marès Элиана — родиться и умереть три раза — не связывается категорически со смертью в бою, то, по крайней мере, именно такое значение придает Вергилий аналогичной привилегии, которую имеет Герул. Следовательно, необходимо дополнить интерпретацию, которую предложил Hermansen, восстановив законное место этих деталей и их значение: рассмотренные сцены, очевидно, изображают обряд инициации (или нескольких следующих друг за другом церемоний посвящения) типичного воина, Марса, благодаря чему он должен обрести то, что обычно достигается таким образом: неуязвимость, либо непогрешимую меткость удара, либо преображающую ярость (furor). Те, кто прочитает мой очерк Гораций и Куриаций, опираясь на факты, касающиеся индийцев, ирландцев и скифов, которыми я иллюстрировал историю Рима, — без труда смогут правдоподобно истолковать сцену, изображенную на цисте из Палестрины: их не удивят тройной противник в виде трехглавого монстра и вооруженный юноша, которого женщина купает в ванне с кипятком. Их также не удивит то, что на зеркалах изображены несколько «молодых Марсов». Переданный здесь миф — всего лишь весьма архаичная форма италийского и кельтского мифа, существование которого я должен был предположить: мифа, еще хорошо сохранившегося в легенде о воинском посвящении ирландца Кухулина. Этот миф, которому было дано гуманизированное и историческое истолкование, дал римским летописям исходный материал для эпизода с Горацием и Куриациями. Фактически единственный персонаж из мифов, который, по-видимому, имел в Этрурии кроме традиционной мифологии еще собственную оригинальную историю — или различные истории в зависимости от местности, — это Геракл (или — в принятом в Этрурии варианте имени — Геркле). Он был там чрезвычайно популярен, и претендовавших на него городов несколько: Manto, эпоним Мантуи, — его дочь; Вольтерра, Ве-тулония, Популония — имели на своих монетах его выгравированную голову. Жан Байе попытался навести порядок и разобраться в этом запутанном и неадекватном скопище указаний мест, перемещений культа, и варьирующихся характеристик персонажей[819]. С другой стороны, тщательно изучив сцены на зеркалах и сосудах, где есть его изображения, Байе выявил немало случаев, когда Этрурия изменяла данные греческих летописей: возможно (как он предполагал) — под влиянием того, что финикийцы говорили о Мелькарте[820]. Так, иногда Геркле изображают подчиненным его товарища — Вилу (Иолая), которого этруски, видимо, отождествляли с ливийско-карфагенским Ioel; и, прежде всего, они создали легенду о том, что большая любовь к женщинам вовлекла его в Этрурии в невероятные приключения, в которых замешаны Туран-Афродита, сама Менрва, а также таинственная женщина по имени ΜΙαχ, которая, по-видимому, не имеет никакого отношения к римской Malacia, упомянутой наряду с Нептуном в одном из комментариев. Таблички с надписями на этрусском и на пуническом языках, найденные недавно в святилище Пирги — одного из портов Цере, — относятся приблизительно к 500-му году до н. э., и они добавили еще один, но весьма значимый элемент к нашим знаниям об игре в «интерпретации». Св. Августин (Quaest. in Heptateuchum 7, 16) предупреждал о том, что на карфагенском языке Юнону называют Астартой, но на это указание не обратили внимания, так как «карфагенскую Юнону» чаще называли Танит. Сегодня мы знаем, что это смешение — точное и древнее в том, что касается этрусской Юноны, Уни. Пока этрусский текст не получил еще надежного истолкования, приведем тот перевод пунического текста, который предложил André Dupont-Sommer: Госпоже Астарте (Astarté). Это священное место — это то, что сделал, и то, что дал Тиберий Велиана (TBRY’ WLNS), царь Церы (KYSDY’, т. е. Cisra), в месяц жертвоприношений Солнцу, в качестве своего (собственного) дара, включающего храм и его центр, потому что Астарта оказала милость своему правоверному: в третьем году его царствования, в месяц KRR[821], в день Погребения богини. И пусть годы, когда статуя Богини будет находиться в своем храме, станут годами, столь же многочисленными, как эти звезды! Этрусский текст не оставляет сомнений в том, каким было местное туземное имя Астарты:ita tmia icac heramaσva [.] vatiexe unialastres θemiasa mex (iuta θefariei velianas sal cluvenias turuce…Точно так же, как можно распознать имя дарителя — Oefariei Velianas, так и имя богини Уни можно идентифицировать по генитиву Unial-, который известен из других источников. Второй элемент слова, — astres, остается загадочным. Господин Pallottino предполагает, что это искаженная форма имени Астарты, и что в этрусском тексте богиню называют одновременно и ее местным именем, и пуническим эквивалентом этого имени. Это маловероятно; но в одном важном факте сомнений нет: Уни равнозначно ŠTRT, Астарта. Этот текст создает большие проблемы: указания дней, праздников — дается на пуническом языке. Одно из них — день Погребения богини (или бога?) — намекает на обряд и миф, которые представляются принадлежащими к пунической религии (ср. например, схождение на землю месопотамской Иштар или погребение Адониса[822]). А господин Dupont-Sommer сначала комментирует любую надпись так, как если бы этрусский царь оказывал почести подлинной богине Астарте:
«Самое поразительное, о чем свидетельствует пуническая надпись, это глубокое почтение этрусского царя к великой семитической богине. Если мы правильно перевели строку 6, то этот царь даже провозглашает себя ее “правоверным”. И вот, примерно около 500 г. до н. э. (такова приблизительная дата, которую подсказывают и эпиграф, и археология), появляется семитическое святилище — первое из всех, какие, насколько нам известно, были когда-либо воздвигнуты на итальянской земле, и это сделал этруск. Можно было бы даже сказать, что этот этруск принял финикийский календарь с его названиями месяцев и с его религиозными празднествами. И это святилище, которое он подарил богине, включает в себя храм и bâmâh, подобные тем, какие существуют в Финикии, на Кипре и в Карфагене. Здесь можно заметить первый признак той привлекательности восточных культов, которая окажет продлившееся много веков воздействие на жителей Италии. То, что этрусский царь уверовал в финикийскую богиню, построил ей храм, отмечал ее праздники, считал, что именно ей он обязан своей победой над врагом, — вот о чем нам сообщает текст пунической надписи»[823].Однако он сразу же благоразумно добавляет:
«Но о чем говорят, со своей стороны, этрусские надписи? Подтвердят ли они впечатление, которое создает пуническая надпись, что этрусский царь полностью принял семитический культ? Или же пунический текст, написанный финикийцем либо карфагенцем, обнаруживает слишком заметные признаки семитизации, а этрусский текст, сочиненный этрусским скрибом, предложит такое изложение, в котором эти экзотические особенности будут меньше выделяться?».Даже в этом случае надпись из Пирги свидетельствует в пользу семитического мира, о чрезвычайной гибкости этрусской теологии, готовой воспринять — под этрусским именем, под прикрытием имени иноземного бога, которое рассматривается как эквивалентное, — целое учение, мистическое или ритуальное. Политика того времени хорошо объясняет эту моду на все карфагенское. Господин Dupont-Sommer напоминает (Hérod. 1, 166–167) о союзе и общей победе тирренийцев и карфагенян около 540 г. над фокейцами, расположившимися в Корсике. Среди сражавшихся и среди тех, кто получил выгоду от победы, Геродот выделяет людей из Агиллы, т. е. как раз из Цере. Однако это увлечение будет недолгим — и, в конце концов, именно Греция будет постоянно изливать на Этрурию свои сокровища мышления и представлений. Тем не менее, весьма ценно, что мы можем идентифицировать богиню под ее четырьмя именами: Юнона — Уни — Астарта — Гера. По отношению к большинству этрусских богов, не получивших греческой интерпретации, разумно ограничиться описью имеющихся данных и не пытаться их интерпретировать. Впрочем, некоторые считают, что могут понять то, что написано на полосках ткани загребской мумии, на черепице из Капуи и на надгробии в Перудже, а также на свинцовых пластинках Маглиано, Вольтерре, Монте Питти и Кьюзи, и думают, что могут с пользой истолковывать их… Иногда удается, интерпретируя изображенные сценки и греческих персонажей, которые там присутствуют, внести ясность в отношении других персонажей, имена которых неизвестны. Так например, Туран-Афродита окружена группой рабынь, занятых туалетом своей госпожи, по своим функциям — Харит и Ор, но носящих этрусские имена: Алпан(у) (Alpan(u)), Ахвизр (Axvizr). Э. Бенвенист полагает, что можно прояснить Axvizr (Acaviser) греческим (или, вернее, эллинизированным до-эллинским) именем, сохранившимся на острове Самофракия: там почитали, среди Кабиров, некую ̓Αξίερος (возможно, это древняя *Axsiver-), которую комментатор Аполлония из Родоса (1, 917) отождествляет с Деметрой (тогда как двух других Кабиров — Axiokersa и Axiokersos — отожествляют с Персефоной и Гадесом). И вот, как раз на одном зеркале (Герхард, Etr. Sp., IV, c. cccxxiv) можно видеть Axvizr рядом с Алпану. «Эта последняя, волосы которой удерживает широкая повязка, левой рукой обнимает за талию Axvizr, приблизив к ней лицо как бы для поцелуя, а в правой руке держит яблоко, свисающее с ветки». Как справедливо заметил Герхард (IV, с. 61–62), «это сразу наводит на мысль о возвращении Персефоны к Деметре». Это очень соблазнительная интерпретация, и из нее можно было бы сделать далеко идущие выводы, но это, конечно, невозможно подтвердить. Сцена нежностей между Алпану и Ахвизр может быть истолкована и иначе, чем встреча. Подобно тому, как Амуры резвятся вокруг Венеры, вполне можно себе представить, что любезные спутницы Афродиты-Туран отдыхают, поедая фрукты и проявляя любовь друг к другу[824]. Иногда неясность распространяется на пол божества. Конечно, — как подчеркнул Бенвенист, — взаимозамена пола нередко является всего лишь следствием ошибки писца. Так, на двух зеркалах V в. имена Heplenta (Ίππολύτη) и Pentasile (Πενθεσιλεία) отнесены к мужчинам. Следовательно, когда (родовое?) наименование Lasa девять раз отнесено к богиням, а один раз написано над юношей, то вполне вероятно, что в последнем случае мы имеем дело с ошибкой. Но как быть с Леинтом (Leinθ)? Выше было отмечено, что в сценах инициации юного Марса имеется изображение мужчины с этим именем — вооруженного копьем воина, — тогда как именем Леинт на одном из зеркал из Перузы назван инфернальный женский образ, с закутанной верхней частью тела. Эта женщина как бы оглядывается назад, тогда как вторая женщина, Mean, увенчивает Hercle лавровым венком, а он уходит, уводя за собой Цербера.
Группы богов
Нет такой религии, которая бы не стремилась внести порядок, структуру — более или менее жесткую, более или менее последовательную и логичную, более или менее полную — в массу своих представлений, и, в частности, в представления о богах. Этруски здесь не исключение, но у них есть свой секрет. Подобно тому, как не существовало единой греческой теологии, а были многочисленные теологии, созданные в городах или созревшие в философских школах, — Афины располагали своих богов не так, как это делала Спарта, орфики строили свои представления иначе, чем пифагорейцы, — точно так же не должно было существовать и единой этрусской теологии, несмотря на то, что у них был объединяющий фактор — корпус гаруспиков, поддерживавших между собой связи, невзирая на границы между государствами и несмотря на соперничество городов. Об этих локальных особенностях нам ничего неизвестно: например, как распределяли между собой богослужение в честь Юноны жители Вейев, которым Юнона, в конце концов, предпочла солдат Камилла. Можно ли хотя бы выделить на вершине иерархии какую-нибудь характерную группу богов? Нельзя быть уверенными даже в том, что Тиния самостоятельно достиг особого положения, которое ему обеспечило в этрусско-латинских документах его отождествление с Зевсом. Что касается триады Юпитер — Юнона — Минерва, то выше уже упоминалось о сомнениях в отношении ее древности. Несмотря на то, что данные раскопок подтверждают, что до Капитолия этруски имели особую склонность к храмам с тремя целлами, т. е. к объединению трех богов, — нет никакой гарантии, что всегда и везде это были именно эти боги, или что всегда и везде это были одни и те же божества[825]. Смелая интерпретация, которую именно в таком осмыслении предложил господин Перикл Дукати (Pericle Ducati) для храмов этрусского акрополя, раскопанного в Марцаботто, вблизи от Болоньи, представляет собой яркий пример вольностей, допускаемых археологами-интерпретаторами[826]. Три варианта систематизации этрусского пантеона, которые имеются в нашем распоряжении, — поздние и ученые, и их нельзя отнести к «религии» независимой Этрурии до-римского периода. Один из них — это теория молний. Она неполна, а также (как мы видели) несет на себе печать греческих умозрительных построений. Второй вариант систематизации отражен в том, что написано на печени из Пьяченцы. Он очень богат, поскольку содержит сорок слов, но трудно поддается интерпретации — как из-за большого числа сокращений, так и вследствие неясностей, присущих любой топографической символике, к которой не дано ключа. Третий вариант можно прочесть в первой книге трактата, который написал Марциан Капелла, озаглавив его О бракосочетании Филологии и Меркурия. Его достоинством является то, что он рассудочен и хорошо изложен, но он относится к позднему времени — к V в. н. э. Кроме того, он носит литературный характер и перегружен греческими и греко-римскими умозрительными построениями, причем невозможно определить, насколько вольно автор использовал свои источники. Вот основное содержание этого текста: Юпитер (или его советники) пригласил разнообразных богов, причем они распределены по следующим группам: 1) Верховные боги, называемые также Пенатами Юпитера и Советниками (consensione), и к ним с особым почетом присоединен некий Vulcanus Jouialis, «хотя он никогда не покидает своей небесной резиденции»; 2) одиннадцать божеств, названных поименно, которые вместе с Юпитером составляют группу «Двенадцать великих богов», причем они собраны по греческому образцу; 3) семь оставшихся, не названных по именам; 4) распределенные по шестнадцати регионам боги, которые имеют местных двойников; 5) боги Azoni — т. е., очевидно, те,которые не имеют собственного места в этих регионах[827]. Первая группа напоминает о двух совещаниях богов — собравшихся для того, чтобы помочь Юпитеру — в теории молний, и Вайнсток объясняет статус, приданный здесь богу Вулкану его отождествлением с Солнцем, которое встречается в некоторых известных умозрительных построениях. Можно предположить, что Двенадцать и Семь обязаны своим числом астрологическим представлениям (зодиак, планеты). Но именно боги шестнадцати регионов, по всей вероятности, сохранили что-то от собственно этрусских традиций. Вот их перечень (45–60): 1. После самого Юпитера: боги-Советники Пенаты (dii Consentes Penates), Салюс и Лары, Янус, Fauores opertanei и Ноктурн (Nocturnus). 2. Помимо дома Юпитера, который также там возвышен, поскольку он владеет всеми земельными угодьями: Квирин Марс, Воинственные Лары (Lars militaris); Юнона (Juno), Фонт (Fons), Лимфы (Lymphae), Новые боги (dii Nouensides). 3. Юпитер Второй (Juppiter Secundanus), Юпитер Богатство (Jouis Opulentia), Минерва (Minerua); Эрида с Раздором (Discordia ac Seditio); Плутон. 4. Линса сельская (Lynsa silvestris), «Размягчитель» (эпитет Вулкана — Mulciber), Небесные Лары (Lar caelestis), Воинственные Лары (Lar militaris), Фавор (Fauor). 5. Цари-супруги Церера Теллура и отец Земли (Coniuges reges Ceres Tellurus Terraeque pater), Вулкан и Гений. 6. Дети Юпитера Палес и Фавор (Jouis filii Pales et Fauor), дочь Солнца Стремительность (Celeritas Solis filia), Марс Квирин, Гений. 7. Либер, Палес Вторая (Pales Secundanus), Фраус (Fraus — «обман»). 8. Плоды весны (и другие выше созванные) (Veris fructus (et aliqui superius corrogati)). 9. Гений Юноны Гостеприимной (Junonis Hospitae Genius). 10. Нептун, Общий Лар всех (Lar omnium cunctalis), Неверита (Neuerita), Конс. 11. Фортуна, Здоровье (Valetudo), Фавор пастух (Fauor pastor), Маны. 12. Санк (Sancus). 13. Фата[828], другие боги Манов (ceteri di Manium). 14. Сатурн, Юнона небесного Сатурна (Saturni caelestis Juno). 15. Вейовис (Veiouis), Боги общественные (Di publici). 16. Ноктурн (Nocturnus), Земные привратники (Janitores terrestres). (61) Когда со всех же областей неба были призваны боги, остальные, которых называют Азонами, самим Меркурием были приглашены. Это список был рассмотрен в двух прекрасных монографиях, разделенных интервалом в сорок лет. Первая — это работа Карла Тулина, Die Götter des Martianus Capella und der Bronzeleber von Piacenza (1906), вторая — работа Стефана Вайнсто-ка, Martianus Capella and the Cosmic System of the Etruscans, 1946, c. 101–129. Эллинистическая астрология, на которую указывал еще Буше-Леклерк[829], тщательно изучена; установлено, что ее роль была весьма значительной. Второй интерпретатор, кроме того, выявил влияние греческих и восточных теорий, касающихся связи левого и правого, верхнего и нижнего — с регионами Неба. Наконец, были применены все возможные способы выявить, как соотносятся друг с другом Марциан Капелла — с одной стороны, и два других документа (Печень и «Теория молний») — с другой стороны. Каковы же результаты этих трудов? Теперь уже не представляется возможным почленно сопоставить (как надеялся Тулин) обитателей шестнадцати ячеек Печени и шестнадцати регионов Марциана Капеллы, какую бы исходную точку мы ни выбрали на кромке печени. Общим для обоих документов является число подразделений и принцип распределения богов, а также то, что «Юпитер» присутствует в трех регионах (смежные регионы: I, II, III); кроме того, либо под именем Тин(ия), либо под именем Ветисл, он занесен в три другие ячейки (2, 3; 16; которые были бы смежными, если бы не промежуток I, оставленный для Килена — Cilensl). К тому же, общим является еще и то, что Ани и Уни помещены, если не в те же ячейки, что Тин(ия), то, по крайней мере, в самые ближние к нему, тогда как Янус и Юнона, соответственно, объединены с Юпитером в первом и втором регионах. За исключением этих обстоятельств (которые, впрочем, не строго обязательны), все остальные предложения вызывают сомнения. В качестве примера, а также потому, что это, несомненно, самые важные регионы, выделим все то, что можно сказать о трех первых регионах — «территории» Юпитера (I, II) или Юпитера с эпитетом Secundanus (III): Регион I. 1) Сюда, прежде всего, входит Юпитер; 2) к Юпитеру присоединены еще два бога — его коллеги, вошедшие в теорию молний по отдельности (молнии 2 и 3), а не вместе, как здесь (регион I). Это Боги-советники (Di Consentes) и Укрытые Фаворы (Fauores Opertanei). Эти последние, по какой бы причине здесь существительное не получило перевод Fauores, имеют характеризующий эпитет («укрытые»), эквивалентный эпитету Боги Высшие и Скрытые («окутанные»; Dii Superiores et Involuti). Пенаты входят в ту же группу. Римские эрудиты иногда принимали это латинское наименование за перевод или толкование этрусских имен двух коллегий; 3) Лары уже были объяснены Вайнстоком как «demons of the house» Юпитера[830], жилищем которого был главным образом регион I. Вайнсток считает, что Салюс (Salus) объясняется аналогичным образом, однако эта сущность может иметь более обобщенное значение; 4) Янус присутствует здесь в качестве бога всех начал; 5) Ноктурн (Nocturnus), возможно, осмысливается как страна света, исходная точка любой ориентировки, Север[831]. Коротко говоря, «население» состоит из богов дух типов: Юпитер и его советники (1, 2), с одной стороны, которые представляют собой главное; и боги, связанные с определенным местом (3), с неким статусом (4) и с направленностью региона по отношению к странам света (5). Регионы II и III тесно связаны с регионом I не только присутствием Юпитера, но также и распределением в них членов двух божественных триад Рима — триады капитолийской (Юпитер I, II, III; Юнона II; Минерва III) и триады до-капитолийской (Юпитер I, II, III; Квирин-Марс II, причем Квирин, очевидно, рассматривался, как это часто бывало в конце эпохи Республики, только как двойник, а здесь даже как своего рода эпитет Марса). На с. 107–108 своей работы Вайнсток полагает, что Юпитер, Юнона и Минерва упомянуты вследствие того, что стоики интерпретировали их как эфир, воздух и луну (Arn. Gent. 3, 30–31). Он считает, что Марс и Воинственные Лары (Lars Militaris) достаточно объяснены в II аналогичностью астрологической системы долей (Manilius, Astron. 3, 102), в которой вторым членом являются военные дела. Можно возразить, что список регионов лишь в отношении некоторых членов (трех из двенадцати, если признать этот последний) совпадает со списком двенадцати долей. Что же касается целого, то было бы странно, что именно две римских триады упоминаются вместе по разным причинам, не связанным с Римом. Можно также подчеркнуть, что присоединение Квирина к Марсу легче понять, если предположить, что Марциан имел в виду до-капитолийскую триаду. Более того. Восемнадцать лет назад[832] я отметил, что три первых региона неба, которые образуют очевидное единство, вписываются также и в систему трех функций, которая была достоянием всех италийцев (и, в частности, умбров) прежде, чем стала принадлежать древнейшему Риму и проявилась в до-капитолийской триаде, присутствующей здесь; но ее третий член (Квирин) утратил свое собственное значение и оказался сведенным ко второму члену (Марсу): после региона I, в котором Юпитер представлен, — со своими советниками, в священном правительстве вселенной, — регион II ставит рядом с ним воинскую функцию (Квирин-Марс, Воинственные Лары), а регион III — богатство (Jouis Opulentia[833]). И так восстанавливается что-то очень близкое теологии римского царства, где то, что по существу относится к сфере Юпитера (с Янусом и Юноной), дает место часовне Марса и часовне Опы. В связи с этим Вайнсток пишет (с. 109): «невыясненный: Iovis Opulentia». Но такая сущность, напротив, объясняется очень хорошо; ее присутствие в этой совокупности понятно. Лично я думаю, что Марциан придерживается очень древней подлинной классификации, которую этруски позаимствовали у италийцев, как только прибыли на полуостров. Такая интерпретация позволяет лучше объяснить многие другие элементы обитателей регионов II и III. Регион II. Юпитер, воинственные боги и Юнона — очень хорошо поддаются объяснению через триады. Вероятно, Мар-циан осмысливал новых богов (Nouensides) как «девять богов», и это должно относиться к девяти божествам, извергающим молнии. Следовательно, здесь Юпитер рассматривается не как верховный властитель, окруженный советниками, а как громовержец — метеорологическое божество — среди других громовержцев; и это вполне согласуется здесь с упоминаниями войны — с одной стороны, и воды — с другой стороны (ср. Юпитер Elicius). Чтобы оправдать присутствие воды, Вайнсток предполагает, что когда-то было некое древнее состояние, при котором фигурировали Юпитер (I, II, III), Нептун (II) и Плутон (III). Затем Нептун якобы был перемещен в X, оставив, однако после себя свою «замену» — Фонта (Fons) и Лимф (Lymphae). Однако это малоправдоподобно: Марциан не испытывал никаких сомнений помещая одного и того же бога в несколько регионов одновременно (Гения — в V и VI, Марса Квирина — во II и VI, Палес — в VI и VII), а введение Нептуна в X не могло повлечь за собой его устранения в II. Более того, мы видим, что Плутона в III можно объяснить, не используя эту гипотезу. Регион III. Юпитер Secundanus, Юпитер Opulentia, Минерва — оправданы триадами. Отметим, что если эпитет Secun danus (как думают многие) предполагает secunda, благосостояние, то такое уточнение в «третьей функции» уместно для Юпитера, да и Плутон не будет лишним в перспективе третьей функции: плодородие и благосостояние везде многообразны и тесно связаны с подземным миром, с недрами. Что касается Discordia и Seditio[834], которых Вайнсток понимает как естественных «союзников» Плутона, то я, скорее, усмотрел бы здесь весьма банальные мотивы, побуждающие к действию «мелкий люд», плебс, который в третьей функции является тем, чем являются сенаторы в первой функции и войско во второй. За пределами региона III рассуждения Вайнстока, конечно, весьма изобретательны, иногда привлекательны, но они не убеждают. Приходится смириться с незнанием. Если мы не можем продвинуться дальше в комментировании списка Марциана Капеллы, то тем более мы бессильны перед бóльшей частью из сорока надписей на печени из Пьяченцы. В противоположность большинству авторов я предложил разъединить кромку — единственную часть, шестнадцать ячеек которой сравнимы с шестнадцатью регионами Марциана, — и две доли печени, и представить себе левую долю (с ее розеткой) как земную часть («этот мир»), а правую долю (с ее решеткой) — как небесную часть («потусторонний мир»). Это даст возможность понять хотя бы несколько фактов. Среди богов розетки доступны для интерпретации — Килен в 35-й ячейке (которого, по-видимому, можно рассматривать как Пенатов); Сельва в 36, Сатре в 40. И вот, одна из разновидностей «этрусских Пена-тов»[835] как раз касается человека, подобно римским Пенатам; а Сильван, Сатурн — это боги, тесно связанные с почвой. И наоборот, ни один из великих «небесных» богов кромки печени не обнаруживается в розетке. В противоположность этому, в решетке два раза упоминается Тин(ия): в ячейках 17 и 19. А ()vf (в ячейке 19), θuflθas (в ячейке 18) — должен, как θvf на кромке (в 3), обозначать одного из великих советников Юпитера (тогда как второй советник — это Tin(s) Cilen «Jouis Penates?» в ячейке 2 и Килен в ячейке 1).Мир умерших
Если не заменять (как это обычно делается) религиозные понятия описанием археологических данных или историей искусств, то очень немного можно сказать о верованиях этрусков, относящихся к потустороннему миру. Albert Grenier хорошо охарактеризовал сомнения и неуверенность исследователя памятников и фигуративных документов[836]: «Самыми показательными документами являются живописные изображения, которые украшают стенки погребальных камер. Однако их интерпретация вызывает большие затруднения. Так, например, с древних времен (VI–V вв.) там можно видеть эпизоды охоты или возвращения с охоты. Как они связаны с загробным миром? Выражают ли они надежды на потустороннюю жизнь, или же отражают воспоминания, дорогие сердцу покойного, либо — еще проще — представляют собой украшение могилы, аналогичное украшению богатых домов живых людей? А те земные или морские чудовища, которые там изображены: живут ли они в аду или это всего лишь декоративные элементы, заимствованные у греческого искусства? Сцены пиров, танцы, музыка, всевозможные игры — происходят ли они на земле или в аду? Представляют ли они собой нечто, выходящее за пределы отражения обрядов, сопровождавших похороны? Должны ли они — пока будут сохраняться картины — быть благом для умершего?… Позднее, начиная с IV в., сцены, нарисованные на стенках могил, имеют в качестве места действия, несомненно, преисподнюю, но их значение не всегда понятно». Неясность, на самом деле, еще больше. Принято считать, что этруски обычно предают покойников земле, а не кремируют их. Сначала они верили, что умершие продолжают жить в самих могилах. Так объясняют настоящие погребальные дома (нередко роскошные), которые с VIII в. принимали тела покойников. Помещения, в которых они находились, имели проходы или же их окружал атриум, как в городских домах. Они были обставлены богатой мебелью и полны роскошной домашней утвари. Затем, начиная с IV в., настенная живопись, несомненно, изображает ад. Хотя эти «картины» отличаются от соответствующих греческих изображений, они все же вдохновлены ими: умерший путешествует верхом или в колеснице; в потустороннем мире его встречает группа мужчин (возможно, его предков); его ждет пир, на котором председательствуют Гадес и Персефона, которых здесь зовут Аита и Ферсифай. Разве это не указывает на радикальное изменение представлений о жизни post mortem? Вечному заключению в могиле, которую старались сделать максимально привлекательной и комфортабельной, приходит на смену пребывание в стране мертвых, для которой могила представляет собой лишь символический вход… Однако все не так просто. Когда мы говорили о Риме, мы напомнили об одной широко распространенной особенности представлений, касающихся смерти, умерших и их судьбы: это легкость, с которой даже самые образованные люди живут, соглашаются жить, противоречиво и непоследовательно относясь к этому аспекту. Более того, этруски вполне могли иметь представление о потустороннем до того, как попытались его изобразить. Они также могли наполнять могилы домашней утварью и, тем не менее, вообразить, что душа пускается в долгий путь, в конце которого она встретится с этими вещами (или их подобиями) опять. Есть обстоятельство, которое делает вероятным, что представление о стране мертвых весьма древнее. Дело в том, что в те времена, когда художники начали создавать живописное ее изображение на могилах (конечно, под греческим влиянием), они внесли в него персонажей и эпизоды, которые отнюдь не были греческими. В частности, они создали демонологию — одновременно и фантастическую, и реалистическую, — образцы которой они не могли получить с других берегов Адриатического моря, но которую они, несомненно, не выдумали сами[837]. По-видимому, они не получили собственно религиозного учения, а это пришло к ним из народной фантазии, из фольклора[838]. Самый оригинальный персонаж потустороннего мира имеет только греческое имя Хару (χarun). Хару — гений смерти. Он некрасив: «Если его крючковатый нос напоминает хищную птицу, то уши его похожи на лошадиные, а его скрежещущие зубы напоминают жестокий оскал, какой можно видеть на памятниках, и вызывают мысли о хищнике, готовом поглотить жертву», — говорит автор его лучшего портрета[839]. В то время как остальные демоны написаны в коричневых тонах, как люди, цвет плоти Харона — темно-синий или зеленоватый. Если весло Харон держит редко, то постоянным его атрибутом является деревянный молоток. Нередко его голову украшают змеи. Их также можно видеть у него на плечах и на поясе. Такие приметы достаточно ясно говорят о его функции. Он появляется около тех, кому грозит неминуемая смерть. Деревянный молоток может иметь только один смысл, именно об этом свидетельствуют некоторые памятники, правда, относящиеся к поздним временам: Харон убивает смертного, которому пришло время умереть. Затем — как своеобразный психопомп — он его сопровождает во время путешествия, пешком или верхом, уводя его из знакомого мира. Дело это не легкое: на одном знаменитом изображении можно видеть кортеж из демонов и музыкантов, которые окружают умершего, а огромный Харон держит его в своих когтях. Харон здесь не единственное, что создал этрусский гений: неистовствуют Фурии, одна из которых — точная его копия в женском обличье. Имена их не поддаются объяснению, Кулсу (Culiu), Ванф (ναηθ). Один демон мужчина с правильными чертами лица имени не имеет. Он «моложе и приятнее, и он присутствует здесь и помогает демону смерти в его деле, как бы оттеняя его»[840]. И наоборот, другому демону удается быть более чудовищным и зверским, чем он. Его зовут Тухулка (Τυχυίχα). «У него длинный клюв хищной птицы, торчащий посередине лица, уши длинные, губ нет; огромный язык; две крупных змеи стоят дыбом у него на голове»[841]. Возражая всем интерпретациям, господин Franz de Ruyt заявил[842] [843], что ужасающие персонажи не вмешиваются в потустороннюю жизнь, не являются озлобленными палачами, нацелившимися на вечную жизнь своей жертвы, что они не заняты делами ада: «роль Харона, как и роль Фурий, начинается у входа в ад». Другими словами, их присутствие — это лишь необходимость пережить неприятный момент, после чего мы вполне можем вообразить (благодаря сценам пиров, игр[843] и охоты, которые уравновешивают в настенной живописи могил изображенные там неприятные похоронные шествия), что в дальнейшем умершего ждут вечные наслаждения под покровительством Персефоны и Гадеса, и что волчья голова, которая служит Харону головным убором, — по-видимому, еще одно наследие местного фольклора, — не делает его негостеприимным[844]. В этих сценах ада нередко встречается изображение книги или свитка. Обычно демон либо просто держит книгу или свиток в руках, или же показано, что он что-то там пишет. Иногда книга или свиток находится в руках умершего, а в одном варианте — в руках родителей покойного. Нет никаких оснований думать, что здесь имеется в виду «итог деяний», предназначенный для его предъявления в суде, в судилище. Когда удается разобрать несколько букв, то видно, что это просто имя, а римские цифры указывают возраст умершего. Следовательно, uolumen (свиток) — это своеобразный «паспорт для потустороннего мира». Эти единичные указания на собственно этрусские верования недостаточны для того, чтобы попытки выявить их источник могли быть успешными. Сопоставление с демонами низкого ранга, встречающимися в ассиро-вавилонской религии, предпринятое господином de Ruyt в конце его прекрасной книги, не устанавливают преемственности. Аналогичное «население» можно найти в книгах Индии или Китая, не говоря уже о книгах нашего Средневековья. Как говорит сам ученый[845], «природа человека не меняется в ходе времен. Его психологические реакции не меняются тоже, однако форма их внешнего проявления зависит от конкретных обстоятельств и от момента в ходе эволюции идей. Этрусский демон смерти Харон — это аспект, hic et nunc, реакций человека, оказавшегося перед лицом волнующей тайны, в которой исчезает неизбежно то не менее странное благо, каким является жизнь».





Последние комментарии
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад
1 день 23 часов назад
2 дней 1 час назад
2 дней 1 час назад