[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Анатолий Жигулин ЧЕРНЫЕ КАМНИ
«Трудная тема, а надо писать»
Беседу с Анатолием Жигулиным ведёт Вячеслав Огрызко
Имя Анатолия Жигулина как поэта широко известно. Он автор 26 поэтических сборников. Его стихи переводились на английский, болгарский, венгерский, немецкий, польский, французский, японский и другие языки. В 1988 году Жигулин впервые выступил и как прозаик. Журнал «Знамя» опубликовал его автобиографическую повесть «Черные камни». Эта книга — о драматической судьбе ребят, входивших во взрослую жизнь почти сразу после войны, о том, с каким трудом происходило прозрение нашего общества. Писатель обращается к практически неизвестным страницам истории. Он рассказывает о деятельности в послевоенном Воронеже нелегальной молодежной организации, носившей название Коммунистической партии молодежи (КПМ), главная задача которой заключалась в изучении и распространении в массах марксистско-ленинского учения. Сам Жигулин являлся одним из руководителей этой организации. Ему было тогда восемнадцать лет. КПМ просуществовала всего год. В 1949 году ее руководители и многие рядовые члены были арестованы. Повесть рассказывает о том, что довелось пережить автору и его друзьям на следствии, в тюрьмах и лагерях Сибири и Колымы. Вся книга проникнута верой в справедливость, в созидательную силу революции. А написал Жигулин эту повесть в 1984 году. Анатолий Владимирович рассказывает: — Многие годы подряд мне снился Бутугычаг — есть такое место на Колыме, как наиболее страшная черная дыра, в которой я однажды оказался. — Вы о нем много писали в своих поэтических книгах. Хорошо помню Ваше стихотворение «Рассвет в Бутугычаге», в котором рассказывали о том, как в очередную жестокую ночную смену на Бутугычагском руднике вы с товарищами по несчастью встречали в ожидании перемен новый рассвет. А сколько боли и надежды в стихотворении «Мне помнится рудник Бутугычаг…»! ПомнитсяЯ не перебиваю Анатолия Владимировича, но сам вспоминаю строгие начальные строки этой главы: «Я — последний поэт сталинской Колымы. Если я не расскажу — никто уже не расскажет. Если я не напишу — никто уже не напишет». Эти строки помогают понять, что заставило писателя обратиться к воспоминаниям о драматическом прошлом. На пределе полной откровенности Жигулин пишет: «Я с самого детства, лишь закрою глаза и прижму пальцами веки, — вижу два небольших золотых озерца или самородка. Слева совсем маленькое, справа — раза в полтора-два больше. Что это? Не знаю. Предсказание и знак Колымы? Знак Бутугычага? Но на Бутугычаге добывали не золото, а серебро. Кто опишет после моей смерти кладбище в Бутугычаге? Кладбище это — вечный мавзолей, созданный природой и людьми. И никак его не разрушить». Вспоминаю давнее стихотворение Жигулина, начинавшееся пронзительным признанием:
Сам Жигулин еще в 1963 году в стихотворении «Трудная тема» провозглашал: «Трудная тема, а надо писать. Я не могу эту тему бросать. Трудная тема — как в поле блиндаж: плохо, если врагу отдашь. Если уступишь, отступишь в борьбе, — враг будет оттуда стрелять по тебе». В нашей литературе повесть Жигулина стоит пока особняком, прежде всего в исследовательском смысле. Как известно, с публикацией «Черных камней» была задержка. Сам писатель говорит: — Случилось то, что в эпоху гласности произойти не должно было. Журнал «Знамя» анонсировал публикацию повести во втором номере. Но второй номер вышел с ремаркой, в которой сообщалось, что «Черные камни» будут напечатаны в последующих номерах. Но что это значит? Номера «Знамени» третьего тысячелетия тоже будут последующими. Мою повесть отправили на проверку фактов по архивным документам. Это было нервозное для меня время, так как сам я в проверке не участвовал. Четыре месяца продолжалось мое ожидание. Надо отдать должное тем, кто скрупулезно сравнивал все приведенные в повести факты с материалами архивов. Глобальных замечаний по повести сделано не было. Удивительное дело: автобиографическое и, смею думать, художественное произведение получило документальную поддержку людей, изучивших многотомное дело КПМ. А ведь им было непросто. В тех условиях следствие было тенденциозным. С обеих сторон многие факты фальсифицировались. И все-таки исследователи смогли разобраться в архивных материалах, смогли подтвердить достоверность главнейших фактов, изложенных в моей повести. За это я им благодарен. — Еще до повести «лагерная» тема присутствовала в ваших стихах. Многие из них были написаны в годы «оттепели». Почему не все колымские стихи вам удалось тогда же опубликовать? — Я всегда в рукописи своих сборников неизменно включал все лагерные стихи. Обычно какая-то часть этих стихов проходила. Скажем, в сборнике «Горящая берёста»— он издан в 1977 году — были опубликованы такие стихи, как «Кострожоги», «Бурундук», «Летели гуси за Усть-Омчуг…», и другие. Но какая-то часть снималась. Некоторые мои стихи были слишком остры даже для хрущевской «оттепели». — Многие ваши стихи сюжетны. Почему? — Я бы так категорично говорить не стал. Даже мое самое сюжетное стихотворение «Бурундук»— это вовсе не рассказ. Это притча. А в притче все может само по себе становиться поэтическим образом. В свое время у нас произошел спор с Варламом Шаламовым, арбитром в котором выступил Александр Солженицын. Впрочем, еще до спора — в году шестьдесят четвертом — я отправил Солженицыну свои стихи — тогда это было вполне естественно, книга «Один день Ивана Денисовича» выдвигалась на Ленинскую премию. Вскоре получил ответ.
Я прошу у Анатолия Владимировича разрешения прочитать этот ответ. Письмо датировано 10 января 1965 года. Прислано из Рязани, где тогда жил Солженицын. Оно очень интересно. В нем дана оценка стихов Жигулина. Солженицын писал: «Анатолий Владимирович! Я вообще отношусь к поэзии XX века настороженно — крикливая, куда-то лезет, хочет как-то изощриться особенно, обязательно поразить и удивить. Но я рад сказать, что все это совершенно не относится к Вам. Ваши стихи сердечно тронули меня, это бывает со мной очень редко. Вы — человек честный, душевный и думающий, и все это очень хорошо передают стихи. „Кострожоги“ Ваши великолепны, очень хорош „Бурундук“. Ощущаю чрезвычайно родственно: „Я был назначен бригадиром“, „Осенью“[2]. Да и в машинописном приложении ни одного незначительного нет. Второй раздел сборника прочел хоть и не весь, но большей частью. Там есть неровности, бывают досадные прозаизмы (редко, впрочем), есть иногда и тот недостаток, который Вы заметили сами, а в общем, хоть автор работал на общих, но удивляет светлый оттенок, который выше всего, — удивляет и радует. Без всякого насилия, круто и аппетитно (вот диво!) замешивается у Вас и лагерный быт, и разные виды работ в стихи („Золото“, „Хлеб“, „Ночная смена“ и др.). Интересно сопоставить Вас с Шаламовым. Вы читали его?..» — Я тогда ответил Солженицыну, — говорит Анатолий Владимирович, — что рассказов Шаламова не читал, а вот стихи — да, и что недавно у нас с ним возник спор о лагерной поэзии. Прочитав мой сборник «Память» — он был издан в Воронеже в 1964 году, — Шаламов сказал, что, по его мнению, «Кострожоги», «Бурундук» и другие мои лагерные стихи плохо передают природу Сибири и Колымы и что он признает в поэзии только символы. Варлам Тихонович предлагал обратиться к его стихам. Он говорил, что в них плачет каждая травинка, каждый камешек. Но, на мой взгляд, вся суть была в том, что в тех, напечатанных тогда стихах Шаламова были травинки и камешки Колымы, но не было людей. Они появились только в опубликованных за границей рассказах Шаламова. А в моих стихах были люди. Об этом споре я и написал Солженицыну. Вот его ответ: «Я не смею никогда судить о теории поэзии (тем более что, по-моему, поэты и сами еще ни разу не договорились о том, что такое поэзия), но, мне кажется, Шаламов, говоря Вам о стихе-символе, за которым главное должно стоять неназванным, только предчувствуемым, — распространяет на всю поэзию метод только одного ее направления, хоть и очень ценного, очень нежного, очень плодотворного. У нас это направление началось с Блока (не ручаюсь за точность), включает Ахматову, Пастернака (перечислять тоже не берусь) и, очевидно, самого Шаламова. Со всех сторон мне толкуют, что вот это и есть единственная и истинная поэзия — когда слова даже не имеют прямого смысла, когда переходы неуловимы, алогичны, но вдруг на что-то тебе намекают, что-то навевают. Я согласен — поэзия эта великая, тонкая, изящная, настоящая, я их всех очень люблю. И все-таки никогда не соглашаюсь, что другой поэзии быть не может. По-моему, большинство стихов Пушкина и Лермонтова совершенно не отвечают этим критериям — но ниже ли они? Едва ли. Не уступлю их. (И, что меня очень удивило, Ахматова довольно высоко ставит Некрасова — а уж, кажется, противоположнее поэзии и найти нельзя.) Поэтому я все-таки хочу Вам посоветовать не верить Варламу Тихоновичу, что „Кострожоги“, „Бурундук“ и „Хлеб“ — не поэзия. Самая настоящая и самая нужная! И если пишется так — пишите!!» А заканчивал Солженицын это письмо, отправленное 20 апреля 1965 года, советом: «А прозу Шаламова постарайтесь прочесть». — Как же закончился спор? — Через несколько лет Варлам Тихонович, по словам критика Геннадия Красухина, пришел в «Литературную газету», прижимая к груди мой сборник «Полынный ветер», и спросил, можно ли ему написать на эту книгу рецензию. Красухин (он в «Литературной газете» работал уже много лет) был не против. И Шаламов написал восторженную рецензию, которая по каким-то причинам не была опубликована. — В «Черных камнях» вы обращаетесь к историческому прошлому своей семьи. Об этом размышляете и в поэме «За други своя». Но до сих пор публиковались только фрагменты поэмы. Будет ли ее продолжение? — Нет. Перегорел. В свое время не успел ее завершить, потому что тяжело заболел. А потом пошла проза. Я хорошо подготовился к поэме, прочитал множество книг, скопировал военные карты времен русско-турецкой войны, съездил в Болгарию, прошел весь путь Скобелевского отряда при штурме Плевны. Но, как ни странно, самые лучшие строки поэмы я написал в Москве, еще не побывав в Болгарии. — Что вас сейчас больше всего волнует? — Не прекратится ли вдруг гласность. Это было бы очень вредно для нашего общества. А о том, что такая опасность пока еще существует, говорит случай с предателем, названным в моей повести Чижовым. Этот ничтожный человек сумел добиться административных мер против проведения траурного митинга на могиле создателя КПМ, впоследствии талантливого журналиста Бориса Батуева. — И последний вопрос: будете ли вы продолжать писать прозу? — Буду. Но хочу писать художественную прозу. Не документальную, не автобиографическую, а художественную. Я наконец созрел для прозы.
ЧЕРНЫЕ КАМНИ (автобиографическая повесть)
Памяти моих друзей Бориса Батуева и Владимира Радкевича
ИСТОКИ СУДЬБЫ
[В тексте изменены некоторые фамилии и второстепенные географические названия. Все цитируемые, приводимые полностью или использованные в повести документы — подлинные. (Здесь и далее примечания автора.)]Я родился в городе Воронеже 1 января 1930 года. И нынче сохранился в Больничном переулке родильный дом, где я впервые увидел свет. Теперь улица называется по-другому, а дом цел, и коренные, старые воронежские жители до сей поры называют его Вигелевским (по имени дореволюционного владельца Вигеля). Моя мать, Евгения Митрофановна Раевская, родилась в 1903 году в бедной многодетной семье прямых потомков поэта-декабриста Владимира Федосеевича Раевского. У Раевских был небольшой деревянный дом под Касаткиной горой (сейчас улица Авиационная). Дом цел до сих пор. Несколько лет назад мы были в нем с матерью. Дед мой по матери, Митрофан Ефимович Раевский, потомственный дворянин (дворянство было возвращено потомкам В. Ф. Раевского в 1856 году), служил в Воронеже. Должность его была невелика, приблизительно соответствовала нынешней должности начальника городского телеграфа, пожалуй, даже поменьше. Он был очень образованным человеком, знал несколько языков (немецкий, английский, французский), отличался либеральными взглядами. В 1914 году он как связист был мобилизован в армию в чине капитана, в соответствии со своим гражданским чином 8-го класса (коллежский асессор), и некоторое время (в 1914–1915 гг.) служил на военно-полевой почте штаба верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Прекрасно владел всеми телеграфными аппаратами того времени (Морзе, Юза, Бодо и др.), отлично знал телефонную связь. Позднее служил во фронтовых частях. Дед был награжден за штатскую службу орденом св. Анны III степени, за участие в боях — орденами св. Станислава III степени с мечами и св. Владимира IV степени с мечами. Сведения об участии моего деда в гражданской войне долго были противоречивы. Дядя Шура и моя мать уверенно считали, что он служил в Добровольческой армии, тетя Катя утверждала, что — в Красной. Но эта тема, по понятным причинам, была в семье запретной. О том, что старший мой дядя, Борис Митрофанович, служил в Красной Армии, был ранен и награжден, было твердо известно. А вот в отношении деда были споры. Вопрос этот, однако, случайно и с безукоризненной ясностью разрешился в конце 60-х годов в старом, теперь снесенном доме Елисеевых на улице Ильича. (Старшая моя тетка Екатерина Митрофановна Раевская вышла замуж за учителя В. Е. Елисеева.) Было несколько Раевских и я с женой Ириной и сыном Володей, еще маленьким. Шел общий семейный разговор, и, в частности, затронули вопрос об орденах деда. Дядя Вася или дядя Шура — кто-то из них — горячо утверждал, что орденов было четыре: — Я сам их в руках держал, сам ими играл, было четыре ордена — святой Анны, святого Станислава, святого Владимира и «За Кубанский поход». — Четвертый был не орден, а знак, — сказала тетя Катя. И всё сошлось на этом знаке. Более точное его название — «За Ледяной поход». Этот знак был утвержден А. И. Деникиным после 1-го Кубанского (или «Ледяного») похода в 1918 году. Мне — нумизмату, а отчасти фалеристу — все стало ясно. Знак этот — сравнительно большой лавровый веночек из серебра, украшенный кавалерийским клинком, — я видел в Белграде или в Париже в нумизматическом магазине. Цена — целое состояние. В зимнем начале 1920 года дед возвращался из Ростова, где несколько недель лежал в тифозном бараке, в Воронеж. Где-то под Лисками его сбросили на ходу с поезда пьяные революционные матросы, скорее всею анархисты. Не понравился им офицерский китель деда. Хоть и не было погон, но видно было, что мундир офицерский. Когда выбросили из вагона, дед не разбился насмерть и мог еще идти. Но пока добрался до Лисок, безнадежно простудился — было очень ветрено и морозно, а шинель осталась в вагоне. Доехал до Воронежа и вскоре умер от крупозного воспаления легких. Шел ему тогда сорок шестой год. Главою семьи осталась моя бабка Мария Ивановна (урожденная Гаврилова, из духовного сословия). А детей осталось десять. Тяжкий голод, тяжкое время первой половины двадцатых годов. Семья переехала на улицу Перелёшинскую, дом 17 б. Жили очень бедно. Золотые ордена деда были снесены в торгсин вместе с золотыми нательными крестами и перстнями. Мать мою как дворянку в институт не приняли (она хотела учиться в медицинском). Она окончила курсы телеграфистов и поехала работать на станцию Кантемировка. Там она и познакомилась с моим будущим отцом, который работал на почте. Отец, Жигулин Владимир Федорович, родился в 1902 году в селе Монастырщина Богучарского уезда Воронежской губернии в зажиточной многодетной крестьянской семье. Имели землю и сеяли хлеб, справлялись с урожаем сами, батраков не нанимали. Дед Федор, по рассказам отца, приехал в Монастырщину из Ельца, вернее из села Большой Верх между Ельцом и Лебедянью, в конце XIX века. Примечательно, что все встреченные мною в жизни однофамильцы происходили оттуда, из того села под Ельцом. Например, в Ялте, в туберкулезном санатории, подходит ко мне официантка и спрашивает: — Извините, пожалуйста. Моя фамилия тоже Жигулина. Вы случайно не из-под Ельца родом? — Нет, я родился в Воронеже. — А отец? — Отец тоже родился в Воронежской губернии, но дед мой как раз оттуда, из села Большой Верх. Оказалось даже, что мы дальние родственники. В начале 20-х годов, пожалуй, даже чуть раньше, отец мой, поссорившись с братьями и сестрами, ушел из дому. Работал почтальоном. Потом служил в Красной Армии связистом, воевал на Кавказе, был ранен. Прекрасно помню фотографию — он в военной форме с тремя кубиками в петлицах. Члены семьи Жигулиных хлебнули всякого лиха, происходившего со страной. Муж и два сына тети Зины погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Долгие годы, до самой смерти, она получала пенсию за погибших мужа и сыновей. До реформы 1961 года — по 100 рублей, а после реформы — по 10 рублей. «По десятке за голову!» — мрачно говорил отец. Года с двадцать седьмого родители жили в селе Подгорном Воронежской области, но не в том, что под Воронежем, а в другом — за Лисками, за Сагунами, на юге области. Село Подгорное, по существу, — «главная» моя родина. Дело в том, что родился я в Воронеже случайно и раньше времени, восьмимесячным. Мать ездила из Подгорного хоронить мою бабку, свою мать, умершую в последние дни 1929 года. От волнений и переживаний матери я и появился на свет раньше. Меня еле-еле выходили. По рассказам матери и теток, был лютый мороз. Весом я был всего в пять фунтов. Согревали меня бутылками с теплой водой, клали их в колыбель. В Воронеже меня и крестили, но не в церкви, а на дому. Из Петропавловской церкви приглашали священника. До войны эта церковь еще была, а сейчас разрушена, снесена. Крестная моя мать — мамина младшая сестра, тетя Вера. Крестный отец — безвестный какой-то дьячок по фамилии Гусев. Грудным увезли меня в Подгорное, там отец работал уже начальником почты. О родном моем Подгорном. В стихотворении «Родина» я это село немного «сместил». Оно не вполне донское. В Придонье оно находится — так можно сказать. Дон протекает восточнее, километрах в двадцати пяти, в Белогорье. Через Подгорное же протекает приток Дона — река Россошь, или Сухая Россошь. Луга с желтыми цветочками — широкие-широкие, меловые горы вдали. А через луга — канатная дорога от меловых карьеров к цементному заводу. А село обыкновенное южнорусское. Белые хаты, соломенные крыши. Или камышовые. В этих местах Воронежской области Великая Россия постепенно переходит в Малую, и в разговорной речи до сей поры равноправны и русский, и украинский языки. Так я и рос первые свои семь лет — слыша и усваивая одновременно два говора. Мне казалось совершенно естественным, что можно говорить как мама, а можно — как няня Ивановна, как соседские мальчишки из «хохлацких» семей. А были и русские — «кацапские» семьи. Жили дружно, не ссорясь. Когда мы переехали в Воронеж в 1937 году, я удивился тому, что все там говорят одинаково — как мама. Правильное украинское произношение очень помогло мне много лет спустя в сибирских и колымских лагерях, где много было украинцев — бандеровцев. Приличное знание второго богатого славянского языка помогает мне и сейчас — в литературной, поэтической моей работе. А диалектизмы: русские, украинские, белорусские, польские и иные, которые я усвоил в лагерях, в этом вавилонском смешении многих языков! А лагерный, тюремно-лагерный жаргон, вернее жаргоны разных периодов! Сколько слов, каких ни у Даля и нигде не найдешь! Ожидая реабилитации в воронежской 020 колонии, я в 1954 году составил большой словарь лагерной и блатной фени. Но при освобождении у меня эти тетради отобрали, решили, что они подходят под параграф, запрещающий «разглашение сведений о местах заключения». Ах, как жаль мне сейчас этих толстых общих тетрадей!.. Там были не просто сухие «переводы» слов, скажем, «канать — идти», а статьи к каждому слову с примерами из «классики» (чаще всего из лагерных песен, анекдотов, шуток и т. п. фольклора) и из разговорной речи с вариантами значений и т. д. О подгорненском моем детстве. В эти первые, ранние годы жизни, а затем позже, летом 1942 года, в беспризорных скитаниях узнал, увидел я и усвоил, пережил и принял в сердце многие ставшие мне дорогими обычаи и понятия. Да. Я ведь жил еще и в селе Александровке в сорок пятом году, летом и осенью. Отсюда, из этих истоков, родились позже стихи «Полынь», «Утиные Дворики», «Калина» и многие другие. Ал. Михайлов в одной из статей причислил меня к «деревенской лирике». Это верно и неверно. Разрушенная церковь с березой, растущей на кирпичах у самого креста. Поле. Скрип телеги. Бесконечные проселки и тропинки. И «огурцы на приовражном суходоле», пожелтевшие в сорок шестом тяжелом году. Все это дорого моему сердцу. И ракитовые растущие колья плетней, и лебеда, и пчелы в камышовой крыше… Но я поэт и городской. С 1937 года началась моя городская жизнь. Да, с 1937 года — точно. По стихотворению определил:
ВИНА
Моим друзьям и товарищам, да и недоброжелателям и врагам, а также моим читателям известно, что я был незаконно репрессирован, был в лагерях в Сибири и на Колыме, затем полностью реабилитирован. Это известно из моих устных рассказов, но более — из моих стихов. Эти стихи, где все прямо названо своими именами: тюрьма, лагерь, расстрел, охранник, пайка, черный номер на груди, зека и так далее, — имеют свойство освещать своим черным светом и стихи, стоящие рядом, которые без них, освещающих, можно принять за обычные: какая-то беда, какая-то боль, какой-то рудник и т. п. И не только послелагерные стихи, но и моя более поздняя лирика стоят на сибирско-колымском фундаменте. Часто я слышу вопросы: — Скажите, а какой все-таки повод был для объявления вас «врагом народа»? Какие конкретно обвинения были вам предъявлены? Была ли хоть малая основа для вашего осуждения? Что именно — стихи, разговоры какие-нибудь?… Ответить на подобные вопросы кратко очень нелегко. Сотням людей в Воронеже и многим в Москве довольно подробно известно о нашем деле, о так называемом «деле КПМ». Я пишу «о нашем», потому что был осужден не один, а вместе с двадцатью двумя моими товарищами, моими «подельниками» (подельник — человек, осужденный по одному и тому же делу с кем-либо). О деле КПМ сохранилось много документов. Это материалы следствия 1949–1950 гг. — одиннадцать томов, несколько томов переследствия, нового разбора нашего дела в 1953–1954 гг. (В каждом следственном томе, как правило, около 300 листов, исписанных с обеих сторон.) Конечно же, эти и иные материалы[3] ценны для историка, для скрупулезного исследования деятельности КПМ — при всей тенденциозности следствия и вполне естественной в этих условиях фальсификации фактов как с той, так и с другой стороны. Я скажу лишь самое главное. Но как бы то ни было, все написанное мною имеет прочную документальную основу в названных материалах. В работе мне помогают и мои стихи, сочиненные в тюрьмах и лагерях, а также моя собственная память и устные рассказы-воспоминания о том времени моих близких друзей-подельников, бывших членов КПМ. КПМ — Коммунистическая партия молодежи, нелегальная молодежная организация с марксистско-ленинской платформой, — была создана в Воронеже в 1947 году учениками девятого класса 7-й мужской средней школы Борисом Батуевым, Юрием Киселевым и Валентином Акивироном. Я вступил в КПМ 17 октября 1948 года. Осенью этого года и началась активная деятельность КПМ. Были созданы ЦК и Бюро ЦК КПМ. В Бюро вошли четверо: Борис Батуев — первый секретарь ЦК КПМ, я — второй секретарь (или секретарь по агитации и пропаганде), Юрий Киселев — начальник особого отдела, Валентин Акивирон — хранитель денежного фонда КПМ. Был создан и Воронежский обком КПМ. Представлял его пока один Аркадий Чижов. Через него и его связных осуществлялось руководство низовыми группами КПМ в городе Воронеже и некоторых районах области. В группы входило по нескольку человек — от четырех до восьми и более. Независимо от численности мы называли эти группы пятерками. Лишь один из группы, ее руководитель — воорг (вожак-организатор), имел связь с Бюро через связного, фамилии которого он не знал. Таким образом, и воорг, и рядовой член КПМ знали лишь нескольких своих товарищей. Эта традиционная, широко известная из литературы, давно проверенная пятерочная структура подпольной организации даже при чудовищном провале (прямое предательство одного из руководителей КПМ, В. Акивирона, и полный «раскол» на следствии А. Чижова) позволила нам сохранить, уберечь от ареста более двадцати членов КПМ. Всего же в КПМ, насколько мне известно, было принято более пятидесяти человек, точнее — 53 человека[4]. В то время я знал далеко не всех. Со многими своими товарищами по КПМ я познакомился только после реабилитации. А некоторых и сейчас не знаю. Осенью 1948 года была утверждена Программа КПМ. Выработали, создали ее три человека, три десятиклассника, решивших посвятить свою жизнь революционному ленинскому преобразованию страны. Борис Батуев, Юрий Киселев и я. Работали мы над этим документом несколько дней в особняке на Никитинской улице (дом номер 13) — о нем будет еще речь впереди, — в комнате Бориса Батуева. Работали чаще всего вечерами, после школьных занятий. Борис сидел за своим письменным столом под лампой с зеленым абажуром. Писал он перьевой ручкой, фиолетовыми чернилами в обычной 12-листовой школьной тетради с голубой обложкой. Мы с Юрием, сидя рядом, предлагали тот или иной пункт, обсуждали его вместе с Борисом. Наибольшая часть работы пришлась на долю Бориса Батуева: он был более начитан в политической и философской литературе. Приводить здесь полностью нашу Программу я не стану, хотя она не велика по объёму и я помню ее наизусть. Скажу пока о самом главном. КПМ ставила своей задачей изучение и распространение в массах подлинного марксистско-ленинского учения. Программа КПМ имела антисталинскую направленность. Мы выступали против «обожествления» Сталина. (Слово «культ» в отношении Сталина стало употребляться значительно позднее.) В Программе был пункт, разъясняющий, почему наша организация нелегальная: «а) Как известно, в СССР не может быть двух партий, и легальная, открытая деятельность КПМ может нанести моральный, идеологический ущерб нашему государству. б) При легализации своей деятельности КПМ может быть неправильно понята и объявлена враждебной организацией». Последний, итоговый пункт Программы КПМ гласил: «Конечная цель КПМ — построение коммунистического общества во всем мире». По мере дальнейшего моего повествования я буду рассказывать или касаться других пунктов Программы КПМ. Пожалуй, необходимо сейчас добавить, забегая вперед, что Программа наша существовала в единственном экземпляре и била сожжена Б. Батуевым, когда возникла опасность арестов. Мне и моим товарищам приходится сейчас слышать и недоверчивые вопросы: — Как это вы, семнадцатилетние школьники, могли додуматься до такого? Что-то не верится. Не верящих и сомневающихся я отсылаю к сохранившимся материалам следствия, ко многим оставшимся в живых бывшим членам КПМ, к бывшим нашим следователям. Действительно, на первый взгляд создание и существование такой организации в сталинское время кажется нереальным. Да, мы были мальчишки 17–18 лет. И были страшные годы — 1946-й и 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода малыми детьми. Просили милостыню — как водится на великой Руси — Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично. В роскошный двухэтажный особняк (улица Никитинская, 13) нищих не пускали. Дело в том, что в особняке было всего лишь четыре квартиры, примерно по десять комнат каждая. На втором этаже были квартиры первого секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и председателя Воронежского облисполкома. На первом — соответственно — второго секретаря Воронежского обкома ВКП(б) и первого заместителя председателя Воронежского облисполкома. Лучшие и важнейшие люди города. Двор, участок с гаражом был окружен кирпичною стеною. У ворот — будка, кpyглосуточный пост спецотдела милиции. С телефоном, как в наше время. Но нас, друзей Бориса Батуева, обычно пропускали, особенно если на посту стоял отец одного из нас — Юрия Киселева — Степан Михайлович Киселев. Пропускали потому, что Борис Батуев был сыном второго секретаря обкома Виктора Павловича Батуева. В 1946 году Борис Батуев, Василий Туголуков и Юрий Киселев совершили лыжный поход в родную деревню Киселева Хвощеватку. На Бориса Батуева картина жизни крестьян-колхозников в этой деревне и в соседних деревнях произвела страшное впечатление. Он увидел лежащих на полу умирающих от голода, распухших людей, он увидел, как люди жуют прошлогоднюю траву, варят березовую кору… Там березы много, и район называется Березовским. Конечно, в особняке на Никитинской улице о голоде не говорили, да и в каком-то смысле почти и не знали, ибо жителям четырех квартир ежедневно привозили спецпаек — все самое лучшее, свежее, вкусное. Боря жил почти как при коммунизме, а мы, его товарищи, и соседи, и соклассники, голодали. Жмых (макуха) был большим лакомством. Да, мы пережили тот страшный голод. И отвратительно было в это время читать лживые газетные статьи о счастливой жизни советских людей — рабочих и колхозников. Тогда почему-то особенно часто печатали плакаты с изображением румяных девушек с золотыми хлебными караваями в руках. И часто показывали веселые фильмы о деревне и почему-то именно пиршества, колхозные столы, ломящиеся от яств. Какой-то государственный садизм. Вот отчего дрогнули наши сердца. Вот почему захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпадали с действительностью. Да, мы читали стихи и пели песни о «великом друге и вожде». Но мы слышали от взрослых о раскулачивании, о массовых репрессиях 1937-го и других годов. Нам было известно «Письмо Ленина к съезду», в котором он дал характеристику Сталину. Эта информация, во всяком случае, часть ее, шла к нам из семьи Бориса Батуева. Со слов Бориса знали мы и о дутом «ленинградском деле». «Не все спокойно в Датском королевстве» — это было очевидно. Так что не беспричинно, не из пустоты возникла идея создания КПМ. И было дело, за которое нас судили. У меня даже стихи об этом есть, написанные в 1961 году. Вот они:«И. В. Сталин — гениальный вождь и учитель партии, великий стратег социалистической революции… Великий кормчий революции, мудрый вождь всех народов… Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин — это Ленин сегодня».Со всех сторон, со всех стен смотрели на нас портреты великого вождя. Многие тысячи, а может, и миллионы бюстов, скульптур, монументов Сталина, сделанных из гипса, мрамора, железобетона и бронзы, стояли в наших школах и институтах, в клубах, дворцах, на улицах, на площадях. — При Ленине такого не было, — слышали мы иногда скупые, осторожные слова взрослых. В нашей семье (и со стороны Раевских, и со стороны Жигулиных) культа Сталина не было и быть не могло. Это ясно из предыдущей главы. Одни пострадали как дворяне, другие как «кулаки». Обе семьи не обошел и 1937 год. И когда летом сорок восьмого Борис Батуев дал мне прочитать «Письмо Ленина к съезду», я не был удивлен. Я еще не вступил в КПМ, но мы с Борисом были уже близкими друзьями и делились друг с другом самыми опасными в то время мыслями. Вот одна из них: «Ленин оказался прав. Более того, тридцать седьмой год показал, что Сталин еще более мрачная и опасная фигура, чем предполагал Ленин». Мы невольно задумывались: до какого предела может дойти возвеличивание Сталина, ради чего это делается? В августе сорок восьмого в День авиации сидели мы с Борисом Батуевым на каменном, но теплом от солнца крыльце во дворе особняка на Никитинской улице. У меня в руках была центральная газета с большой статьей Василия Сталина о «сталинских соколах». Я подсчитал, что в статье шестьдесят семь раз встречается слово «Сталин» или производные от него. — У нас теперь все сталинское! — мрачно сказал Борис. Начали считать города: Сталинград, Сталинабад, Сталино, Сталинири, Сталинск, Сталиногорск — сбились со счета. — А ведь есть еще пик Сталина, — вспомнил я. — А сколько заводов, колхозов, проспектов и улиц носит имя Сталина! — А сколько районов, совхозов, поселков! — Только общественным уборным не присваивают еще имя Сталина! — заключил Фиря[6]. Вот тогда-то кто-то из нас и произнес это роковое слово: «обожествление». А было именно обожествление. Поэты изощрялись, прославляя Сталина на все лады. Все рифмы на слово «Сталин» — типа «стали» — были исчерпаны. Помню восторг знакомого начинающего поэта, когда он обратил мое внимание на красочный щит со стихами в саду Дома учителя. Стихи начинались строкою: «Наш небосвод прозрачен и кристален…» — Такого еще не было! Вот это подлинная поэтическая находка! — говорил мой спутник. — «Сталин — кристален»! Такой рифмы я никогда не слышал!.. Не помню, чьи это были стихи, но первая строка и рифма запомнились. Это было в августе сорок восьмого, а в октябре я активно включился в работу КПМ. В детстве я был робким, стеснительным, даже боязливым ребенком. А в новой, необычной ситуации словно преодолел какой-то невидимый психологический рубеж. Позади — страх и робость. Впереди — большая важная работа, опасность, риск. Все было похоже на игру, но это была слишком страшная игра, чтобы называться игрою. Была утверждена вся внешняя атрибутика, которую настоящие, опытные подпольщики никогда не заводили бы. Значок КПМ — красный флажок с профилем Ленина (как сейчас комсомольские значки). Членские билеты КПМ. По моему предложению, кроме девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», был принят еще один девиз КПМ: «Борьба и победа!». Был издан первый номер рукописного журнала «Спартак». Помню его обложку, нарисованную Владимиром Радкевичем. Черным по белому: СПАРТАК. Орган ЦК КПМ. 1948. № 1. Профиль Ленина. И оба наши девиза. Гимном КПМ был утвержден «Интернационал». Немного позднее был принят и второй гимн, на слова Аркадия Чижова. Был утвержден наш особый приветственный жест: остро и напряженно согнутая в локте правая рука прикладывалась к груди так, что обращенная вниз ладонь с плотно сжатыми пальцами находилась у сердца. Организация стала быстро расти. Кроме политического журнала, было решено выпускать журнал литературный — «Во весь голос». Редактором его стал А. Чижов. Этот журнал, в какой-то степени полулегальный, и созданный вокруг него литературный кружок являлись своего рода «кузницей кадров», первой проверочной ступенью к приему в КПМ. Людей неподходящих отсеивали. Они выбывали, зная, что существует какой-то безобидный литературный кружок. Привлечение в КПМ новых людей было самым рискованным и трудным делом. Мы не могли принимать в свои ряды людей малознакомых или даже отлично знакомых, но неизвестных нам по их социальным воззрениям. Обычно член КПМ рекомендовал для приема своего самого верного друга, с которым он уже предварительно осторожно беседовал — о положении в стране, о забытых заветах Ленина и т. д. Вспомните, например, что Борис Батуев, зная меня с сорок третьего года, учась со мною в одном классе и, позднее, будучи близким другом, показал мне «Письмо Ленина к съезду» летом сорок восьмого, а вступить в КПМ предложил только в октябре. Мы не могли принимать в КПМ людей «сырых», чтобы затем «перековывать» их сознание в своих рядах. Это было бы безумием. Здесь на каждом шагу возможны были провалы. Мы изучали будущих, возможных членов КПМ, пока не убеждались, что их можно принять. Когда нас было всего трое (у Акивирона был абсцесс легкого, и он подолгу лежат в больницах), мы принимали в КПМ в особняке на Никитинской улице в комнате Бориса Батуева. Вступающие были уже подготовлены, знали о наших задачах — об изучении классиков марксизма, о нашей программе постепенного восстановления ленинизма в партии и в стране. Они приходили торжественно дать клятву и получить партийный билет. Обычно это бывало по вечерам. Верхний свет был потушен. Окно занавешено. За окном, выходившим в закоулок, нас охранял Володя Радкевич — и в мороз, и в слякоть — со своим старым наганом, в барабане которого было всего четыре патрона. На настольную лампу была наброшена красная ткань, и в комнате царил сурово-торжественный полумрак. На стене — большой портрет Ленина. У двери — застывший на страже Юрий Киселев с автоматом «шмайсер», заряженным полным магазином. Тщательно начищенный, смазанный и надраенный, словно новенький, пистолет-пулемет тускло мерцал в багровом свете. Вступающий произносил клятву. Заканчивалась она словами: «…Клянусь свято хранить тайну КПМ. Клянусь до последнего вздоха нести знамя ленинизма через всю свою жизнь к победе! Если же я хоть в малой степени нарушу эту клятву, пусть покарает меня смертью суровая рука моих товарищей. Борьба и победа!» Текст клятвы, напечатанный на машинке, подписывался вступающим, и он получал партийный билет. Так были приняты в КПМ осенью 1948 года Н. Стародубцев, В. Радкевич, В. Рудницкий, М. Вихарева, Л. Сычов, или, как мы его звали, Леня Сычик. Позднее, когда были созданы две-три неполные пятерки (по два–три человека), прием стал производиться в группах. Но так же торжественно. Правда, уже без автомата. Он был слишком велик для хождения с ним по городу и до приказа избавиться от оружия мирно пролежал в Юркином сарае. О конкретных собраниях-занятиях в низовых группах. Вообще по правилам конспирации члены Бюро ЦК КПМ не должны были посещать такие занятия. Но дважды на собраниях пятерок я все-таки был. Сначала я присутствовал на собрании воронежской пятерки Николая Стародубцева. Он жил в собственном одноэтажном домике на улице Красноармейской. Шел декабрь сорок восьмого года или начало января сорок девятого. Белостенная светлая горница. Блаженное тепло от русской печки (а на дворе мороз). Николая Стародубцева я давно и хорошо знал. Других четырех (среди них была одна девушка) никогда прежде не видел. Я представился: — Алексей Раевский. (Это была моя партийная кличка.) Однако они не представились мне — ни по имени, ни по фамилии. Так полагалось — рядовых членов должен был знать только воорг. В данном случае Николай. Этот могучий, красивый, удивительно обаятельный гигант был человеком надежным. Это подтвердилось и на следствии. Вообще все наши руководители групп показали на следствии высокое мужество — не назвали членов своих пятерок. Воронежская группа Н. Стародубцева (Чижов о ней не знал) осталась на свободе. Кто они были, я и сейчас не знаю. Политически эта группа была уже крепко подкована. Они уже читали сочинения В. И. Ленина и на этом занятии сравнивали их с книгой И. В. Сталина «Вопросы ленинизма». Находили в книге Сталина вульгарные упрощения мыслей Ленина. Со слов Н. Стародубцева я знал, что отцы двух парней из этой его группы были расстреляны в тридцать седьмом году. Миловидная, остроглазая девушка задала мне вопрос: — Товарищ Раевский, как представляет себе руководство КПМ изменение ситуации в стране? Ведь нас, наверное, не очень много? Что мы можем реально изменить? — Вы сказали, что вы студентка исторического отделения ВГУ. — (За это она после собрания получила нагоняй от Н. Стародубцева — не полагалось членам КПМ в таких ситуациях сообщать о себе подобные сведения.) — Вы закончите университет, и не только вы одна. Многие члены КПМ закончат вузы, в том числе и военные. Многие изберут себе путь партийных, военных работников, публицистов. Этот процесс медленный, но, по нашим замыслам, в указанных сферах деятельности постепенно утвердится большое количество членов КПМ (все мы, разумеется, вступим в ВКП(б)). Через такое врастание в руководящие, научные, литературные, военные слои нашего общества людей, верных ленинизму, мы, полагаю, сможем изменить духовно-нравственную атмосферу нашей действительности. — Но это же очень долгий путь! — Долгий, но верный. А какой иной путь вы можете предложить? — Не знаю, но мне хочется, чтобы изменения были более скорыми и более радикальными. — Революция, особенно бескровная, — это очень трудное и долгое дело. — А что, если убрать тирана? — весело и как бы с легкой шуткой спросил один из парней. — Это не метод. Место убитого займет Берия или Молотов, а тирания, возможно, даже укрепится. Террор — это не наш метод. — Извините, товарищ Раевский, за мой глупый вопрос. Я, конечно, знаю, что Ленин был против политического террора. Просто за отца отомстить хочется. Примерно такая же беседа — именно о мирном, постепенном приходе к власти в стране здоровых ленинских сил — была у меня и в группе Славки Рудницкого, в его квартире на улице Сакко и Ванцетти. По существу, и у Стародубцева, и у Рудницкого я своими словами пересказывал и разъяснял своим товарищам по КПМ один из главнейших пунктов нашей Программы. В группе Рудницкого было уже семь или восемь человек, в том числе и Марина Вихарева, которую перевели в эту группу по ее просьбе, подальше от А. Чижова. У них был, говоря языком XIX века, роман, который Чижов грубо оборвал. Я вышел вместе с Мариной, нам было по дороге. На улице был легкий хрустящий морозец. Горели в черной высоте крупные редкие звезды. Марина жила наНикитинской — наискось от уже описанного мною начальственного особняка. Я проводил ее домой. Мне было почему-то грустно. Мы, немногие, кто знал, как поступил с Мариной Чижов, относились к ней с какой-то трепетной нежностью, любили ее святой братской любовью. Попрощавшись с Мариной, я зашел к Борису, рассказал о собрании, о беседе у Рудницкого. — Все! — сказал Борис. — Больше никаких прямых контактов с низовыми группами! Только через связных. В этой повести вряд ли хватит места для подробного, во всех деталях, рассказа о сложнейшей и запутаннейшей истории КПМ. Но главное необходимо обозначить. Нашими действиями руководили самые искренние и благородные чувства, желание добиться счастья и справедливости для всех, помочь Родине и народу. Много было в нас и юношеской романтики. Опасность, грозящую нам, мы хоть и чувствовали смутно, но не предполагали, сколь она страшна и жестока. Вообще, по моему убеждению, только в ранней юности человек способен на такие беззаветные порывы. С годами люди становятся сдержанней, осторожнее, благоразумнее. Да, вот мои юношеские стихи, написанные в сорок шестом или сорок седьмом году, задолго до вступления в КПМ:
В конце января 1949 года, уже после пропажи журнала, Ю. Киселев был вызван в Управление МГБ по Воронежской области. С ним беседовал кто-то из отдела контрразведки. Интересовались нашим литературным кружком, нашими встречами. Юрка объяснил: изучаем классиков марксизма, читаем стихи, ничего особенного. С этого времени началась за нами слежка, которую мы заметили. Я, Борис и Юрка Кисель всерьез задумались над вопросом о настоящем роспуске КПМ. Борис был против роспуска. Четвертый член Бюро ЦК КПМ, Валентин Акивирон, лежал в это время в очередной больнице. Мы часто навещали его. Больница (она почему-то называлась станцией переливания крови) была на той же Никитинской улице, совсем близко от дома Бориса. Валентин знал о делах в КПМ в самых общих чертах. Он знал с наших слов о росте численности организации, знал примерно количество групп и то, что к концу января в КПМ было принято около 35 человек. Но фамилии принятых в КПМ людей мы из конспирации ему решили не называть. Он не знал даже А. Чижова. А вот о пропаже журнала, о вызове Юрия Киселева в Управление МГБ и о замеченной нами слежке мы Валентину сразу же сообщили. Он встревожился больше всех и вдруг написал и вручил мне «Открытое письмо членам КПМ». В этом его письме КПМ была названа антисоветской фашистской организацией. Он призывал всех выйти из ее состава. По тогдашним словам Акивирона, он намеренно исказил истину, чтобы испугать участников организации. Я принес письмо Батуеву. Втроем, вместе с Киселевым, мы прочли его и уничтожили. Но спустя несколько дней Акивирон сообщил нам, что второй экземпляр его «Открытого письма» исчез. Он высказал предположение, что документ этот, лежавший в книге, был у него похищен сопалатником, который был работником МГБ. Что касается профессии сопалатника — все оказалось верно. Но вот о пропаже письма… Мы пришли к выводу, что Акивирон сам передал свое письмо в МГБ. Может быть, и через сопалатника. Акивирон был сразу же исключен из организации, а летом 1949 года Бюро ЦК КПМ приговорило его к расстрелу. (По уставу у нас было только две меры наказания: исключение из КПМ или расстрел. Конечно, мы были детьми своего времени. И даже в чистоте помыслов своих невольно впитывали жестокость сталинской эпохи. Отсюда суровость наших мер наказания.) Может показаться странным, что смертный приговор был вынесен В. Акивирону не сразу, а примерно через четыре месяца. Почему мы медлили? Во-первых, потому, что письмо Валентина было абсурдным. Советские школьники-комсомольцы создали… фашистскую организацию. Это просто не укладывалось в наших мозгах. Мы надеялись, что и в Воронежском управлении МГБ отнеслись к письму В. Акивирона как к неумной выдумке. Ведь никакой реакции с их стороны не последовало. Но летом сорок девятого года слежка за нами стала очень явной И поэтому мы, опасаясь дальнейших непредсказуемых действий Валентина, решили убрать его. Исполнение приговора было поручено мне под руководством Бориса. Мы пришли на квартиру Акивирона. Он был один. Я уже вынул наган за спиною предателя, взвел курок и готов был окликнуть его, чтобы в глаза объявить приговор. Акивирон услышал щелчок курка, вздрогнул, но не обернулся. Он ждал слов приговора. Неожиданно Борис подал мне знак отмены: — Ладно, Толич! Навестили друга. Пойдем теперь пива выпьем в саду Дома офицеров. Когда мы молча шли к проспекту Революции проходными дворами, мысли мои и Бориса были сходны, но я все-таки спросил: — Что случилось, Фиря? Шухер какой-то был? — Нет, Толич. Не в этом дело. Здесь, брат Толич, нечаевщина получается. Конечно, Валентин Акивирон не какой-нибудь студент Иванов. Это покрупнее птица… — Да, Боря. Ты прав. Голова у Акивирона неглупая. Сумел, мерзавец, легально нас продать, оклеветать, спасти свою шкуру и при этом вроде бы не замараться. И вина его, заметь, все-таки сейчас твердо не доказана. Есть сотая доля процента за то, что копию письма у него действительно похитил сопалатник. — Однако, товарищ Раевский, ты понимаешь, что и в этом случае Акивирон несомненно заслуживает смерти — положил такой документ в книгу, которую читает сосед, подозревая, даже зная, что сосед его из МГБ… Книга была на тумбочке. Они оба читали ее по очереди… Но не стоит его сучья жизнь двух наших жизней… Борис поступил правильно. Спасибо ему. Ведь Родина лишилась бы не только будущего врача-рентгенолога Валентина Акивирона, но и будущего талантливого журналиста Бориса Батуева и будущего поэта Анатолия Жигулина. Наша уверенность в том, что Валентин Акивирон предал нас сознательно и написал свое «Открытое письмо членам КПМ» с расчетом, что оно непременно попадет в органы МГБ, или даже сам передал его работникам МГБ, подтвердилась на следствии. Он — один из учредителей КПМ, член Бюро ЦК КПМ — не был арестован, не был привлечен к делу КПМ даже в качестве свидетеля! В нашем деле имелся лишь краткий протокол о выделении дела Акивирона Валентина Владимировича в особое дело. Выделение в особое дело дела В. Акивирона, как и дел всей группы Мышкова, никак не отразилось на их судьбе. Ни Акивирон, ни Мышков с его группой не были привлечены ни к какой ответственности. Они остались на свободе. Они даже выговора по комсомольской линии не получили. Бериевский аппарат берег и ценил таких нужных людей.
Летом 1949 года мы вновь (по очень настойчивой его просьбе) приняли в КПМ Алексея Мышкова. Но ничего важного мы ему не доверяли, никакой информации об организации он не получал. В августе почувствовалось: скоро будут брать. Отлично помню предпоследнее совещание Бюро КПМ на опушке леса в Коровьем логу, где мимо парка культуры и отдыха имени Кагановича проходила трамвайная линия в СХИ. Трамвай ходил тогда не рядом с железнодорожной насыпью, а с лязгом спускался, отчаянно тормозя, почти до дна лога и оттуда с разгона поднимался на противоположный склон — с горы на горку. Было решено уничтожить все документы КПМ — журналы и прочие бумаги. Партийные билеты были у всех изъяты и уничтожены еще весной.
ПОСЛЕДНЕЕ СОВЕЩАНИЕ
В самом начале сентября 1949 года (по протоколам допросов и моим послелагерным дневникам и заметкам можно установить точную дату) состоялось последнее совещание Бюро ЦК КПМ. Почти все мы поступили в вузы. Борис Батуев, Юрий Киселев, Аркадий Чижов, Вячеслав Рудницкий, Марина Вихарева — в ВГУ. Чижов и Вихарева — на филологическое отделение истфилфака, остальные — на историческое отделение. В Воронежский лесохозяйственный институт, на тот же факультет, что и я, поступил и Владимир Радкевич. Многие поехали в вузы других городов: Москвы, Саратова, Минска, Тамбова. На последнее совещание собрались четверо: Борис, я, Кисель и Славка Рудницкий. Рудницкий был введен в Бюро вместо давно исключенного Акивирона. Позже должен был прийти Аркадий Чижов, секретарь Воронежского обкома КПМ. Он имел прочную и одному только ему (кроме Рудницкого) известную связь с группами Широкожухова и Подмолодина на левом берегу, а через Николая Стародубцева знал о больших его группах в Семилуках и Латном и в Хохольском районе, в родном селе Николая. Уверенности в том, что Чижов известен в МГБ, не было. Было не ясно даже, возьмут ли и Славку Рудницкого. Его группы никому, кроме Бюро, не были известны. У Рудницкого было две группы: пять и шесть человек. В самое последнее время одну из этих групп возглавила Марина Вихарева. Человеком она оказалась надежным — на следствии и словом не обмолвилась о группах Рудницкого. Последнее совещание Бюро КПМ проходило теплым, ясным предосенним днем в парке, который до революции и после нее был известен в Воронеже как Кадетский плац. Там, по рассказам старших, некогда пыльно маршировали кадеты. Году в сороковом плац решили сделать парком, разбили аллеи, посадили тонкие деревца. В сорок втором эту огромную — в целый большой квартал — территорию, где никто и не ходил, зачем-то заминировали нашими весьма неудачными противопехотными минами. Я их обезвреживал в сорок третьем под руководством сержанта Рыбакова. Но об этом особый сказ. Сейчас, в наше, теперешнее время, бывший Кадетский плац стал тенистым детским парком. А в сорок девятом это был заросший травой пустырь с хилыми деревцами. Мы сидели в густой высокой траве неподалеку от угла улиц Фридриха Энгельса и Чайковского. Все подходы надежно просматривались. Мы были хорошо вооружены. Встреча была грустной. Мы понимали, что скоро нас начнут брать. Нужно было принять все меры к тому, чтобы в руки МГБ попало как можно меньше наших людей. Борис, Кисель и я были твердо обречены. Киселя два раза уже вызывали в областное Управление МГБ. Перед вторым вызовом мы (я и Борис) уполномочили его заявить, что в нашу группу по изучению марксизма-ленинизма входят четыре человека: В. Акивирон, Б. Батуев, А. Жигулин и он, Ю. Киселев. Этого скрыть было нельзя, так как стоящий в начале списка Валентин Акивирон наверняка продал нас. Кого еще знал и мог заложить Акивирон, мы точно не знали. Решено было, что в случае ареста, кроме нас троих и предателя В. Акивирона, можно спокойно называть Алексея Мышкова, да и всю его группу: Н. Замораева и других — всего 10-12 человек. Лёля Мышь «работал» у нас уже провокатором (мы это отлично знали), а вся его бывшая группа была расколота и выжата, как лимон. Они, как мы и предполагали и как это выяснилось на следствии, «отдались в руки правосудия» после «пропажи» журнала «В помощь вооргу» и были прощены, рассказав все, что знали. А знали они мало. Вот почему через месяц-полтора после исключения Лёля Мышь вымолил у нас прощение и разрешение снова вступить в КПМ. Он жаждал новой и важной работы в КПМ, чтобы загладить, искупить свою вину. Его, естественно, пришлось принять. Воронежскому управлению МГБ была нужна дополнительная информация о КПМ, и мы сделали вид, что мы дураки. Мышу поручили создание новой группы из 5-6 человек. Дней через десять, однако, мы объявили о роспуске КПМ как ненужной организации, всего лишь дублирующей изучение трудов классиков марксизма в системе политпросвещения ВКП(б). Наш маневр другой стороной был понят. Мы уже раза три с помощью фиктивного роспуска КПМ избавлялись от провокаторов. Вытряхивали их в костер, как вшей из солдатской рубахи. Таким образом, для МГБ получалось, что в КПМ состоят всего лишь Бюро (4 человека) и группа Мышкова (10-12 человек), то есть можно арестовать и судить примерно 14-16 человек, из которых только Борис Батуев, Юрий Киселев и я будут осуждены. Обговорив все это без Чижова, стали ждать Аркашу, как ласково мы его называли. Он не знал, что мы собрались в 16 часов. Ему мы сказали, что начало в 17.00. Аркадий не опоздал ни на секунду. Мы видели, как он, ломая спички, закурил на углу улиц, осмотрелся. Хвоста не было. Нам это тоже было видно. Подошел быстро и осторожно, постепенно пригибаясь. Сел в траву. — Борьба и победа!.. Привет, ребята!.. — Борьба и победа! Привет!.. Мы огласили теперь уже устное (раньше писали, дураки) решение Бюро КПМ о подготовке к арестам. Постановлено было сжечь все оставшиеся бумаги (все экземпляры рукописных и машинописных наших журналов, текст второго партийного гимна, списки, адреса, письма и т. п. материалы), избавиться от всего оружия — выбросить в реку и канавы, в сортиры подальше от дома. Борис сказал: — Друзья! Нас здесь пятеро, и в наших мозгах, вместе и порознь, вся информация о КПМ, все имена, фамилии, клички членов КПМ, связные нити, ведущие к ним. Пока железно горят только трое: я, Толька и Кисель. Аркадия они скорее всего не знают, а если и знают, то лишь предположительно. Товарищ Чижов, в смысле кадров ты осведомлен больше всех. Ежели тебя все же возьмут, — смотри, Аркадий, не подведи! Умри, но не назови никого, кроме Бюро и группы Мышкова! — Друзей не продаем, этим и живем! — бодро откликнулся Аркаша, быстро-быстро потирая ладони, как от холода. Он и сейчас точно так же делает и говорит. — Ни в коем случае не называть даже уважаемого нашего Митрофана Спиридоновича. — Все улыбнулись: этим именем персонажа А. Н. Толстого, вождя анархистов, окрестил Славу Рудницкого Володя Радкевич еще в школе. — Есть шансы, что его не знают. Далее. Устав и Программа наши уже уничтожены. В Программе был пункт, известный только нам пятерым и вооргам, — о возможности в случае необходимости насильственного отстранения Сталина от власти. Забыть об этом! Это наша смерть, это высшая мера! Не ругать Сталина. Называть его имя рядом с именем Ленина. Ни слова об обожествлении Езика, ни слова об «идолопоклонстве». Это тоже наша гибель. Запомнить: и Ленина и Сталина мы любим — одинаково. Воорги об этом уже предупреждены. — А если будут пытать? — спросил Киселев. — Потерпеть придется. Да и хватит им — такой большой куш, считая группу Мышкова. Пытать вряд ли будут. Во всяком случае, пытать невыносимо, смертельно не будут… — Конечно, не будут, — поддержал Бориса Аркадий Чижов. — В ЧК работают люди с чистой совестью. Там не пытают. Это все враждебная пропаганда. Там ведется честное следствие. Виновных наказывают, иногда даже расстреливают, но не пытают. Я это знаю со слов своего отца. Он прослужил в органах государственной безопасности тридцать лет. И сам, бывало, приходилось, — расстреливал. Но не пытал. Я полагаю, что, если не всплывет антисталинская направленность КПМ, нас вообще судить не будут. Ведь наша цель — построение коммунизма во всем мире. Это же ясно! Из комсомола исключат, скорее всего. И отпустят… О том, как относится Аркадий к работе своего отца, мы уже знали, об этом я расскажу позднее. И спорить с ним мы сейчас не стали. Мне, однако, не удалось сохранить хладнокровие. — Я, увы, не разделяю розовых иллюзий Аркадия. Мужа моей тетки Кати, Василия Евлампиевича Елисеева, пытали еще в начале тридцатых годов. А мужа другой моей тетки — Веры, Самуила Матвеевича Заблуду, просто убили в тридцать седьмом. Мне было семь лет, я тихонько играл под большим столом и слышал разговор взрослых… — Толич прав, — сказал Борис. — Могу сообщить, что родственная нам группа Белкина в ВГУ, взятая в прошлом году, осуждена. Их было трое. Все трое получили по червонцу. И их даже из комсомола не исключали, сразу срок намотали. — Откуда сведения? — болезненно спросил Чижов. — Из большой-большой фанзы на улице Володарского, возле которой ты живешь, Аркаша. Но не непосредственно, а через обком ВКП(б). — Понятно… Там еще Быховский с ними был, — сник Аркадий. — Да, совершенно верно: Белкин, Быховский, третьего не запомнил. — Им легче — их было всего трое, — грустно пошутил Слава Рудницкий. — Мне только одних партийных билетов пришлось собрать и сжечь около полусотни… А теперь нужно убрать все следы. (Ему было поручено уничтожить документы КПМ. Он еще весной был назначен начальником особого отдела КПМ. До него на этом посту, меняясь, были я и Кисель.) — Ничего. Тебе будут помогать все. Хватит, однако. Все уже ясно. Осталось дать клятву. Сплетя пять правых ладоней в единое целое, мы приняли клятву. Текст произносил Борис. Спустя уже почти сорок лет я помню ее дословно: — Клянемся вести себя на следствии так, как договорились сегодня. Не выдавать ни единого лишнего человека. Признавать свое участие в КПМ можно только Батуеву, Жигулину, Киселеву. Если клятва кем-нибудь из нас будет нарушена, нарушитель будет наказан самой лютой смертью. Клянемся, клянемся, клянемся! Борьба и победа! На основании этой клятвы и Устава КПМ А. Чижов мог быть законно удавлен в августе 1950 года в Краснопресненской пересыльной тюрьме. Но об этом я еще расскажу подробно. Я забыл, а впрочем, не забыл, а именно сейчас надо это сказать. Несмотря на свертывание нашей работы, было решено (еще до прихода А. Чижова), что я буду выпускать небольшую газету под названием «Спартак», размером в развернутый двойной тетрадный лист. КПМ должна жить в глубоком подполье до самого ареста, она должна будет жить и в тюрьмах, и в лагерях (если не откроются секретные пункты программы и нам не дадут вышку), она должна будет жить и после освобождения. Так и случилось — в несколько ином смысле, в несколько иной ипостаси. В смысле чистой человеческой дружбы людей, объединенных одной судьбой, КПМ живет и сейчас. Многие читали эту мою повесть в рукописи, многим я довольно подробно рассказывал о своем, о нашем «деле». Порою приходилось слышать и такое: — А в чем же, собственно говоря, заключалась ваша непосредственная деятельность? Чего вы добились за два года нелегального существования? Примечательно, что подобные вопросы задавались сравнительно молодыми людьми, почти не помнящими атмосферы страха и всеобщей подозрительности конца сороковых годов. Но задавали такие вопросы и люди немолодые. При этом словно бы забывалась тотальная система «бдительности» и доносительства, царившая в то время. Но вопрос есть вопрос. И должен быть ответ. Я отвечаю тем, кто считает, что мы мало чего сделали, что работа, борьба наша была безрезультатной или бессмысленной. Во-первых, активная деятельность КПМ продолжалась не два года, а лишь один неполный год — с октября 1948-го по август 1949 года. Всего десять месяцев. До октября 1948 года в организации состояли лишь три человека: Борис Батуев, Юрий Киселев и Валентин Акивирон. Мало того, уже в январе 1949 года, после передачи Алексеем Мышковым одного из наших журналов в органы МГБ, за нами началась слежка. А с мая 1949 года мы уже не исключали возможности начала арестов. Так что же удалось нам сделать за эти десять месяцев, не менее пяти из которых мы работали под угрозой арестов? В таких неимоверно трудных условиях нам удалось создать антисталинскую марксистско-ленинскую организацию, насчитывающую в своих рядах более пятидесяти человек, людей свободно мыслящих, готовых нести в народ ленинские идеи, критику сталинизма. Разве этого мало? В жесточайших условиях сталинского режима нам удалось создать жизнеспособную, ленинскую по духу конспиративную структуру. Разве этого мало? Постоянно (и после возникновения угрозы арестов) велась работа по подбору и воспитанию кадров. Пятьдесят (да, пятьдесят!) человек прониклись сознанием того, что обожествление Сталина противоречит духу ленинизма, и половина из этих пятидесяти пошла за свои убеждения в бериевские застенки, тюрьмы, лагеря уничтожения. Разве этого мало? Мы изучали Маркса и Ленина, мы выпускали свои нелегальные журналы. До последнего дня, до дня ареста, выходила газета «Спартак», последний макет номера которой мне удалось уничтожить уже после ареста. Разве этого мало? А наша Программа, которая прежде всего предусматривала восстановление в стране ленинских норм партийной демократии и демократии вообще путем внедрения этих идей в массы, — разве этого мало? В Программе КПМ содержался секретный пункт о возможности насильственного смещения И. В. Сталина и его окружения с занимаемых постов. Это, конечно, был юношеский максимализм, но возник он не беспричинно. «Великий вождь и учитель всех народов» был тираном. Это ощущали наши не привыкшие ко лжи сердца. На наших глазах Сталин присвоил себе роль главного куратора всех наук: военной, биологической, экономической, исторической, языковедческой, а народ голодал, тюрьмы всё пополнялись «врагами народа». Любимой фразой Бориса Батуева в кругу ближайших друзей был вопрос: — Когда же наконец мы скинем нашего великого Ёзика?..[7] Да, это был юношеский максимализм. Это была всего фраза. Но фраза наболевшая, а потому не случайная. Да, мы не расклеивали антисталинских листовок (нас взяли бы на другой день). Да, мы не совершали и не готовили террористических актов, ибо Ленин всегда был против террора. Но мы посеяли сомнения в безупречности сталинского режима в душах многих людей, говорили им о необходимости возврата к подлинному ленинизму. Разве всего этого мало?..ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ АРКАДИЯ ЧИЖОВА
Покидая Кадетский плац, уходя с последнего совещания, мы вышли на проспект Революции, в то время, в те годы, довольно просторный, а порой и пустынный. Аркадий спешил на свидание. Марину Вихареву он тогда уже позабыл и полюбил другую. Я новую чижовскую девушку не видел. Знал только, что фамилия ее — Зайцева, что она совсем недавно принята в КПМ в группе Рудницкого. К счастью, Чижов не знал об этом. Он и не собирался вовлекать подружку в КПМ. Девушка тем более боялась сообщить ему такую тайну. Клятву давала. А наказание в предарестные дни за нарушение клятвы полагалось одно — смертная казнь! Галя Зайцева, конечно, не знала, что дни предарестные. Ей просто сказали, что наказание — одно. Здесь судьба распорядилась счастливо. Аркаша продал на следствии всех, кого знал, и всех, кого не знал. Но что и его собственная невеста тоже является членом КПМ, он, к счастью, не ведал. И Галя Зайцева благодаря этому обстоятельству и твердости Славы Рудницкого не угодила за решетку и не смогла, согласно статье 206-й тогдашнего Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, ознакомиться с материалами одиннадцатитомного дела КПМ, не смогла прочитать отвратительные показания своего нареченного о Марине Вихаревой. Даже сейчас, спустя почти сорок лет, страшно представить, что юноша, мужчина мог так мерзко говорить о своей возлюбленной. А каково было читать это самой Марине!.. Аркадий давал, говоря современным языком, сексуальные характеристики всем девушкам, с которыми был близок. Он опустился до того, что рассказал следователю, как учил заниматься онанизмом своего товарища, своего друга детства N. При чтении фиолетовых записей показаний А. Чижова в протоколах допросов эти строки наливались кровью. Ну, запугали, ну, обещали свободу. Ну, завалил группы Н. Стародубцева, И. Широкожухова и И. Подмолодина (всего около 15 человек). Но об этом, об этом-то зачем было говорить?! Ведь есть предел даже в предательстве, даже у палача есть своя философия, свои нормы поведения. Об этом-то зачем?! Следователи гоготали и записывали в казенные листы все новые и новые подробности. У нас же, читавших эти показания, возникало неудержимое желание как можно скорее встретить Чижова, чтобы убить его. Но я отвлекся. Аресты еще не начались. Как листки, как листики, как листочки клена-календаря, медленно отлетали наши последние прекрасные вольные дни. Вспоминая эти пустые (да, они уже были «пустые» — все валилось из рук) предарестные календарные дни, поделюсь тоже не очень веселой, но необходимой информацией. Чижов был подл изначально — в том смысле, что искренне считал подлость и преступление нормами человеческого бытия. Это стало ясно, когда летом сорок девятого года он вдруг сказал о своем отце: — Ты думаешь, это легкая служба?! О, нет! Даже врага — власовца или полицая — вовсе не так-то легко было расстрелять. Или, скажем, врагов народа в тридцать седьмом. Ведь приходилось порой — в этом была жестокая, но неизбежная необходимость — стрелять в затылок из нагана не только взрослым, но и почти детям!.. Я был потрясен! Мы шли в этот момент по улице Карла Маркса мимо шелестящих кленов (да, это было летом сорок девятого года). Кто-то из наших знакомых только что сфотографировал нас на память вдвоем на этой улице, фотография сохранилась. Возможно, на ней есть дата. Чижовскими откровениями я сразу же, в этот же день, поделился с Борисом и Юрием. Мы и раньше знали, что отец Аркадия, Иван Федорович Чижов, до ухода на пенсию работал в МГБ, и это нас не только не пугало, но даже в некоторых отношениях устраивало, ибо дети работников подобных организаций реже попадали под подозрение. Но мы не знали, кем работал И. Ф. Чижов. А он в тридцатые годы работал исполнителем, то есть исполнителем смертных приговоров. Раньше в России у этой должности существовало вполне определенное и официальное название: палач. Позднее появилось слово более скромное и даже отчасти загадочное. 476 смертных приговоров лично привел в исполнение И. Ф. Чижов (со слов его сына). И оказывается, Аркадий сочувствовал отцу-палачу, оправдывал его! — Да… — сказал в тот теплый летний вечер Борис Батуев. — О чем же ты думал, товарищ начальник особого отдела КПМ Юрий Киселев, когда проверял благонадежность Чижова? — Хрен же его знал, Боря! Замочить его сейчас — смерти подобно… — Да, ты прав, Кисельман. Все мы виноваты. Он нам очень может нагадить на следствии. Оборвать его связи вряд ли удастся: он многих знает в лицо. Надеяться остается, и только. — На кого? — На бога, — сказал я. — Да, окромя бога, у нас, братцы, сейчас никаких союзничков нет!.. Эх! Шлепнул бы я сейчас Аркашу! — И Борис поднял свой «вальтер». Борис любил стрелять в Репном по недозрелым арбузам. Мы по очереди стреляли. Один подбрасывал или подкидывал арбуз наискось, другой стрелял влет. От пули нагана арбуз в воздухе не страдал даже при хорошем попадании и, подбитый, пронзенный пулей, плюхался в воду реки Усманки. При попадании же тупой пули «вальтера» (патрон такой же, как у парабеллума) арбуз как бы взрывался в воздухе. Это была забава. Аркадий Чижов с его «поэтической» душой и неожиданно открывшейся симпатией к отцу-палачу обернулся вдруг непреодолимой опасностью. И сразу вдруг припомнилось, что на фронте Иван Федорович не был, что во время войны и позже был начальником лагеря военнопленных. И до сих пор еще родители наши вспоминают, как приходил И. Ф. Чижов к Внутренней тюрьме Воронежского областного Управления МГБ с передачей для сына, для Аркадия. У него принимали передачи без очереди, а у многих наших родителей (в том числе и у моих) не брали вовсе: передача запрещена. Следующий! А в народе, в очереди, люди шикали: — Пошел, палач проклятый! Сколько он душ загубил. Я уже писал о том, что А. Чижов был автором слов второго нашего партийного гимна. Помню только начальную строфу:СМЕРТЬ ПРЕДАТЕЛЮ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ КПМ! БОРЬБА И ПОБЕДА!Все эти мои надписи были заботливо сфотографированы и приобщены к делу. Нас били, лишали передач, лишали сна (это была самая страшная пытка). Допрашивали днем и ночью. Придешь в камеру утром, едва уснешь, — голос надзирателя: — Подъем! Поднимайтесь!.. Спать днем — ни лежа в кровати, ни сидя на табурете — не разрешалось. Через каждые две-три минуты открывали волчок (зрачок) на железной двери, и надзиратель орал, открыв форточку: — Не спать!.. И так много суток подряд. Чижов же, по словам его сокамерников, да и по собственным его словам, жил во Внутренней тюрьме роскошно.Спал и лежал на кровати, когда хотел.Имел свидания с отцом и матерью. (Мать его, Лидия Николаевна, — тихая русская женщина, умерла, не дождавшись сына.) Принимались любые продуктовые передачи, даже вино к праздникам. Нас били и мучили, а Чижов, лежа на кровати и куря сигарету, вспоминал все, что сам знал и что ему велели припомнить. Все мельчайшие детали наших отрицательных суждений о Сталине Аркаша припомнил. Вспоминал и «антисоветские» разговоры людей, не бывших членами КПМ. Так, он вспомнил, что, возвращаясь в 1949 году из Москвы (он ездил поступать в Литературный институт имени А. М. Горького, но по творческому конкурсу не прошел), он случайно услыхал, как какой-то инженер важного воронежского завода хвалил американские станки. Ни фамилии его, ни имени Аркадий, естественно, не знал, но он запомнил день, когда возвращался из Москвы. Инженера долго искали на воронежских заводах по дате возвращения из командировки. Предъявляли фотографии Чижову. По одной из них Аркадий опознал этого человека. Тот получил десять лет за восхваление западной техники. Очень многих людей посадил Чижов — и из КПМ, и других. Перестукиваться в тюрьме (не по азбуке Морзе, а по особым трем схемам) мы научились виртуозно. Больше других пользовались моей схемой, которую я сам изобрел. Она, как почти все азбуки для перестукивания, была построена на порядке букв алфавита. Позже я расскажу об этом способе перестукивания подробнее. Однажды меня (это бывало часто) перебросили из одной камеры-одиночки в другую. Я постучал в обе стены. Из-за одной ответили. Вот какая у нас получилась беседа: — Кто? — это простучал я. — Чижов. — Б..дь! — Не понимаю. — Мерзавец! — Суд, срок, свобода. — Предатель! — С кем говорю? — Раевский. Забегая вперед, скажу, что, когда умерла мать А. Чижова, Лидия Николаевна (или еще раньше), жить к Чижовым перебралась невеста Аркадия Чижова Галина Зайцева. Когда же вскоре после возвращения Аркадия умер от рака И. Ф. Чижов, в трехкомнатную квартиру Чижовых подселили работника Воронежского УКГБ Ивана Степановича. Три комнаты на двоих по тем временам было много. И вот тогда, в пятьдесят пятом году, Чижов как-то сказал мне, Борису и Юрию Киселеву: — Я случайно попал в архив к нашему делу. — Ну и что? — Многие страницы с моими показаниями, теми, которые были из меня выбиты, они, сволочи, вырвали. Видно, перед переследствием. Видно, боялись. Это сообщение Чижова, конечно, и удивило, и покоробило нас. Не могли наши мучители ничего вырвать в архиве, ибо были смещены или, во всяком случае, отстранены от дел в день ареста Л. П. Берии. Вырвал листы, конечно же, сам Аркадий. Это сразу напрашивалось на ум. Покоробили нас слова о том, что показания были будто бы «выбиты» из Чижова. Никто из него ничего не выбивал. Это он уже начал вырабатывать легенду в оправдание своего предательства. Однако в то время нам было не до выяснения отношений и личных споров. Мы были тогда — после переследствия 1953—1954 годов — всего лишь амнистированы. Впереди была долгая и трудная борьба за реабилитацию. И мы были, как говорится, в одной упряжке, ибо слова «обожествление Сталина», или, как писали в протоколах следователи, «клеветнические измышления в адрес Вождя» были еще в ту пору преступлением. Поэтому мы лишь промолчали, презирая в душе предателя, ибо его лживая версия о том, что из него «выбили» признания, была важнее для общего дела, чем если б он признал искренность своих показаний. Эта вынужденная молчаливая уступка предателю почти забылась после реабилитации. Но где-то в середине шестидесятых годов Борис рассказал мне, Киселю, Рудницкому, еще кому-то из друзей следующее. В связи с заявлениями наших мучителей Литкенса, Прижбытко, Белкова, Харьковского и других о восстановлении их в партии (их, естественно, не восстановили) в Воронежском обкоме КПСС перелистывали наше дело и обратили внимание на то, что из тома показаний А. Чижова (300 листов) около половины вырвано. Кто и когда изъял эти листы? Как проникли в архив, строго секретный? И вот 31 мая 1971 года всё вдруг открылось. Случайная встреча в Крыму с четой Чижовых. На набережной, напротив столовой дома творчества «Коктебель» я в присутствии моей жены Ирины и Камила Икрамова завел с Аркадием разговор: — Слушай, Аркаша, а наше следственное дело хранится где — в Москве или Воронеже? — В Воронеже. И первое дело, и дело о переследствии. Все аккуратно сохраняется. — А возможен ли доступ к нему? — Не знаю. Наверное, нет. Но я в пятьдесят пятом году наше дело видел. Все сохранилось: фотографии, протоколы… — А как тебе это удалось? — Мой сосед по квартире Иван Степанович — ты ж его помнишь, он жил в нашей квартире, в третьей комнате, пока его не отселили от нас, — работал тогда в комиссии по пересмотру старых дел, еще тридцатьседьмого года и так далее. Интересно было посмотреть эти старые дела. Иван Степанович по-соседски мне это и устроил. Я смотрел, читал и наше дело… Показания нашел… Борька первым начал было раскалываться, потом пошел на попятную… — Но позволь… На последнем совещании так и было договорено, что и я, и Борис, и Юрка Киселев — все мы скажем сразу, что КПМ была и что было в ней всего четыре человека да группа Мышкова. И больше ни слова. Он так и поступил. И я, и Кисель. — Не знаю… не помню… Там были еще показания Володьки Радкевича о том, как ты в портрет Сталина из нагана… — Скажи, а можно было изъять, вырвать часть листов? Здесь Чижов вздрогнул и потемнел лицом. Поспешно, испуганно заговорил: — Нет! Нет! Куда там! Такой надзор!.. Но — увы! — и он, и я, и все другие всё прекрасно поняли. Человек неглупый и образованный, Чижов боялся Истории, он понимал — ведь потомки прочтут, на папках было написано: «Хранить вечно». Конечно же, он сам тогда изъял и уничтожил свои самые пакостные показания. Но он просчитался: опытный исследователь- историк все равно эти следы найдет, восстановит по показаниям других членов КПМ, по протоколам очных ставок в других томах дела. А теперь предоставим слово Борису Батуеву. Вот как он описывает свою первую очную ставку с А. Чижовым в своем дневнике. (Борис, всю жизнь готовясь написать документальную книгу о КПМ, делал предварительные наброски, где писал порою о себе в третьем лице.) Текст, написанный рукой Бориса, переписываю без купюр:
«В дверь кабинета постучали. — Войдите! Сопровождаемый надзирателем, грузным и глупым старшиной Пилявским в комнату входит Чижов. Он стал еще бледнее, и до этого острый большой нос еще больше заострился, а лысая голова делала его похожим на сову. „Расскажите, Чижов, где и когда Батуев говорил то, о чем вы показывали следствию?“ Чижов испуганно вздрогнул, потом, пересилив себя, улыбнулся какой-то скверной, подлой улыбкой и хихикнул: „Ну что там, ты ведь помнишь, Борис, говорил мне о бюрократизме в партийных органах и что колхозники задавлены налогами, и что ты слушал с Киселевым „Голос Америки“?“ Глаза Бориса блестели гневом и, как бы желая остановить потекший вдруг поток лжи, он махнул в сторону Чижова несколько раз рукой. „Последнее — неправда. Врешь ты, Чижов, что я тебе рассказывал содержание этой передачи“. „Прекратить разговоры“, — оборвал следователь. — И — увести Чижова. Ну, — начал он, — „теперь ты признаешь?“ „Нет, последнее не признаю…“»А вот еще более интересный документ, следующий в тетради Б. Батуева непосредственно после приведенного выше описания очной ставки с А. Чижовым. Он называется «Судьба предателя». Эпиграфы помещены выше заголовка. Цитирую:
Как у Л. Толстого к Анне Карен(иной). «Мне отмщенье, и аз воздам». А может быть и не так?!
СУДЬБА ПРЕДАТЕЛЯ
«Рос сентиментальным, глуповато-восторженным. Природа должна была дать ему то, чего не хватало его предкам — лирики сентимент[8]. Отец его делал революцию сначала сознательно, затем оброс мхом непротивления и хуже — перестал осознавать то, что делал. Сменял клинок честного воина на пистолет карателя. Расстреливал, будучи комендантом Управ[ления][9], оклеветанных честных людей в Шиловском лесу[10]. Сын рос в среде раздвоенности и двуличия. Это сделало из него на словах революционера фразы и предателя по натуре. Это не могло пройти бесследно. Судьба. Случайно А. стал на путь революционера, но не по убеждению, а в силу сложившихся обстоятельств и скорее в силу дружественных связей. Роковой сорок девятый. Удар для его отца, это кровь за кровь. Символично. Сын попал в категорию людей, которых его отец пускал в расход. У отца в душе раздвоенность, смятение. Он знал, чем это грозит единственному сыну. И, не смея оторваться от этой среды, он откидывал то новое, что ему открылось, сбивал и сына с правильного пути — сделав его в конце концов предателем. Сына одолели страх, раздвоенность и привязанность к той среде, в которой он вырос, — он понял, что здесь спасение, хотя бы частичное — предательство своих товарищей. И он встал на путь циничного и подлого предательства, выдавая его за чистосердечность и раскаяние. Случай на очной ставке — шедевр, недосягаемый по наглости и чудовищности. Сыну простили его товарищи и даровали жизнь[11], но для себя он не обрел спокойствия — ни раскаяния полным письмом, ни попыткой представить отца своего человеком, вставшим на путь сопротивления темным силам МГБ. На следствии А. с чудовищным цинизмом рассказывал хохочущим следователям, циникам и растленным, свои любовные похождения с М. В.» Оба процитированные текста из дневника Б. Батуева датированы 7 февраля 1958 года.АРЕСТ БОРИСА БАТУЕВА
Эта глава написана со слов Бориса Батуева. Рассказывал Борис о подробностях своего ареста нечасто и только абсолютно близким друзьям: Ю. Киселеву, мне, В. Рудницкому, В. Радкевичу, Н. Стародубцеву. Сначала несколько слов о месте действия, знакомом и дорогом для меня с раннего детства. Коренные воронежцы, родившиеся не позже середины 30-х годов, или люди, поселившиеся в Воронеже до войны, отлично должны помнить примечательную в то время Манежную площадь, расположенную примерно посередине Петровского спуска — от Петровского сквера к старому (постройки около 1900 года), но уже железобетонному мосту. Площадь была почти плоской, с легким покатом к реке там, где и по сей день существует Собачий сквер. Этот сквер был большим и густо-зеленым, окруженным оградою из вертикально прикованных к поперечинам железных труб зеленого цвета. Главной примечательностью Манежной площади, мощенной теплым круглым булыжником, был и остался Манеж, точнее, Арсенал петровского времени. На Манежной площади было несколько ларьков и магазинчиков, керосиновая лавка. Знаменита Манежная площадь в военное время была тем, что в нее попала одна из немногих сброшенных немцами на город трехтонных фугасных бомб. Летчик метил, видимо, в ярко заметную красную крышу Арсенала, но промахнулся — попал в керосиновый ларек. Ветхое строение вместе с пустой керосиновой бочкой испарилось, и на его месте образовалась воронка диаметром метров в десять и глубиной до пяти метров. К сорок девятому году воронку засыпали и опять замостили булыжником. Вокруг Манежной были руины, хрупкие кирпичные коробки. Но на площади построили несколько ларьков, в том числе и пивной. 17 сентября, в теплый, почти жаркий день, Борис Батуев возвращался от Славки Рудницкого, который жил на улице Сакко и Ванцетти, сбегавшей от площади параллельно реке на север, к Девичьему монастырю. Ему, естественно, захотелось выпить пива. Он стал в очередь. Вокруг толпились люди с пивными кружками в руках. Когда очередь уже совсем подошла, Бориса окликнул молодой, незнакомый, но весьма уверенный мужской голос: — Товарищ Батуев! Можно вас на минуточку? Борис не обернулся, а лишь тихонько опустил правую руку в карман широкого пиджака. Карман был углублен и обшит изнутри кожей. Борис снял с предохранителя свой «вальтер» (один патрон был уже в стволе, в патроннике, восемь — в обойме, запасная обойма и патроны россыпью — в левом кармане). Незнакомец протиснулся к Борису сквозь толпу и жестко похлопал его по плечу: — На одну минуточку, Боря! Я из университета. Борис левой рукой взял кружку пива. Машинально посмотрел на часы. Было ровно три часа. Сдачу брать не стал и обернулся: — Слушаю вас. — Нам надо отойти на пару минут. Тут шумно. Давайте отойдем. — Никуда не отходить! — раздался голос продавщицы. — Собирай тогда за вами кружки. Пейте здесь! Кружки, кружки пустые скорее давайте! Борис, сдувая пену, рассмотрел человека, которому он зачем-то понадобился. Это был рыжеватый среднего роста тихарь в пиджаке, лет двадцати пяти, с беспокойными глазами. — А в чем дело-то? Борис сдувал пену и искал глазами второго. Второй стоял вне толпы, метрах в десяти-двенадцати. — Я из ВГУ, насчет спартакиады. Вы ведь участвуете? — В твоей «спартакиаде» я не участвую. — Все равно нам надо поговорить. И тихарь вынул из нагрудного кармана красную книжечку с золотой крупной надписью: «МГБ СССР». — Знаешь что, голубчик, …положил я на твое удостоверение! — То есть как?! — Обыкновенно, — сказал Борис, ставя пустую кружку на прилавок. — Обыкновенно — сверху! Раскрой удостоверение! — Тихарь раскрыл. — Печать неясная, поддельная. Знаю я вас, бандитов. Народ, пьющий пиво, почуяв недобрый шухер, начал отходить в стороны. Продавщица притихла. Борис постарался стать так, чтобы собеседник находился между ним и вторым оперативником. Собеседник увещевал (народ отошел, можно было говорить яснее). — Вы нужны мне на несколько минут. Просто пройдем в Управление. Вас расспросят в качестве свидетеля и отпустят. Даю слово. — Честное комсомольское? — Честное комсомольское, — обрадовался рыжий. — Не верю! Честное сталинское? — Честное сталинское! — Все равно — пошел-ка ты на … ! Тогда рыжий сделал быстрое движение правой рукой за левый борт пиджака. Но он не успел еще вытащить пистолет, как на него глянул черным девятимиллиметровым зрачком Борькин «вальтер». — Пока ты достанешь и снимешь с предохранителя свой «тэтэшник», я вшибу в тебя четыре пули! Впрочем, и двух хватит. Понял? — Понял… — Ты знаешь, кто я? — Сын Виктора Павловича Батуева. — То-то же! Ладно, я пойду с тобой. Только спокойно, без резких движений вытащи пистолет. Тихо-тихо. В дрожащих пальцах рыжего действительно оказался пистолет «ТТ». — Так. Теперь тихо разожми пальцы. Пусть он упадет на землю. Пистолет гадко брякнул на мостовую. — Второй пистолет, нож? — Второго нет. — Ладно! Отверни, раскрой, подними полы пиджака. Похлопай себя по карманам. И по задним тоже. Повернись. Так. Верю. Повернись обратно. Сделай два шага по направлению моего пистолета. Молодец. Ты один? — Один. — А чего же это второй тихарь пушку вытаскивает? Нехорошо. Сказано в Писании: «Не усугубляй вину свою ложью». Как тебя звать-то? — Василий. — Ты старший? — Да. — Вас двое? — Двое. — Прикажи второму выбросить пистолет и все сделать, как ты сделал. — Слушай, Сережа. Я тут с товарищем договорился. Он пройдет с нами в Управление Но вот принял он нас за бандитов. Не верит, боится. — Это ты боишься, Вася, а не я, и поэтому заткнись. Выполняй, Сережа, приказания старшего. Но смотри у меня! Я из этой штуки ежедневно тренируюсь по летающим арбузам. Пожалей свою голову. Сережа проделал все, как велели. У него оказался наган и портсигар. Бывшая пивная очередь с пустыми кружками и разинутыми ртами наблюдала издалека за происходящим. Подходили и другие зеваки. Прогрохотал вниз, к Чернавскому, трамвай. Из него вышел сержант-милиционер с пустой кобурой. — Что здесь происходит? — вознегодовал он. — Мы из ГБ. Следственный эксперимент. — Вася показал удостоверение. — Не вмешивайтесь! Сержант, испуганно озираясь, засеменил вниз к улице Лассаля. — Закурить можно? — робко спросил Сережа, обращаясь не то к Васе, не то к Борису. — Пока нельзя, — сказал Борис. — Давай-ка, Серега, иди по Малой Манежной налево. А ты, Вася, за ним. Но не шали. Пушку его обойди кругом, не подходи к ней близко. Сережа пошел, оставив на мостовой свою пушку, но пошел в сторону улицы Цюрупы. — Стой! Стреляю! — гаркнул Борис. — Я же сказал — по Малой Манежной! Ты что, улиц не знаешь? — Он из Курска, — ответил за него Вася. — Не знает. И они пошли по Малой Манежной и по другим тихим пустынным улицам на улицу Володарского, к зданию Воронежского областного Управления МГБ. В левый карман пиджака Борис засунул Васин «тэтэшник», в левый карман брюк — Сережин наган. Свой «вальтер» Борис держал наготове в правой руке, опущенной в карман. Тихари шли метрах в шести впереди Бориса, на расстоянии метра в два друг от друга. — Ни с кем в разговоры и ни в какие контакты не вступать! Не бежать! Идем вместе, как друзья. И главное — будьте спокойны. Оружие я вам верну, как только придем. Можно курить. Закурили все трое. Улицы были пусты. От нагретых солнцем камней мостовой и кирпичных развалин, от густой лебеды и полыни веяло горечью и теплом. Подошли к Управлению, к гранитным колоннам и ступеням. У колонн прогуливался офицер внешней охраны. Кобура его была не пустая. Тихари оживились. Боря их одернул: — Спокойно, друзья! Мы уже дома! Не волнуйтесь. Оперативники предъявили дежурному свои удостоверения. — А вы, товарищ? — Я Борис Батуев. Эти люди задержали меня. К сожалению, я принял их за бандитов и вынужден был их разоружить. Очень неясной показалась мне печать на удостоверении товарища Василия. Сейчас я войду в вестибюль и возвращу им их оружие и отдам свое, хотя разрешение на пистолет у меня имеется. Лейтенант заинтересовался: подобные случаи бывают в истории ГБ не каждые десять лет. В вестибюле сидел старший лейтенант. Борис рассказал ему то же самое. Окончание Борькиного рассказа слышал быстро сбегавший по лестнице белоглазый майор. В присутствии трех офицеров ГБ и двух смущенных тихарей Боря выложил на столик дежурного два пистолета, наган, обойму, патроны. Скромно достал из кармана свой студенческий билет. Майор озверел: — Где вы чесались … вашу мать! Уже пятый час! А он должен был быть здесь максимум в пятнадцать тридцать! — Задержанный оказал вооруженное сопротивление. — Много убитых и раненых? — Нет никого. Ни раненых, ни убитых. — Много выстрелов было сделано? — Ни одного, товарищ майор. — Долбошлепы! С пацаном не сладили!.. Последнее белоглазый майор произнес громко, но уже повернувшись к лестнице, как бы про себя. — Это не пацан, товарищ майор. Это Борис Батуев. — Я его узнал: на отца похож, — буркнул майор. — Разбирайте свою артиллерию и живо к полковнику. Дежурный последит за задержанным. Садитесь, товарищ Батуев. Можно курить. Минут через пятнадцать за Борисом пришел старший сержант. — Пойдемте со мной, товарищ Батуев. Да, по лестнице. На второй этаж. И нажал на стене кнопку. Где-то далеко зазвонил звонок. — Идите впереди меня. Поднялись на второй этаж по широкой мраморной лестнице, огибающей зарешеченную шахту лифта. — Направо, пожалуйста. Звук шагов заглушала мягкая красная ковровая дорожка. Остановились у двери с номером из литых алюминиевых цифр: 226. Сержант постучал. Послышалось: — Да. Кто? Сержант приоткрыл дверь и тихо сказал: — Батуев. — Пригласите товарища Батуева! Комната была довольно обычная. Впрочем, не совсем. Снаружи, за стеклами, была клетчатая — квадратиками — решетка. В углу справа — несгораемый сейф коричневого цвета с оборванной пластилиновой печатью. Большой письменный стол. За столом сидел полковник с золотыми погонами, на которых хорошо были видны эмблемы танковых войск. Стоявший у телефона уже знакомый белоглазый майор, судя по погонам, был артиллеристом. Полковник радушно поднялся навстречу Борису и сказал почти отечески: — Ах, Боря, Боря! Такого, прямо скажу, хулиганства[12] мы от вас не ожидали. А ведь вы комсомолец. И отца подводите. Пистолет-то, наверное, отцовский?… — Я думал, что на меня напали бандиты. — Ладно, ладно, это, в конце концов, не самое важное… Вы поступили на историческое отделение? — Да. — Что ж, это очень хорошее дело. Вы ведь и в школе увлекались историей. Даже создали кружок по изучению истории марксизма-ленинизма. — Да, но это дело прошлое. Сейчас я изучаю историю партии в университете. — Кто, кроме вас, занимался в вашем кружке? — Вы, наверное, это знаете и сами, но я скажу: Анатолий Жигулин, Юрий Киселев, Валентин Акивирон, Алексей Мышков и несколько его товарищей. — И больше никто? — Никто. Борис Батуев, как это и было договорено на последнем совещании, дал сразу именно те показания, которых нельзя было избежать. Он сказал только то, что, несомненно, было известно ГБ и ни в какой мере не являлось преступлением. Первый допрос Бориса Батуева, начавшийся в пять часов вечера 17 сентября 1949 года, длился до полудня следующего дня — семнадцать часов. Допрашивали его несколько офицеров — начальник следственного отдела полковник Прижбытко, майор Белков («белоглазый»), еще один майор — Харьковский и несколько других следователей. Время от времени они сменяли друг друга.ЕЩЕ НЕМНОГО О БОРИСЕ БАТУЕВЕ
Борис Батуев был — наравне с Володей Радкевичем — самым близким моим другом. Оба они давно погибли, но боль моя не утихает, наоборот — становится все острее и острее. Родился Борис Батуев 20 ноября 1930 года в Нижне-Тагильском районе Свердловской области. В 1937 году пошел в школу на Ленинском прииске Бодайбинского района Иркутской области. Отец его, Виктор Павлович Батуев, был не только коренным русским сибиряком. Судя по корню его фамилии, основателем рода Батуевых был человек не из пришлых российских людей, а из тех племен, которые под началом хана Кучума храбро сражались против отрядов легендарного Ермака Тимофеевича. Мать Бориса Ольга Михайловна тоже была родом из тех мест. Таких чудных сибирских пельменей, какие делала она с помощью своих дочерей Владилены и Светланы, а то и всей семьи и друзей Бориса, я ни прежде, ни позже не ел. Самый младший в семье был брат Бориса Юрий. За Владиленой (Леной) я после тюрем, после Сибири и Колымы, ухаживал. Мы, как тогда говорилось, дружили. А для Светки я решал задачи по стереометрии с применением тригонометрии, чертил чертежи и т. п. (Я до сих пор люблю и помню все школьные и институтские точные науки.) Светке было тогда пятнадцать-шестнадцать, а мне — двадцать пять. Я относился к ней с нежностью. Тем более что она была младшей сестрой моего друга. Стихотворение «Светка» посвящено ей, хотя она об этом, кажется, даже и не знает. Это был раскованный и радостный пятьдесят пятый год. Я был свободен, и все женщины были прекрасны… Виктор Павлович Батуев был профессиональным партийным работником. В 1943 году его назначили вторым секретарем Воронежского обкома ВКП(б). Вот тогда мой товарищ, мой сосед по дому на Студенческой улице, временами мой соклассник (как я уже упоминал, классы часто переформировывались) Юрий Киселев и познакомил меня с Борисом. Но это было еще детское знакомство. По-настоящему Борис Батуев начал открываться для меня в 1947 году. В семнадцать-восемнадцать лет он был уже сильной, сложившейся личностью. В школе он с презрением и дерзостью отвергал всякого рода «ужимки и прыжки» некоторых наших школьных преподавателей, видевших в нем только сына второго секретаря обкома, обещавшего вскоре стать первым. В десятом классе на выпускном экзамене Борис написал блестящее сочинение по творчеству Тургенева, которое, несомненно, заслуживало пятерки. Но… он написал сочинение, пользуясь старой предреволюционной орфографией. Для проверки грамотности пригласили преподавательницу английского, французского и немецкого языков Елену Михайловну Охотину, бывшую фрейлину последней императрицы Александры Федоровны. Елена Михайловна всю жизнь боялась, что ее арестуют, и ее «сверхлояльность» к новому строю доходила порою до курьезов. Например, приветствие Красной Шапочки при встрече с волком: «Good day, Mister Wolf!» — она переводила: «Здравствуйте, товарищ волк!» Она внимательно прочитала сочинение Бориса и с ужасом сказала: — Прекрасное сочинение! Все правильно, ни единой ошибки! Только правописание дореформенное. Борис объяснил свою «идеологически опасную выходку» весьма логично: — Я читал собрание сочинений Тургенева дореволюционного издания. У меня хорошая зрительная память. Все цитаты я запомнил в старом правописании. А приводить цитаты в старой орфографии, а сам текст сочинения писать по новой было бы нелепо. Что же касается идеологических обвинений, то они еще более нелепы, ибо реформа русского правописания была подготовлена Российской Академией наук еще в 1913 году. Указ о реформе русского правописания был подготовлен, его оставалось только утвердить подписью императора. Однако утверждение и введение нового русского правописания было отложено из-за начавшейся первой мировой войны. После войны и Великой Октябрьской социалистической революции этот указ, точнее — уже декрет, был подписан В. И. Лениным. Я готов написать новое сочинение. Готов перевести мое сочинение по Тургеневу на древнеславянский. Можете мне поставить кол и не выдавать аттестата зрелости. Поверьте, мне это сейчас глубоко безразлично. Ему поставили тройку. Шел июнь 1949 года, и мы, руководство КПМ, уже не исключали возможности скорого начала арестов. Но нам дали поступить в вузы. Это было заранее хорошо продумано: студенты — это гораздо серьезнее, чем школьники. Что еще сказать о Борисе Батуеве? Он был невысокого роста, но очень крепок и силен физически. Он, например, в декабре 1949 года в кабинете следователя на очной ставке с Аркадием Чижовым чуть не убил его. Притворившись совершенно спокойным, усыпив бдительность начальника следственного отдела полковника Прижбытко, майоров Харьковского и Белкова, проводивших очную ставку, он вдруг молниеносно выхватил из-под себя тяжелый табурет и с криком: «Сдохни, б..дь!» — бросился на Чижова, направляя удар прямо в голову Аркадия. Чижова спас надзиратель, бросившийся наперерез. Табурет был вырван из рук Бориса. Борис, однако, добрался до Аркадия и железными своими пальцами перехватил его горло. Но задушить Чижова Борису не удалось. Майор Белков ударил Бориса рукояткой пистолета или кастетом по голове. Борис не потерял сознание, однако голова закружилась, и он был оторван от Чижова усилиями трех офицеров. На руки ему надели наручники. Их достал из ящика письменного стола майор Харьковский. Борис плюнул в лицо Чижову, сел на свой табурет и хрипло сказал Аркаше: — Мы все равно повесим тебя, мерзкий предатель!.. По звонку в комнату ворвались надзиратели. Аркадий Чижов был бел лицом, как стена. Полковник Прижбытко протянул ему портсигар: — Закурите. Отдохните немного. Вы молодец! Вы хорошо помогаете следствию. Ваш отец правильно сказал вам — после окончания следствия вы будете освобождены. Я еще раз подтверждаю это. Затем, кивнув на Бориса, приказал надзирателю: — Этому немедленно хороший «пятый угол». И сразу же обратно — сюда. Выражение «искать пятый угол» Борису было известно. Но слово «хороший» в таком сочетании он слышал впервые. Должен сказать читателю, что значительная и, может быть, даже бо́льшая часть уголовно-тюремного жаргона, в полной мере познанного в лагерях, была нам, подросткам военной поры, известна задолго до лагерной нашей одиссеи. Во время войны и позже Воронеж по части шпанско-уголовной мало уступал знаменитым «родителям», как их называют: Ростову-папе и Одессе-маме. И жаргонные слова бытовали и в нашей, школьной, среде. Бориса спустили вниз, во Внутреннюю подвальную тюрьму, где мы все обитали по разным камерам. Но камера, в которую его втолкнули теперь, была просторнее обычной. Холодно. Пол цементный. Уже от первого неожиданного пинка сзади Борис упал, но поднялся. Он оказался в центре камеры. В четырех углах стояли дюжие надзиратели, обутые в тяжелые кирзовые сапоги. Четыре угла. Надо «искать пятый». Боря уже порядочно был измучен голодом, лишением сна, изнурительными ночными допросами. Он выдержал, сопротивляясь и отбиваясь, несколько первых кулачных ударов. Жестоких и подлых — в лицо, в зубы, в затылок. Защищаться было трудно — ведь руки в наручниках. Каждый бил и ударом кулака отправлял его к другому. Четыре угла. А пятого нет. Негде укрыться. Ударом ногой в живот Борис был сбит с ног. Ему надели вторые наручники — на ноги — и начали бить деловито, ногами, норовя попасть в живот, в лицо, в пах. Борис молчал. Это их особенно бесило. Они увлеклись, и тогда старший сказал: — Ребята! Давайте полегче. Ведь полковник сказал — его еще допрашивать надо. Не калечить, не убивать!.. По-хорошему надо. От удара в затылок Борис потерял сознание. Принесли ведро ледяной воды. Пока Борис приходит в себя, я расскажу читателю, как снизить шансы гибели или очень тяжелой травмы при таком битье. Надо свернуться в комок, подтянуть, лежа на левом боку, ноги к животу. Насколько возможно, защитить ногами мошонку и живот, руками, согнутыми в локтях, локтями — сердце и печень, ладонями рук — лицо, пальцами — виски. И как можно глубже втянуть голову в плечи. Это оптимальная поза при таком битье. Пусть поломают руки, ноги, перебьют пальцы — это не смертельно. Конечно, сильным ударом сапога могут и перебить позвоночник, и проломить череп. Но при битье по-хорошему это не делается. Да и вообще это не очень легко сделать: человеческий череп и позвоночник довольно крепки. Во Внутренней тюрьме Воронежского областного Управления МГБ меня, как и Бориса, били ногами по-хорошему дважды. Вот тогда я начал харкать кровью. Били Борю по-хорошему, но ни подняться, ни идти сам он не мог. Его, мокрого и окровавленного, буквально приволокли на допрос, посадили на стул. Белков дал ему сигарету. Борис сделал несколько глубоких затяжек, вытер носовым платком кровь с лица, выплюнул в сторону Чижова выбитый передний зуб, посмотрел на предателя и произнес, обращаясь к нему, первое, после того как его уволокли из комнаты, слово: — Б..дь! Аркаша волновался и был по-прежнему бледен. Пока Бориса били внизу, он успел выкурить несколько сигарет. Полковник Прижбытко спросил Бориса: — Вы не могли бы припомнить, был ли в вашей программе пункт о возможности прихода КПМ к власти с помощью вооруженного восстания? Был ли такой пункт? — Не было такого пункта! — Но вот ваш друг Аркадий Чижов утверждает, что такой пункт был. — Какой он мне друг?! Он ваш друг. Вы — палачи, а он — сын палача! Полковник рассердился: — За оскорбление следователей — десять суток строгого карцера! Слова «строгий карцер» означают, вернее, означали в то время и в той тюрьме следующее. Заключенного, раздетого до нижнего белья, помещают в узкий каменный мешок, размером примерно два на три с половиной метра. Высоко наверху окошко с решеткой и без стекол — в любое время года. Зимой в карцере на полу и стенах — белый иней. Летом на цементный пол наливается вода, чтобы узник не мог спать даже на цементном полу. Единственная мебель в строгом карцере — выступающее торчком из цементного пола бревно — сиденье длиной около 25 сантиметров. Единственная пища — 200 граммов хлеба и кружка воды в сутки. Полагалась еще миска супа-баланды — через два дня на третий. Но ее, как правило, не давали. В обычном карцере все было так же, но на ночь для спанья приносили деревянный щит в две неширокие доски. И давалась через два дня на третий упомянутая миска баланды. В карцере обычном (когда следствие кончалось и заключенный наказывался лишь за нарушение тюремного режима: перестукивание и т. п.) давалась летняя одежда и обувь. Я уже сказал, что, как и Борис, дважды пережил хороший пятый угол (с той лишь разницей, что при одном из моих «пятых углов» я был в нижнем белье — меня брали на «поиск пятого угла» из строгого карцера). Строгий карцер пережил я дважды: по 5 и 7 суток.Наверное, читатель заметил, что я порою повторяюсь, рассказываю сбивчиво, не соблюдая хронологии, то забегая вперед, то снова возвращаясь к уже рассказанному. Это оттого, наверное, что вспоминать мне больно — я словно заново все переживаю и «захлебываюсь» в воспоминаниях. Вот и сейчас со школьного сочинения Бориса я перескочил на описание его очной ставки с Чижовым. Этот эпизод, разумеется, тоже ярко характеризует большую силу воли Бориса, его необыкновенную личность. Но все-таки закончу, подведу самые начальные итоги рассказа о Борисе Батуеве (в других главах я много еще буду говорить и о Борисе, и о Чижове, и о Киселеве, и других моих друзьях и врагах). В глазах Бориса всегда была видна и доброта, и сила. Он никогда не кичился тем, что его отец — второй секретарь обкома. Единственный раз он припугнул этим контрразведчика Васю, когда его арестовывали. Борис был среди нас самым начитанным, образованным, он был единственным в КПМ человеком, прочитавшим Библию. Читал он и Ницше, и Гегеля. Читал Маркса, Ленина, Сталина. Ему раньше всех нас стало известно «Письмо Ленина к съезду». И наконец, Борис был дальновидным человеком. Когда еще в сорок восьмом году я предложил принять в КПМ моего младшего брата Вячеслава (мы с ним погодки), Борис сказал: —Нет, брата не надо, не надо Славку. Пусть хоть один сын у родителей останется… Всю мудрость этого решения я полностью осознал только в тюрьме.
СЛЕДСТВИЕ
Это самая страшная часть моих воспоминаний, не для читателя — для меня. Читателям, возможно, покажутся более трагическими многие эпизоды лагерной моей жизни, но для меня следствие и Внутренняя тюрьма Воронежского Управления МГБ, где я провел одиннадцать месяцев в сырых подвалах и карцерах, где меня дважды избивали почти насмерть, — для меня это был самый настоящий ад. Как и для всех нас, кроме Аркадия Чижова, нашего предателя. Вернусь ко дню ареста. Через парадный вход меня ввели по гранитным ступеням в темно-серое, с черным гранитным цоколем здание Управления МГБ. Провели через вестибюль в какую-то комнату и предложили посидеть подождать. Оперативники ушли, оставив меня наедине с крупным пожилым человеком в военной форме. Погоны, как раньше называлось, унтер-офицерские — старшина или сержант. Что-то в этом роде. Меня еще не обыскивали, а лишь «обхлопали» на предмет оружия. Но у меня во внутреннем левом кармане пиджака был макет нашей рукописной газеты «Спартак». Я попросился в уборную. Дверь в кабину надзиратель оставил открытой, но стоять напротив меня не стал. Под шум воды я порвал на мелкие кусочки макет и, дождавшись, когда бачок снова наполнился, спустил бумажные обрывки через унитаз в канализацию. Вернулись в вестибюль, и вскоре мой надзиратель получил не слышный мне приказ и сказал: — Пойдемте! Мы пошли направо длинным коридором первого этажа по мягкой красной дорожке мимо бесчисленных дверей, обитых дерматином. Мелькали белые крупные цифры номеров комнат. — Стой! Повернитесь направо и подойдите вплотную к стене. Голову не поворачивать, смотреть в стену. Надзиратель позвонил в дверь. Она приоткрылась. — Заходите! — сказал надзиратель. Я зашел. Навстречу мне поднялся небольшой, даже, пожалуй, коротенький человечек в форме с погонами лейтенанта. Он был белобрыс, вихраст и курнос. Не подавая руки, представился: — Следователь первого отделения следственного отдела лейтенант Коротких. Прошу садиться. — И указал мне на стул, стоящий напротив его письменного стола, но не близко, а метрах в двух. Я сел, осмотрелся. На большом широком окне была крепкая решетка из толстых стальных прутьев, продетых в отверстия поперечных полос. Снизу примерно на две трети окно было скромно занавешено легкой, пропускающей свет занавеской. Стол был поставлен наискось, и я сразу же хорошо рассмотрел лицо лейтенанта. И лицо, и глаза, и веснушки его были как у деревенского подпаска. И мне стало весело. Наступил наконец момент, когда вдруг, как ноша с плеча, как с шеи камень, спало чудовищное напряжение предарестных недель. Я машинально посмотрел на часы. Было 15 часов 30 минут. Так ли, сяк ли, но на свидание с Зоей Емельяновой, студенткой 2-го курса мединститута, я, пожалуй, не попаду. А это было первое наше свидание с нею, назначенное на шесть часов вечера у кинотеатра «Пролетарий» под часами (большие такие электрические часы, они, наверное, и сейчас там висят). За письменным столом в углу стоял высокий коричневый несгораемый сейф. Лейтенант взял лист бумаги (он был казенный — не простой, а с печатным заголовком «Протокол допроса»). Быстро записал необходимые мои данные (где родился, где крестился и т. д.), и прозвучал наконец вопрос серьезный: — Что вам известно об антисоветской подпольной организации КПМ? — Абсолютно ничего не известно. Никакой антисоветской организации не знаю. Мне весело подумалось: а вдруг они даже и меня не знают? Пойду ва-банк! Вдруг пофартит. — Вы врете! Я вас сейчас разоблачу! Вот это вам знакомо? И он вытащил из письменного стола тот самый, изданный в единственном экземпляре мой, наш журнал «В помощь вооргу», который якобы сжег дядя Мышкова. Это он, конечно, глупость сделал — начал игру с таких больших козырей. — Экспертиза установила, что весь текст написан вашей рукой. — А я и не отказываюсь. Да, моей рукой весь текст написан, но что в нем антисоветского? Там ни единого слова антисоветского нет! — Врете! Сейчас я вас и в этом уличу. Вот это место в статье Анчарского: «Члены КПМ должны рассеивать в массах идеи марксизма-ленинизма». — Ну, и что же здесь плохого? Сеять, рассеивать, делать посев, чтобы было больше всходов. — Нет, нет! Здесь слово «рассеивать» означает, что вы хотите, чтобы идеи марксизма-ленинизма рассеялись, чтобы их не было! Вот что вы хотели! — Я могу согласиться с вами, что слово «рассеивать» в статье Анчарского не очень точное, однако толковать его так, как вы его толкуете, ни в коем случае нельзя. Если возникло какое-то сомнение в строке, в предложении, в слове, то надо прочитать предыдущий и последующий текст. Прочтите это предложение и предложение, следующее за ним. — Пожалуйста! «Члены КПМ должны рассеивать в массах идеи марксизма-ленинизма…» — Читайте, дальше, дальше… — «Они должны воспитывать себя и своих товарищей в духе преданности идеям марксизма-ленинизма…» — Ну вот, и все стало ясно. — Нет, ничего не стало ясно. Слово «рассеивать» осталось. Уже шесть часов вечера, и Зоечка ждет меня под часами. А мы с лейтенантом Коротких ведем долгую, бесконечною беседу о смысле слова «рассеивать», вырванном из текста. К трем часам ночи наша почти двенадцатичасовая беседа была оформлена в виде одного листка протокола. К согласию мы не пришли. Я подписал внизу, как потом сотни раз подписывал: «Показания записаны с моих слов правильно и мною прочитаны. Ан. Жигулин». За окном был уже недалек рассвет. Небо явственно светлело. Сквозь верхнюю, незавешенную треть окна были видны руины двухэтажного дома и деревья. Кажется, тополя. И сложилось нечаянно первое в неволе двустишие:Январь 1950 года.
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера
Майор МГБ в отставке И. Ф. Чижов частенько наведывался к своим бывшим коллегам. Ему хотелось спасти сына. Он просил свидания с ним; а ему не разрешали. Сначала. Потом, когда у следственного отдела возникли трудности, разрешили. Это произошло приблизительно 28 сентября. В присутствии полковника Прижбытко и других офицеров отдела Чижов-старший уговаривал Чижова-младшего стать предателем своих друзей: — Сыночек, милый! Расскажи все, что знаешь! Даже если тебя не спрашивают о чем-то, а ты об этом знаешь, говори! Говори все, и тебя освободят! Майор МГБ в отставке И. Ф. Чижов почему-то не понимал, что именно в этом случае его не освободят: чем больше он вспомнит, тем крепче свяжет себя с судьбой остальных членов организации. — Меня отпустят. А других? — Кого-то тоже отпустят. Лишь некоторые могут получить небольшие, почти символические сроки. — Хорошо! Пишите! Я не простой, не рядовой член КПМ. Я — секретарь Воронежского обкома КПМ! Я знаю очень много. Почти всё! — А кто знает «всё»? — Бюро ЦК КПМ: Б. Батуев, А. Жигулин, Ю. Киселев. Странным казалось нам долгое время именно то, что И. Ф. Чижов, сам работник ГБ, уговорил сына говорить все, что прикажут, то есть сам подталкивал его к признанию вины и жестокому наказанию. Потом мы поняли. Ведь отец Аркадия никогда не был следователем и плохо разбирался в следственной практике. Он много лет, как я уже писал, был исполнителем, то есть палачом, позже — начальником лагеря военнопленных, и, наконец, перед уходом на пенсию, — комендантом Управления, капитаном. Звание майора ему дали напоследок, чтобы больше была пенсия. Ведь славно послужил народу. И он, конечно, был кретином. Иначе не стал бы в подобной ситуации уговаривать своего сына говорить все, что было и чего не было. И поселили Аркадия Чижова в теплую солнечную камеру с паркетным полом, с окном, выходящим во двор Управления, и поэтому не имеющую у окна кирпичного колодца. Дали ему бумагу, перо и сказали: — Садись и пиши! И полетело, понеслось! И контрразведке сразу нашлось много дел. Аркадий назвал всех своих вооргов (группоргов). В Сталинском (теперь Левобережном) районе было у нас две группы по 6-8 человек. Это были группы Ивана Широкожухова и Ивана Подмолодина. Я однажды видел И. Подмолодина, встретили мы его с Чижовым на улице Карла Маркса. Иван занимался в аэроклубе и шел туда в летной форме. Был он красив, высок и статен, и глаза его были синими, тревожно-веселыми. Это было числа 9 сентября. Мы познакомились: — Иван. — Алексей. Он улыбнулся, потому что предполагал, что я не Алексей, а может, скорее всего, улыбнулся просто так. Таким он и остался навсегда в моей памяти — с веселыми, добрыми и тревожными глазами. С летным шлемом в руке (он летал на ПО-2). Погода стояла прозрачная. Когда мы расстались с Подмолодиным, Аркадий сказал: — Это один из двух моих группоргов в Сталинском районе… — Подмолодин? — Ты его знаешь? — Нет. По шлему догадался. От жестоких избиений, многократных «пятых углов» во Внутренней тюрьме Иван Подмолодин сошел с ума. Но из него так и не выбили ни одной фамилии. Его смертельно искалечили, по существу — убили. Иван Широкожухов тоже не назвал никого из своей группы. Его тоже крепко били. Он тоже сошел с ума, но позже, в лагере. Группы левобережные, как и группы Николая Стародубцева (он тоже никого не назвал), были выловлены контрразведкой по кругу общений. Однако не полностью. Из пяти этих групп на воле осталось не менее десяти членов КПМ. Итак, Аркаша начал класть, класть всё и вся. Если после ареста нам совали под нос клеветническое и подлое письмо В. Акивирона, то теперь заработал другой материал. Нас давили показаниями А. Чижова. Следствие вообще велось подло — об избиениях до полусмерти, ледяных карцерах, лишении сна я уже писал. Подло велись и записи в протоколах допросов. Полагалось записывать слово в слово — как отвечает обвиняемый. Но следователи неизменно придавали нашим ответам совсем иную окраску. Например, если я говорил: «Коммунистическая партия молодежи» — следователь записывал: «Антисоветская организация КПМ». Если я говорил: «собрание», — следователь писал: «сборище». Если я говорил: «Был принят в ряды КПМ» — следователь писал «Был завербован в антисоветскую организацию КПМ». Ничто позитивное в протоколы не записывалось. Сочетание букв КПМ в окончательном тексте протоколов было расшифровано лишь один раз и вот в каком контексте: «Антисоветская террористическая молодежная организация, преступно именовавшая себя КПМ (Коммунистическая партия молодежи)». Всё, что мы говорили о коммунистической направленности организации: изучение работ Маркса, Ленина, гимн «Интернационал», конечная цель — построение коммунизма во всем мире, — все это было изгнано из ранних протоколов. Просто они были заново переписаны следователями в новой, нужной им редакции. Начальные графы протоколов: «Допрос начат… допрос окончен…» — почти всегда оставались незаполненными. Это давало следователям возможность по своему усмотрению манипулировать этими важными данными. Я заметил эту хитрость слишком поздно. Да… Если они и признавали в наших исканиях идейную основу, то только в виде троцкизма или двурушничества. Я позволю себе процитировать окончание моего стихотворения «Третье письмо из тюрьмы», обращенное к H. С. Яблоковой, женщине, о которой скоро будет речь.
Ночь на 1.1.50
ВТ УМГБ ВО
К. 6–я левая
Пока А. Чижов не начал нас изобличать, нас не только мучали, но еще и уговаривали. Например, так: — Вы стремились к захвату власти в стране! — Ни в коем случае! — Ну вот, подумай, ведь вы все поступили в вузы, со временем окончили бы их, многие из вас вступили бы в ВКП(б), многие избрали бы своим поприщем партийную работу, или (из окончивших высшие военные учебные заведения) военную карьеру, или иную государственную важную службу. Секретарь райкома ВКП(б), директор крупного завода, командир полка и так далее — это ведь тоже власть! Значит, вы стремились к ней. — Что ж, по вашей логике, получается так. Результатом такого «убеждения» и многодневной насильственной бессонницы (спать не давали неделями!) и появлялся в протоколе мой ответ в такой вот редакции следователя: — Да, я признаю, что КПМ стремилась к захвату государственной власти в стране. Я протестовал против подобных редакций моих ответов, но майор Белков (или Харьковский) ласково спрашивал: — Хочешь еще один «пятый угол»? И я подписывал. Ведь не умирать же здесь, в тюрьме! Из лагеря можно попытаться бежать. Такая светлая надежда впереди! Но когда в полную меру «заработал» Аркадий Чижов, нас перестали уговаривать. Суя нам протоколы допросов Чижова (а его почерк и подпись я хорошо знал), на нас бешено орали: — Вы готовили вооруженное восстание против Советской власти, готовили террористические акты, занимались антисоветской агитацией! Расскажите обо всем этом подробно! Где находится, где спрятано ваше оружие? Слава богу, все члены КПМ надежно спрятали или выбросили оружие! А вот Борис — какая оплошность! — не спрятал и не выбросил свое, вернее — наше общее оружие. В его комнате в ящике письменного стола хранилось 6-7 разных пистолетов и револьверов. Лена, старшая сестра Бориса, знала об этом оружии. Борис часто стрелял в комнате и во дворе. Узнав, что Борис арестован, она обыскала комнату брата и сложила все это оружие, обоймы, даже стреляные гильзы в большую женскую сумку. Наблюдение за домом после ареста Бориса было временно снято. У ворот дежурил еще Степан Михайлович Киселев. И поздним сентябрьским вечером (числа 20-22-го) Лена вышла с этой сумкой погулять. Она рассказывала мне после нашего возвращения. — Я очень боялась, что какой-нибудь из пистолетов выстрелит. Там был один большой и тяжелый, я его никак не могла просунуть через решетку. Она еще днем облюбовала местечко — крупнорешетчатый люк для стока воды на углу улиц Студенческой и Университетской. К нему она и пошла и с большой опаской (вдруг выстрелит!) выбросила туда все оружие, высыпала патроны и гильзы. Лена, в сущности, спасла нас от статьи 58-2 УК РСФСР. Ибо орали следователи: «Вооруженное восстание!» Но если готовилось восстание, да еще вооруженное, где же оружие? Пистолет «вальтер» принадлежал В. П. Батуеву. А обгорелый ствол малокалиберной винтовки, найденный в сарае у кого-то из группы Подмолодина или Широкожухова, никак на оружие для восстания потянуть не мог. Он был детально изучен, и в протоколе технической экспертизы было с печалью написано, что экспериментального выстрела из ствола винтовки ТОЗ-8 № такой-то произвести не удалось. Да, не удалось пришить нам вооруженное восстание, но зато пришили нам террор — 8-й пункт 58-й статьи, и вот как это случилось. Рядом с моим четырехэтажным домом, построенным еще в 30-х годах, стоял на Студенческой улице дом 34, грязно-кирпичный, в готическом стиле, коридорной системы. Там жил Юра Киселев. До 1943 года Юра вместе со своей семьей жил в селе Хвощеватка, село дальнее, глухое черноземье. До сих пор там говорят еще «идеть», «чаво» и т. д. Рязанско-воронежский говор. И вот Юркиному отцу-милиционеру предложили службу в городе, дали комнату на Студенческой. И стали мы с Юркой соседями, а потом и друзьями. Юра Киселев — единственный из оставшихся в живых моих самых близких друзей, последний настоящий друг по КПМ. Я посвятил ему в 1973 году стихотворение «Дорога».
И отдал наган Борису. Борис сказал: — Спасибо, Толич! Только очень жаль, что это был всего лишь портрет тирана. Ничего, мы его, может быть, из этого самого нагана… Наутро, несмотря на то, что шли вступительные экзамены (я поступал, как уже писал, в ВЛХИ — Воронежский лесохозяйственный институт) и нужно было заниматься, я рано вышел из дому и встретил на улице Комиссаржевской Володю Радкевича, моего близкого (как Борис и Кисель) друга. Мы уже три года отучились в одном классе, состояли в одной организации КПМ. Вовка Радкевич был младше всех нас. Ему было 16 лет, когда он окончил школу. Сохранилась фотография: я и Володя летом 1949 года возле нашей седьмой мужской средней школы. У меня уже пробивались усики, а он был совершенно ребенком. Юное, прекрасное, почти детское лицо. Сейчас смотрю и думаю: да мог ли быть преступником этот мальчик (а ведь через месяц возьмут и его!), этот птенчик, этот воробышек? Боже мой, что творилось на свете! Володька Радкевич был самым юным и самым маленьким в классе, но прозвище у него было просто чудовищное. Даже произносить сейчас противно: «Харя». Жуть! Потом, впрочем, уже в 10-м классе, это прозвище мы смягчили: Харюня, Хариус, Харькони… Это о нем написал я юмористические шуточные поэмы «Бессмертная баллада о необыкновенных приключениях моего друга-бандита Владимира Радкевича» и «Необыкновенные приключения моего друга-бандита Владимира Радкевича за Полярным кругом» («Во льдах»). Страшно даже думать об этом, но тогда, весною сорок седьмого года, в шуточной поэме я предсказал ему все: и тюрьму, и лагеря, и стальные браслеты, и даже самоубийство… В классе эти поэмы имели потрясающий успех. Юный подросток — да какой там подросток — мальчик с почти ангельской душой и лицом! — был описан жестоким бандитом-авантюристом. «Бессмертная баллада…» объемом в две общих ученических тетради с блестящими рисунками главного героя (Володька прекрасно рисовал) обошла всю школу. Володька Радкевич — судьба особая. ь Родился и воспитывался в интеллигентнейшей семье: мама — Ольга Александровна Стиро — заведовала литературным отделом Воронежского драматического театра. Очень талантливая и очень красивая женщина. А ее мама — Володина бабушка — худенькая и неслышная, словно тень, тихо вышедшая из Ветхого Завета. Володька все время воровал у нее тонкие-тонкие папиросы «Ракета». Теперь таких не делают. Они были очень дешевы, и о них сложилось такое фольклорное произведение:
Январь 1950 г.
ВТ УМГБ ВО, камера 2-я левая.
Протокол обыскаЭтот обыск, как и последующий, произведен был без понятых, что является вопиющим нарушением законности. Что они нашли и что находят вообще при подобных обысках, когда владелец комнаты знает, что обыск будет? Оружие, которое Борис, вероятно, собирался выбросить или спрятать именно 17 сентября (это была суббота), к счастью, до обыска успела выбросить его сестра Лена. «Искатели» нашли случайно потерянное или забытое. Печать КПМ Борис сам не мог найти, она закатилась под глухую тумбу письменного стола, но производившие обыск искали более настойчиво. Однако даже печать, сделанная из школьной резинки, не могла слишком потянуть, надавить на весы обвинения. Название организации было уже известно и не содержало в себе никакого криминала. Уже в протоколе первого обыска наметилась тенденция проникнуть в мысли Бориса Батуева путем тщательного изучения того, что он читал и какие записи и пометки делал на полях книг и журналов. Борис держался крепко, и вовсе не случайно, что в самом конце ноября, когда областной прокурор Руднев дал наконец ордер на обыск всей квартиры Виктора Павловича Батуева, а не только комнаты его сына, «искатели» занялись прежде всего и исключительно библиотекой. (Виктор Павлович был уже снят с поста секретаря обкома). Просматривалась каждая страница сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, политических, исторических, философских изданий. Фиксировались все заметки на полях. Протокол второго обыска многостраничен. Приведу лишь некоторые примеры описания изъятого:
1949 года октября 8 дня я, начальник отделения УМГБ Воронежской области майор Белков, в присутствии сотрудников УМГБ Воронежской обл. майора Харьковского и капитана Максимова и хозяйки квартиры Батуевой Ольги Михайловны, на основании ордера № 229 произвел обыск в комнате Батуева Бориса Викторовича по ул. Никитинской, д. № 13. При обыске изъяты следующие обнаруженные документы и предметы: 1. Ученическая резинка с вырезанными на ней буквами «КПМ». 2. Клятвенное подтверждение с оттиском печати «КПМ» с датой 29 июля 1949 года об избрании Киселева Ю. С. хранителем фонда организации. 3. Два листа из блокнота с написанными на них фамилиями: Ренский, Раевский, Светлов, Мышков, Киселев. На одном листе два оттиска печати «КПМ» с росписью и датой 26 августа 1949 года. 4. Письмо, начинающееся словами «Здравствуй, Василий», датированное 26 августа 1949 года. 5. Стихотворение, начинающееся словами. «Я жить хочу…» за подписью Анатолия Жигулина, адресованное Б. Батуеву (Анчарскому), дата — 25 августа 1949 года. 6. Дневник ученика 7 мужской средней школы Батуева Б. В. с изображением на обратной стороне обложки семи эмблем, под рисунками дата — 26 октября 1948 года. 7. Разная переписка на девятнадцати листах. 8. Две брошюры: «Просо», «Разведение серебристо-черных лисиц и уссурийских енотов» — на первых листах которых имеются оттиски печати «КПМ». 9. Шесть тетрадей с разными записями. 10. Конверт, адресованный Батуеву Борису Викторовичу от Комарова Алексея. 11. Открытка почтовая Батуеву Борису Викторовичу от Зябкина. 12. Семь фотографий. 13. Журналы «Большевик» в количестве 3 шт. В № 5 за 1948 год на страницах 7-13 и 15–17 имеются записи, исполненные фиолетовыми чернилами; в журнале № 16 за 1948 год на страницах 21, 25, 27, 29, 31 имеются записи от руки, в журнале № 22 за 1948 год на обороте второго листа обложки написаны слова: «Слава! Этот новый тов. в твою группу. Покажи дисциплину. Когда к тебе прислать?» 14. Журнал «Партийная жизнь» № 4 за 1948 год, на страницах которого имеются записи, исполненные фиолетовыми чернилами. 15. Брошюра «Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)», на третьем листе которого имеется роспись Б. Батуева красным карандашом. На страницах этой брошюры №№ 10–12, 14, 16–18, 20, 22, 25 имеются пометки фиолетовыми чернилами в виде вертикальных линий, линий с крестами, вопросительных и восклицательных знаков, скобок. 16. Штык от винтовки иностранного образца. Жалоб на неправильности, допущенные при производстве обыска, на пропажу вещей, ценностей и документов не поступило.
Обыск произвели: Нач. отделения УМГБ ВО майор (Белков) Нач. отделения УМГБ ВО капитан (Максимов) Зам. нач. от-я майор (Харьковский) Хозяйка квартиры (Батуева)
«…2. Сталин, том IX, на стр. 120 — вертикальная черта с тремя восклицательными знаками, на стр. 181 — вертикальная черта, охватывающая 12 строк… 4. Сталин, том 1, на стр. 137 — вертикальная черта, охватывающая 6 строк. Линии проведены синим карандашом. Статья „Две схватки“ на стр. 196 поставлено 2 галочки…»Уже конец ноября 1949 года. В декабре из Бориса (головою о цементный пол) будут еще выбивать, что означали эти галочки. А в готовом, «отретушированном» нашем деле «признания» Бориса о стремлении КПМ добиться власти в стране путем вооруженного восстания будут помечены октябрем 1949 года. Вот таковы были «тонкости» следствия в сталинское время. Примеры можно умножить. Неоспоримые документы — на моем письменном столе. В частности, этот протокол обыска с датою 26 ноября 1949 года. Особенно пристально изучались пометки и надписи Бориса на полях статей В. И. Ленина «Интернационал молодежи» и «Военная программа пролетарской революции» (том XIX). Приведу для примера начало пункта шестого из длинного перечня изъятой литературы:
«6. Ленин, том XIX на стр. 294 чернилом проведена вертикальная черта на 3 строки, на стр. 295 сверху и в середине проведены 2 вертикальные черты фиолетовыми чернилами, первая на 2 строки, вторая на 6 строк. В тексте слово „преимущественно“ подчеркнуто волнообразной чертой, а у слов „а не борьба“ на этой строке поставлен карандашом знак вопроса, взятый в скобки. Слово „вперед“ в тексте очерчено дугой карандашом».Частично процитированный мною протокол второго обыска подписан уже известными читателю офицерами УМГБ ВО Белковым, Харьковским, Пашковым. Ни подписей понятых, ни даже подписей хозяев квартиры в протоколе нет, хотя соответствующие графы имеются. Уже после реабилитации выяснилось, что во время второго обыска в квартире Батуевых из взрослых была только сестра Бориса Лена. Отец, Виктор Павлович, еще не был арестован, но был вызван в Москву для объяснений, мать, Ольга Михайловна, лежала в больнице. Младшие, Светка и Юрка, были совсем детьми: Светке было около десяти, а Юрка — на год младше. Библиотеку Батуевых «изучали» не только три подписавших протокол офицера, но и их помощники. Лену в библиотеку не пускали, «работали» при закрытых дверях. Вот почему в протоколе обыска нет подписи хозяев. Лена Батуева, хрупкая маленькая двадцатилетняя девушка-студентка, гордо и дерзко сказала целой своре бериевских офицеров: — Не буду я подписывать ваш протокол! Я не знаю, кто сделал на книгах описанные вами пометы — Борис, отец или вы сами! Убирайтесь отсюда, мерзавцы, со своей «добычей»!..
Но возвратимся во внутреннюю тюрьму. В то время при областных, краевых, республиканских Управлениях и Министерствах ГБ существовал такой пост: уполномоченный министра ГБ СССР при Управлении МГБ, в нашем случае — по Воронежской области. Он был подчинен лично министру ГБ СССР. Как правило, такими уполномоченными были либо личные друзья, либо лица, безмерно преданные Л. П. Берии. При Воронежском управлении таким человеком был полковник Литкенс. Однажды отворилась дверь камеры. Рядом с хорошо знакомым надзирателем стоял незнакомый старший сержант в армейской форме с эмблемой войск связи. Последовало обычное: — Кто здесь на букву «Ж»? — Я! — Фамилия? — Жигулин-Раевский. — Выходи! Незнакомый связист расписался за меня в книге увода и привода заключенных, и мы пошли из тюрьмы по лестнице. Я привычно свернул было на второй этаж, но старший сержант скомандовал: «Выше!» Так добрались мы до пятого этажа. Коридор на пятом этаже был такой же, но двери — одна от другой — расположены подальше. «Стой!» «Разводящий» без стука приоткрыл дверь, что-то спросил шепотом. — Давай заходи! Я зашел и сказал: — Здравствуйте. — Садитесь, пожалуйста, вот на этот стул. Я присел. Это бил единственный стул справа, но не в углу, а между углом и входной дверью. Я осмотрелся. Обычный следовательский кабинет. Слева в углу стальной коричневый сейф с пластилиновой печатью. Письменный стол. Офицер — старший лейтенант — за столом. У стены еще два стула. Напротив — скучный конторский шкаф на низких ножках. Двухстворчатый. За стеклами верхней половины шкафа — какие-то серые папки, книги. Офицер не спешил начинать допрос. Зашел какой-то странный человек в измазанной мелом ватной телогрейке, в старых валенках: — Здравствуй, Боря! — Привет, Вася! Вася снял телогрейку и оказался лейтенантом. Потом снял бороду и оказался молодым лейтенантом. — Ну, как улов? — спросил Боря. — Кое-что есть. Пять раз проехал в рабочих поездах — до Графской и обратно. Имею три адреса. Завтра всех возьмем. И ушел из кабинета. А я сидел и ждал неизвестно чего. Вдруг зазвонил телефон. Офицер взял трубку и сказал: — Так точно, товарищ полковник! Есть! Затем вышел из-за стола к шкафу и приказал: — Заходите! Я не мог сообразить и спросил: — Куда? — Вот сюда, пожалуйста! Левой рукой он взялся за шкаф и потянул его на себя за какую-то невидимую мне ручку. Конторский шкаф оказался замаскированной одностворчатой дверью. Он мягко и беззвучно вместе с папками и книгами открылся. Обнаружилось, что шкаф смонтирован на стальной (миллиметров в пять) двери. Далее, метрах в двух, была еще одна дверь, уже открытая и нормальная. Я вошел в зал. Да, именно в зал, а не в кабинет. Тем не менее это был кабинет. Слева — четыре окна. Впереди на небольшом возвышении стоял письменный стол. За столом розовощекий полковник. — Садитесь, пожалуйста, Жигулин. Да, да, вот здесь. На столе передо мною уже лежал печатный бланк, заполненный машинописью. Не буду мучиться и вспоминать весь текст. Это было что-то вроде расписки-обязательства не разглашать сведения о беседе с уполномоченным министра ГБ полковником Литкенсом. Содержание беседы и сам факт беседы являются государственной тайной, и ее разглашение наказывается в соответствии с законом. — Вы показали на допросах следователям Белкову, Харьковскому о том, что КПМ предполагала захватить в стране власть путем вооруженного восстания. Это правда? — Конечно, неправда! — Зачем же вы так оговорили себя? — Меня очень сильно били и не давали спать неделями, и я оклеветал себя. У меня началось кровохарканье. — Но это, эту подготовку к восстанию подтверждают и другие участники КПМ. — Их тоже били. Ни один суд не признает нас виновными в подготовке вооруженного восстания. Нас ведь всего два десятка, не более. И оружия у нас не было и нет. Судьи будут хохотать. Справа и слева от письменного стола Литкенса были тяжелые светло-коричневые портьеры. Временами они шевелились Я подумал, что там, наверное, была охрана. Как бы угадав мою мысль, Литкенс сказал: — Здесь нас никто не слышит. Здесь, кроме нас, никого нет. Ни я, ни кто другой ничего не записывает. Вы стреляли в портрет Вождя. Вы читали антисоветскую фальшивку, так называемое «Письмо Ленина к съезду». Ответьте: кого из высших руководителей страны вы хотели бы видеть на посту Генерального секретаря ВКП(б). — Я об этом не думал. — Так. Хорошо. На этом пока закончим. Вы подписали документ? — Да. Литкенс принимал участие в следствии по нашему делу. Мало того, он осуществлял общее руководство разбором дела КПМ. Он как бы «лелеял» его. Как мастер-кондитер изготавливает торт — произведение искусства, так и Литкенс готовил наше дело как роскошный подарок самому высшему руководству страны — Л. П. Берии и самому И. В. Сталину. Такой увесистый куш еще не попадал в руки МГБ в послевоенное время (ведь Ленинградское дело было чистой липой). А тут: антисоветская молодежная террористическая организация. Со своей Программой, пятерочной структурой, тщательной конспирацией. Со своими изданиями и т. п. Здесь уже слышался звон орденов, здесь уже ясно виделось сиянье новых звездочек на погонах. А следствие подходило к концу. Раннею весною 1950 года первый заместитель воронежского областного прокурора выписал ордер на арест Вячеслава Руднева — сына своего начальника. Вина Славки была невелика. Еще в 1946 году он делился с Б. Батуевьм и Ю. Киселевым мыслями о создании какого-то молодежного кружка или общества. Сейчас трудно сказать, как это выплыло. А. Чижов мог знать об этом только случайно. Где-то в апреле 1950 года началось подписание 206-й статьи УПК РСФСР. Я уже об этом упоминал: перед судом каждый обвиняемый имеет право (или даже обязан) ознакомиться со всем делом, т. е. со всеми протокольными записями своих допросов и допросов подельников, свидетелей и прочими документами и вещественными доказательствами. Читать дело было интересно. Я уже говорил о показаниях А. Чижова. Это было ужасно читать. Опуститься до такой низости! Передо мной список членов КПМ. Чижов не знал, что у Рудницкого была группа. О Вихаревой ему сказали, что она вышла из КПМ, а она была направлена к Рудницкому, где в связи с приемом новых членов группа была поделена на две, одну из которых возглавила Вихарева. Ни Рудницкий, ни Вихарева и словом не обмолвились, что руководили группами. Вот как получилось, что после скрупулезного следствия на воле остались 10 активных членов КПМ из этих групп[15]. А если бы не Чижов? Сейчас точно сосчитаю, скольких он завалил. Даже перечислю: Н. Стародубцев (воорг), И. Подмолодин (воорг), И. Широкожухов (воорг), А. Землянухин, Ф. Землянухин, И. Шепилов, И. Сидоров, Ф. Князев, Е. Миронов, В. Радкевич, Д. Буденный, А. Степанова, М. Барабышкина. 13 человек. А если бы он держался, как было договорено, судили бы всего 10 человек, а не 23. И сроки дали бы нам гораздо меньшие. Следствие закончилось. Мы стали ждать суда. Мы хотели сказать на суде всю правду — и о следствии, и о нашем деле.
ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ И В САМОМ ЕЕ НАЧАЛЕ
Следствие закончилось, как я уже говорил, с подписанием так называемой 206-й статьи УПК. Я эту бумажечку, после внимательного прочтения всех 11 томов нашего следственного дела, подписывал при следователе майоре Харьковском. Подписал и сказал ему: — Гражданин майор! Я не понимаю, на что вы рассчитываете, лично вы и весь следственный отдел? Ведь даже при самом строгом закрытом военном суде неизбежно вскроются факты пыток и избиений. Вот у меня на щиколотках и на руках следы наручников. Все тело покрыто синяками. Они не исчезнут до суда. Мы расскажем всю правду — как из нас выбивали так называемые признания. Вы пытали лишением сна Марину Вихареву, ровесницу вашей дочери. А ведь Лия Харьковская вполне могла вступить в КПМ. Многие знали ее. И я, и Чижов, и Батуев. Я не могу понять, почему вы так уверены в себе? Почему вы не боитесь попасть на скамью подсудимых? Ведь суд, несомненно, оправдает нас! Странное дело: майор Харьковский не спорил со мною, не ругался. Во время моего монолога с его лица не сходила какая-то гадкая улыбка. И он даже не отправит меня в карцер. На следующий день меня неожиданно выдернули и повели наверх к Литкенсу. Я уже привык к отодвигающемуся конторскому шкафу. — Что вы вчера наболтали вашему следователю? — Я могу повторить это и при вас. — И я сказав все то, что говорил майору Харьковскому. Полковник Литкенс внимательно выслушал меня. Так же гадко улыбнулся и сказал: — Что ж, вы смелый человек, Жигулин-Раевский. Я уважаю смелых людей, даже врагов. Я разрешаю вам спать или лежать на кровати в любое время суток. Вы с кем сейчас в камере? Со священником Матвеевым? — Да. — Следствие по его делу тоже закончено. — Я это знаю. Он говорил, что тоже подписал 206-ю. — Если хотите, я разрешу вам читать — книги, газеты. — Нет. Мне не нужны ваши милости. Пусть Аркадий Чижов читает. — Почему вы так раздражены против Чижова? — Он предатель и сволочь! — Здесь и я с вами согласен — сволочь он удивительная! Но ничего — он будет наказан, — закончил Литкенс и как-то странно и даже несколько загадочно усмехнулся. И меня увели во Внутреннюю тюрьму, в камеру, в которой я обитал уже месяца два со священником Митрофаном Матвеевым. Удивительной духовной и нравственной силы был человек. Когда открывалась дверь в камеру и в дверях показывался надзиратель или дежурный офицер, он всегда осенял их крестным знамением со словами: — Изыди, сатана проклятый! Его, как и меня, часто били. Но он терпел побои мученически — читал во время избиения молитвы, — славил Господа. Какая это была чистая и светлая душа! Он успокаивал меня: — Анатолий, не горюй! Ведь за правду ты сидишь? — В общем, да. — Так вот, имей в виду. Господь наш сказал: «Блаженны изгнанны правды ради, ибо их еси Царствие Небесное». За время — а время в тюрьме длинное-предлинное, — какое мы прожили в одной камере, он прочитал мне наизусть все Евангелие — по-церковнославянски и по-русски. И рассказал мне своими словами Ветхий Завет. Я же читал ему стихи или пересказывал что-нибудь прочитанное, особенно часто историческое. Этого человека словно сам Бог мне в камеру послал. Я ведь знал от матери всего четыре-пять молитв, а Священного писания не читал. Хотя у матери было до и после войны Евангелие с двойным текстом — славянским и русским. Я листал его и читал некоторые места, меня интересовало сопоставление двух славянских языков — древнего и нового. Был еще интересный альбом о чудотворце Серафиме Саровском. Его мы со Славкой на развалинах нашли. Дня через три после моего вызова к Литкенсу отца Митрофана выдернули с вещами. И я его встретил лишь несколько месяцев спустя на Тайшетской пересылке. Было тепло и солнечно (конец июля — начало августа). — Здравствуй, Анатолий! — Здравствуйте, отец Митрофан! — Ну вот, видишь: уже не в подвале мы сыром, а на божьем теплом солнышке. Не горюй: «Блаженны изгнанные правды ради». Священник ходил по зоне с деревянным ручным ящиком со столярным инструментом. Он, оказывается, хорошо знал столярную работу, и за это его ценило даже лагерное начальство. Все самое сложное и тонкое по столярной части делал священник Матвеев… Вернемся, однако, во Внутреннюю тюрьму УМГБ родного Воронежа. Кончилось следствие, и потянулись долгие дни, недели, а потом и месяцы ожидания суда. С помощью моей азбуки для перестукивания я свободно общался с Колей Стародубцевым, Славой Рудницким, Володей Радкевичем. А с Радкевичем поселили кого-то из группы Стародубцева. Следствие окончилось, и следственный отдел и тюремное начальство сквозь пальцы смотрели на наше общение. Было твердо договорено рассказать правду о следствии. Мы напряженно ждали суда, готовили обвинительные речи. Впереди была Надежда. Впереди был бой за Правду, за торжество Истины. И сочинялись стихи:14 июля 1950 г.
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера.
Июль 1950 года
ВТ УМГБ ВО, 5-я камера.
СССР МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИДа, к этому времени министром государственной безопасности стал Абакумов, один из сатрапов Берии. Сам Берия был уже первым заместителем Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина, но, разумеется, курировал МГБ. Веселый, с большим носом человек в летнем костюме любезно сказал, что я могу и не подписывать графу «С решением ознакомился». Тогда они с полковником напишут, что осужденный с решением ознакомился, но подписать его отказался. И поставят свои подписи. Это не имеет никакого значения. Я сначала ничего не понял. Ведь мы ждали суда и хотели отказаться на суде от выбитых из нас «признаний». Я спросил: — А когда же будет суд? — А это и есть суд. Самый высший. Ваше дело тщательно рассмотрели и вынесли решение, — вежливо пояснил незнакомец. — Вы можете писать жалобы, апелляции. Их тоже внимательно рассмотрят… Я почти не слышал «курьера». Я думал об одном — надежды наши рухнули, нас нагло обманули, провели. Стали понятны усмешки следователей. Пункты были мне известны. 58-10 — 1-я часть — антисоветская агитация в мирное время. 58–11 — антисоветская организация. 19-58-8 — террор. Конечно, десять лет — не расстрел. Но расстрел, ходят слухи, отменен. Мысли мешались, путались, я был словно подкошен этой неожиданной развязкой. Через прогулочный дворик меня провели в старый черный воронок. Между задней дверью и помещением для заключенных, отделенным решетчатой стеной, сидел солдат. Ехали мы по Плехановской в старую, еще екатерининских времен, городскую тюрьму. А во дворике тюрьмы я увидел вылезавшего из другого подоспевшего воронка подельника Ваську Туголукова. Он жил в Киселевском готическом доме. И попал в КПМ через Киселя. Я увидел его, взгляды наши встретились, и я поприветствовал его нашим КПМовским жестом. Но он, кажется, не понял меня. И его куда-то быстро увели. Потом я догадался куда. В «приемном отделении» были так называемые боксы — такие малые камеры, в которых нельзя было ни лежать, ни сидеть, а только стоять. Постоял и я в таком боксе со своим мешком. Потом меня вызвали. Комнатка маленькая, но потолки высокие. Две худые, злые, некрасивые женщины. Одна другой: — Марусь! Погляди-ка, кто к нам пожаловал. — Кто? — Такой молодой, а статьи такие тяжелые. Из бывших, что ли? — Нет! — сказал я. — А почему Раевский? Они кто — князья или графы были, эти Раевские? — обратилась она уже к Марусе. — Точно не знаю, но мы, вроде, уже их всех перебили. — Я праправнук декабриста и поэта Владимира Федосеевича Раевского. — Знаем мы вас, внуков и правнуков. Все Раевские в белых армиях воевали, и все в расход пущены. Разве что за границу кто успел убежать. — Ладно, … с ним! В 506-ю его. «Склонен к побегу», контра недобитая! И добродушный надзиратель повел меня в 506-ю на пятый, самый высокий, этаж по кирпичным ступеням, по сводчатым коридорам, через многочисленные решетчатые двери. Пришли. Устали. Я — от мешка, надзиратель — от одышки. Камера оказалась сводчатой, небольшой, но уютной. На четырех человек. Но жителей было двое. Одного совершенно не помню, другой запомнился ярко — матрос Боев. Он сидел у окна и очень душевно пел:
Особое совещание при министре Государственной безопасности СЛУШАЛИ: дело № 343843/2 Жигулина-Раевского Анатолия Владимировича 1930 г р., студента Воронежского лесохозяйственного института по обвинению его в участии в антисоветской подпольной молодежной террористической организации. ПОСТАНОВИЛИ: Согласно статьям УК РСФСР 58-10 1 часть, 58–11 и 19-58-8, избрать мерой пресечения преступной деятельности Жигулина-Раевского Анатолия Владимировича заключение его в исправительно-трудовые лагеря сроком на 10 лет.
Министр государственной безопасности СССР (Абакумов) Заместитель министрагосударственной безопасности СССР (Рюмин) Заместитель министра государственной безопасности СССР (Игнатов) 24 июня 1950 года г. Москва С решением ознакомлен …………
А. Чижов
Два дня я был на Краснопресненской пересылке. Через решетки-жалюзи была видна Москва. Потом я долго ехал через Россию и Сибирь с остановками в Свердловской и Новосибирской пересыльных тюрьмах. В столыпинских вагонах того времени окна были с одной стороны — со стороны коридора. В купе было только очень маленькое окошечко с двумя крепкими решетками — снаружи и внутри. Размером примерно 15 на 20 сантиметров. Заключенных в купе было по 20 и более человек. И все-таки можно было дышать. А когда набивали по 30—40 человек и не выводили на оправку (в туалеты, на современном языке), было смертельно тяжело. Ибо люди — этого требовал организм — и мочились, и испражнялись, не выходя из «купе». Эта дорога — только присказка. А сказка, сказка будет впереди. Впрочем, дорогу я описал весьма кратко и с большими пробелами. Не сказал, что свердловская тюрьма расположена как раз напротив кладбища, а пересылка в Новосибирске была уже почти лагерного типа. Там впервые в прогулочном дворе мне попались карандашные арабские надписи. Там мне впервые побрили усы. Впрочем, чтобы как-то компенсировать пробелы, я повеселю читателя, забежав года на четыре вперед. Во всех столыпинских вагонах XIX и XX веков так ли, сяк ли можно было сквозь решетку и коридорные окна видеть, как выразился какой-то персонаж Чехова, «проезжаемую» местность. Степь или таежные дали, крепкие сибирские срубы, резные ворота или странный городок с названием Биробиджан. Отвратительнейшие неудобства «путешествия» не по своей воле в столыпинском вагоне все-таки не отнимали полностью главного, ради чего человек вообще путешествует, — он путешествует, чтобы видеть новые места, города, реки, горы, рассветы, сумерки, закаты. Однако конструкторы столыпинских вагонов начала 50-х годов отняли у бедных заключенных и эту, последнюю радость. Все окна и окошки новых столыпинских вагонов были снабжены прекрасно пропускающими свет… матовыми стеклами. Когда меня в декабре пятьдесят третьего везли на переследствие в Воронеж и я попал в такой вагон, я был просто взбешен. Не только не было видно заоконной местности, нельзя было даже догадаться, в какую сторону едет поезд. И подумалось мне: «Господи! Неужели нормальный человек может додуматься до такого садизма?…»
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ТАЙШЕТЕ
Мы ехали долго и скоро. Вдруг поезд, как вкопанный, стал. Вокруг — только лес да болота. Вот здесь будем строить канал.Эпиграф, может быть, и не самый удачный, но все-таки подходящий, ибо ехали мы действительно долго и с довольно большой скоростью. За спиной моей были уже, кроме Внутренней тюрьмы ВУ МГБ, и Воронежская городская тюрьма-пересылка, и Краснопресненская пересыльная тюрьма в Москве, и пересыльные тюрьмы в Свердловске и в Новосибирске… И вдруг столыпинский наш вагон отцепили и повезли куда-то на запасные пути, на миг мелькнуло серое здание вокзала с черными буквами по белому полю: «Тайшет». Название было настолько неведомое и странное, что в первое мгновение прочиталось оно как «Ташкент». Но это был — увы! — не Ташкент. Вагон почти вплотную подогнали к довольно просторному дощатому загону. Возле него вагон наш «как вкопанный стал». Было ясно, что приехали мы уже на место. Загон был необычен своими высокими стенами. Они были высотою метра в четыре. И это была не случайность. Такая высота понадобилась для того, чтобы пассажирам транссибирских экспрессов не попадались на глаза заключенные. И знаменитая тайшетская озерлаговская пересылка была примерно так же огорожена. Снаружи, особенно со стороны железной дороги, — высокий, гладкий сосновый забор. И вышек нет над забором. Вышки — невысокие — были расположены внутри — в углах дощатой ограды. И колючка, и пулеметы, и прожекторы — все было внутри. Что подумает проезжающий мимо в скором поезде человек? Неинтересный забор какого-то склада. Про лагерь не подумает. Насыпи там, на этом участке магистрали, возле пересылки, нет. Там, скорее даже, небольшая выемка. Так что даже крыши бараков проезжающий не увидит. Когда выходили из вагонов (их оказалось два), видно было во все стороны: тайга, тайга, тайга… Да. «Вокруг — только лес да болота». Все как в невеселой песне строителей Беломорско-Балтийского канала. В загоне уже были женщины из первого вагона. Их было около тридцати, и у каждой на руках — грудной ребенок. Младенцы плакали на общем для всех народов младенческом языке, а женщины, совсем молодые, лет по двадцать, говорили между собою на языке певучем и красивом и неожиданно — почти совершенно понятном. Боже мой! Да ведь они, наверное, с Западной Украины! — догадался я. Их-то за что забрали, женщин с грудными младенцами? Я подошел к ним, поздоровался и заговорил на том украинском языке, на котором говорил в детстве в Подгорном. Святый Боже! — как же они были обрадованы! И как мне сейчас хочется писать о них по-украински! Но ведь не принято в одном произведении смешивать два разных языка. Женщины прекрасно понимали меня, и дорого, и радостно было им, что встретился мужчина-украинец, хай не з Захiдноï, а з Великоi Украïни. Из разговора выяснилось, что юные женщины с младенцами на руках — жены еще не сложивших оружие бандеровцев. И что приговорены они всего лишь к бессрочной ссылке в глухие районы Сибири. Но суд постановил доставить их на место ссылки под конвоем, строгим этапным порядком. Все они были почему-то в белых косынках. Построили нас по пятеркам. Впереди — женщины. Шесть или семь пятерок. А в следующей за ними пятерке шел я — вторым слева. Я впервые за все свое путешествие шел без наручников. Обычно мне их надевали при любых переходах — из тюрьмы в вагон, из вагона в тюрьму или в воронок. В воронке наручники с меня не снимали… Забыли сейчас, наверное, надеть… Пока я об этом размышлял, догремел голос, произносивший обычное, давно надоевшее: — …из колонны не выходить! Шаг влево, шаг вправо считается побегом! Конвой применяет оружие без предупреждения! Шагом марш! Конвойных было шестеро. Двое шли впереди, двое — по бокам, двое позади. Пятеро с автоматами. Шестой — начальник конвоя — с пистолетом и собакой. Вели нас пустыми, немощеными, грязными после дождя улицами. Но было тепло, и светило солнце. Городок был серый, весь деревянный. Серые от ветхости и дождей домишки и заборы. Слева виднелось что-то похожее на небольшой заводик. Пахло сухим и мокрым деревом, смолою, креозотом. Справа, невидимые нам за домами, грохотали поезда. И со всех сторон, по всему окоему были густые зеленые, голубые и дымчатые синие дали — тайга. Тайга словно бы хотела показать, как ничтожен в сравнении с нею этот (как его?) городишко Тайшет. Я чуть позднее там, на пересылке, написал стихотворение, которое начиналось строфою:(Из песни)
Это было на каторге, но я, кажется, никогда больше не ощущал жизнь так, во всей ее полноте, ибо находился на самом краю этой страшной, но вечно прекрасной жизни. С высоты почти законченной крыши барака открывалась беспредельная тайга, уже золотеющая березами и лиственницей. Я словно парил в синем, темно-синем осеннем иркутском небе вместе с Мартой — над широкой серой рекой Чуною, над блестящей рельсами железной дорогой Тайшет—Братск. А потом, к середине сентября (было уже холодно), всех женщин взяли на этап, в том числе и мою Марту и высокую австрийку. Было еще несколько немок и десятка два западных украинок. Я заранее знал о готовящихся этапах, но ничего не мог поделать. Сергею Ивановичу Волкову я предлагал все свое имущество и деньги (50 рублей), и авторучку. Он поругал меня почти по-отечески: — Если бы это было в моих силах, то я бы оставил тебя и твою Марту на пересылке хоть на весь срок без всякой твоей лапы. И шмотки, и деньги береги — они тебе там пригодятся. Единственное, что возьму от тебя на память, — это вечную ручку. И то только потому, что твердо знаю, что там у тебя ее отберут. А мне она при здешней моей письменной работе очень годится. В Озерном лагере иметь письменные принадлежности заключенным строго запрещается. Могу сказать, что идут они на лесоповал, на 010-ю женскую колонию вблизи станции Чуна. Вскоре и сам ты туда, в этот район, попадешь. Вернее всего, на ДОК. Деревообделочный комбинат. Постарайся там удержаться. Лесоповал зимой — гибель. Марта уходила на гибель. Было уже темно у высоких ворот, где толпился маленький женский этап. Марта плакала, говорила мне по-немецки много чего-то хорошего, но непонятного. А потом сказала по-русски: — У нас будет ребенок!.. — И опять зарыдала. Но тут заорал конвой: — Провожающие, разойдись! Разойдись!.. Мы прощально поцеловались. Я уговорил ее взять у меня деньги и шерстяной шарф. Вот и все, что мог я тогда сделать для своей любимой. Сгустилась мгла. Вспыхнули прожекторы. Отворились ворота. Во мгле растаяло красное платье Марты. Она шла последней. Охранники силой оторвали нас друг от друга. А почти через год, в августе пятьдесят первого, перед самым моим уходом на Колыму, я встретил случайно в большом лесоповальном оцеплении подругу Марты, высокую австрийку в розовой кофточке (теперь она была в черной телогрейке). Ни фамилии, ни имени ее не помню. Ей было тогда лет тридцать пять, и она казалась мне безнадежно старой. Почему встретил? Вот почему. Иногда, весьма редко, зоны, кварталы лесоповальных работ нашей мужской 031-й колонии и соседних женских подкомандировок (010-й и 06-й) соприкасались, становились сопредельными, и тогда, чтобы охранять было удобнее, устраивалось общее оцепление. Работали в общей рабочей зоне, но после съема отправлялись в свои разные жилые зоны. Высокая австрийка сказала мне уже почти чисто по-русски: — Здравствуйте, Толик Раевски! Я вас ищу! Ваша Марта, наша Марта, родила вам дочку Анну двадцатого мая. Я как раз только что из больнички[19]. Я видела Анну. Ей всего три месяца, но она уже совсем похожа на Вас. Марта дала ей Вашу фамилию. Две ваши фамилии, первую я забыла. — Жигулин? — Да, Зшигулин. Она только не могла сказать вашего второго имени, имени вашего Vater. — Это мое отчество. — Да, да, отчество. — Она его и не знала. — Ей выдали на дочь какой-то документ. — Свидетельство о рождении? — Да, да! Вот оно, я списала для вас русскими буквами. И она протянула мне листок бумаги величиной с почтовую открытку. На ней карандашом было написано:
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ Гр. Жигулина-Раевская Анна Анатольевна родилась 20 мая 1951 года в г. Тайшете Иркутской обл. Родители: отец Жигулин-Раевский Анатолий, русский мать Миттельберг Марта Иогановна, немка Место регистрации ЗАГС Тайшетского р-на Иркутской области.Я долго берег этот листок бумаги. Потом он истрепался, потом на каком-то шмоне его у меня забрали. Но я помню содержание «Свидетельства о рождении» наизусть. Я был при встрече с высокой австрийкой еще очень молод и глуп. Никакого отцовского чувства у меня это известие не вызвало. Помню, что спросил: — А долго ли она там еще будет, в больничке? — О! Долго! Наверное, еще целый яре, год. Она должна кормить ребенок. Говорят, может быть, это параша, но так говорят, что иностранцев скоро отпустят на родину, в свои страны. Что ж, осень 1951-го и 5 марта 1953-го. Всего полтора года оставалось до смерти Сталина. А после смерти Сталина всех иностранцев (кроме настоящих преступников) сразу освободили. Так что Марта с ребенком, если не случилось какого-либо несчастья, уехала домой.
ДОК
Холодным серым рассветом десятка полтора заключенных, в том числе и меня, отправили с Тайшетской пересылки этапом по железной дороге на станцию в Чуну. Нарядчик Волков снова сказал мне на прощанье: — Идешь на Чуну, на ДОК. Всеми силами постарайся перезимовать там, на ДОКе. Все с себя отдай, но задержись. Прощай! — До свидания, Сергей Иванович! Спасибо вам! Поезд всего из четырех вагонов шел медленно, неуклюже. Часто и подолгу стоял — дорога была однопутной, ждали встречные составы. И плохая была дорога. Вагоны сильно качало. У меня еще с Краснопресненской пересылки временами стало возникать состояние какой-то апатии, безразличия и тоски. Я легко, без борьбы отдавал порою блатнякам свои шмотки, курево. Хотя и борьба-то в подобных ситуациях далеко не всегда была возможна. Немец Добровольский из Циндао (Китай) сумел убедить меня в Тайшете после ухода Марты, что австрийские его ботинки гораздо лучше моих кирзовых сапог, и я легко согласился обменяться с ним (он доплатил мне какие-то небольшие деньги — кажется, 25 рублей). Все валилось из рук, ничего не было нужно. Впереди был жуткий, беспросветный мрак. Поезд остановился на станции Чуна тоже ранним утром — почти сутки ехали сотню километров. Выгрузили нас прямо у деревянноговокзальчика. Вид, представший перед нашими глазами, был ужасен. По обе стороны дороги гнили в сырой глине остатки тайги. Зияли заполненные водой выемки (брали грунт для насыпи). Кое-где еще стояли наклоненные сосны, лиственницы или кедры. Наклоненные деревья трудно и опасно валить. Вот они и остались до первого урагана. За станцией виднелся окруженный многими огневыми зонами огромный лагерь. Визжала пилами самых разных видов, грохотала молотами, выла дизелями и гудками паровозов огромная рабочая зона, ДОК — деревообделочный комбинат. Высились деревянные громады цехов самых разных очертаний, дымилась электростанция, сновали туда и сюда поезда с платформами, и конца-края этой огромной зоны не было видно. По глинистому месиву нас провели к жилой зоне. ДОК остался левее, но зона его была частично смежна с жилой. У ворот пересчитали, повыкликали всех и впустили в зону. В рабочее время в жилых зонах заключенных всегда мало на виду, но у первых же встреченных мы увидели ярко черневшие на спинах номера. На черные стеганые бушлаты были нашиты белые прямоугольники, и на них написаны черной краской номера. Буква и номер. К вечеру уже и я получил лагерную одежду. Белье: рубаху и кальсоны, две пары брюк (хэбэ и ватные), тонкий летний китель, телогрейку и бушлат, ботинки с зимними портянками. На кителе, телогрейке и бушлате уже был пришит фабрично мой номер: Я-815. Попал я в цех ширпотреба. Фамилию бригадира помню — Шевцов. Строения жилой зоны были разных эпох и стилей. От ветхих, обмазанных глиной до сияющих золотой сосновой доской «вагонкой» новых типовых бараков на высоком фундаменте. Были даже и двухэтажные. Шевцову я дал какую-то лапу, и он несколько дней держал меня в помещении — делали дранку или вовсе без работы. Цех ширпотреба производил все: от дранки до роскошной мебели и шахмат, портсигаров и т. п. Очень хотелось Шевцову получить мое зимнее вольное пальто (он освобождался весной), и я уже готов был ему это пальто отдать и спокойно пережил бы зиму 1950/1951 года в теплом цехе ширпотреба, но меня отговорил мой друг испанец Фернандо: — Пальто нам очень пригодится при побеге! Мы уже договорились с Фернандо бежать ранней весной. На ДОКе я опять встретился с Виктором Андреевичем Вричовым. Он заходил ко мне, когда я заболел тяжелой ангиной. А однажды в жилой зоне после работы подошел ко мне невысокий чернявый паренек, протянул руку и сказал приветливо: — Здравствуйте, товарищ Раевский! Я Алексей Землянухин. Землянухиных в КПМ в группах Н. Стародубцева было трое: Алексей, Иван и Федор. Ни одного из них я, конечно, в глаза не видел. Мало того, я их даже и заочно не знал. Так, собственно говоря, и полагается в настоящем подполье. Разговор наш был невеселый — кому сколько дали и т. п. Удалось ли убить Чижова, Алексей тоже не знал. Ему, как и мне, не повезло на встречи с подельниками во время этапов. Наступали холода, наступала апатия. Кормили очень плохо, особенно в рабочей зоне. Один жучок из маньчжурских «русаков» предложил мне обменяться шапками. У меня шапка была хорошая, не помню, правда, какого меха, а у него — из овчины. Но он поклялся, что за такой обмен раздатчик обеда в рабочей зоне будет мне наливать супа больше и с картошкой. Он даже познакомил нас. Поменялись. Действительно, два или три раза раздатчик наложил мне в глиняную миску больше обычной нормы. Но потом забыл и смотрел на меня, как сквозь стекло. Это было очень трудное для меня время. На ДОКе царили уголовники и примкнувшие к ним фашистские пособники. Уголовники попадали в «номерные» лагеря для «спецконтингента» вот почему. Меры наказания за многие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РСФСР, действовавшим в 30-50-х годах, оказались несоизмеримы со специальными Указами, принятыми еще до войны, во время войны и после нее, предусматривавшими меры наказания изменникам Родины и иным военным преступникам (15 или 20 лет каторжных работ или смертную казнь через повешение — для палачей, 25 лет исправительных работ или расстрел — для власовцев) и в то же время столь же жестокие наказания для людей, совершивших самые незначительные кражи государственного имущества (25 лет за картофелину, за горсть зерна, унесенные с поля, — так называемый Указ «два-два»). Да, 25 лет за украденную морковку и всего десять лет за убийство, всего 1-3 года за побег из мест заключения, за хранение огнестрельного оружия и т. п. Правосудие закачалось, дало большой крен сталинское «правосудие». Но выход был найден — практически ко всем убийцам стали применять не 136-ю статью УК РСФСР (максимальное наказание во время отмены смертной казни — 10 лет ИТЛ), а статью 58-8 УК РСФСР — политический террор — 25 лет ИТЛ. Эту статью можно было применить практически почти к любому убийству, если убитый был членом ВКП(б), комсомольцем или всего лишь членом профсоюза, советским служащим. К беглецам стали применять статью 58-14 УК РСФСР — уклонение от работы с целью саботажа — 25 лет. Так появился в спёцлагерях уголовный, воровской элемент с «политической» 58-й статьей. В уголовном мире в то время существовали две основные касты: воры и суки. Вор — это, говоря протокольным языком, член общества, живущий за счет преступного промысла — воровства, грабежа, мошенничества и т п. Вор ни на воле, ни в местах заключения не работал. Вор, начавший, согласившийся работать, становился сукой, то есть вором, нарушившим, потерявшим воровской закон. Не стоит романтизировать воров и их закон, как они это сами делали в жизни и в своем фольклоре, как это иногда делали даже известные писателя. Но суки в тюрьмах, в лагерях были для простого зека особенно страшны. Они верно служили лагерному начальству, работали нарядчиками, комендантами, буграми (бригадирами), спиногрызами (помощниками бригадиров). Зверски издевались над простыми работягами[20], обирали их до крошки, раздевали до нитки. Суки не только были стукачами. По приказам лагерного начальства они убивали кого угодно. Тяжела была жизнь заключенных на лагпунктах, где власть принадлежала сукам. Воры и суки смертельно враждовали. Попавшие на сучий лагпункт воры, если им не удавалось сразу же после прихода этапа укрыться в БУРе, спрятаться там, часто оказывались перед дилеммой: умереть или стать суками, ссучиться. И наоборот, в случае прихода в лагерь большого воровского этапа суки скрывались в БУРах, власть менялась, лагпункт становился воровским. Облегченно вздыхали простые работяги При таких сменах власти, как и при любых иных встречах воров и сук, часто бывали кровавые стычки. Пишу об этом, потому что, как и все «спецзаключенные», я существовал рядом с уголовниками. От них порою зависела моя жизнь. Расскажу о суках, царивших на ДОКе. Главным среди них был Гейша. Его я не видел. Видел я, и видел в «деле», старшего его помощника — Деземию. Ходил он и в жилой, и в рабочей зоне со свитой и с оружием — длинной обоюдоострой пикой (у всех у них были такие пики — обоюдоострые кинжалы из хорошей стали длиной около 30 см). Начальство смотрело на это сквозь пальцы. Однажды я задержался в столовой. Она была пуста, блестела вымытыми до желтизны полами. Только два мужика-работяги спорили из-за ложек — чья ложка? И вошел со свитою Деземия. Заметив спорящих, он направился прямо к ним. — Что за шум такой? Что за спор? Нельзя нарушать тишину в столовой. — Да вот он у меня ложку взял, подменил. У меня целая была. А он дал мне сломанную, перевязанную проволочкой! — Я вас сейчас обоих и накажу, и примирю, — захохотал Деземия. А потом вдруг молниеносно сделал два выпада пикой, — словно молнией выколол спорящим по одному глазу. И сам Деземия был чрезвычайно доволен своей «шуткой», и вся свита искренне хохотала, созерцая два вытекающих глаза. — Нехорошо ругаться! — заключил мерзавец… О поступках Гейши и писать страшно. Но нашлась на него управа. Тайно сколотилась, сформировалась на ДОКе группа, как их называли, вояк, или военных. Это были осужденные, в основном за плен, бывшие солдаты и офицеры Красной Армии. В рабочей зоне им удалось топорами и ломами перебить свиту Гейши и обезоружить его. Есть такая лесопильная машина — пилорама. Еще ее называли балиндрой. Но пока я не нашел этого слова ни в одном словаре. Несколько движущихся зубчатых лезвий пилорамы распиливают толстые бревна на доски необходимой толщины. Бревно закрепляется на подвижном столе. Скорость подачи бревна по каткам в пилораму регулируется, регулируется и толщина досок или бруса. Гейшу вояки крепко привязали к широкому толстому брусу и поставили, как полагается, этот брус на каток пилорамы. Ногами вперед, малой скоростью. Гейша подвигался к сверкающим пилам. Он отчаянно орал и рыдал. Смотреть на казнь Гейши сошлись все, кто находился в рабочей зоне. Пришли даже надзиратели и сам начальник лагеря Эпштейн. Я не видел этого — был уже на Колыме, когда свершилась эта казнь, но очевидцы рассказывали, что Гейша орал, пока пилы не дошли до паховой области, тут он, видимо, от болевого шока издох. Деземия со своей бандой скрылся в БУРе. Но туда было передано письмо к его «кодле» с обещанием сохранить им жизнь, если они покажут в окно отрезанную голову Деземии. Собственная жизнь оказалась, конечно, дороже головы предводителя. Отрезанная голова была показана и опознана. Пики были выброшены через окно. Вояки слово свое сдержали — всей свите Деземии была сохранена жизнь, им всего лишь перебили ломами руки и ноги. «Не слишком ли жестоким было наказание?» — может подумать кто-то из читателей. Да, жестоким. Но ведь эти нелюди за семь-восемь лет своего владычества на ДОКе убили тысячи людей! Почему всемогущий Эпштейн пришел совершенно спокойно смотреть на казнь Гейши? Хотя как начальник ДОКа он должен был запретить это явное преступление, или, во всяком случае, нарушение режима. Подчиненные Гейше преступники-садисты властвовали не только на ДОКе, а на всех подчиненных ДОКу командировках, подкомандировках — сравнительно небольших, разбросанных в тайге вокруг ДОКа лесоповальных лагерях. Достоверно известно, что Гейша был фашистским пособником и получил 20 лет каторги еще году в сорок третьем и сразу же воцарился в лагере, который существовал на месте созданного впоследствии специального Озерного лагеря. Озерный лагерь был создан в 1948 году. До этого расположенный здесь лагерь назывался Тайшетлагом, а организация, производившая работы и спаянная с лагерем, — Тайшетстроем. О тех, еще тайшетстроевских временах, очевидцы рассказывали мне чудовищные вещи: подручные Гейши и Деземии свободно совершали карательные экспедиции на лесоповальные, принадлежавшие ДОКу колонии. Были у них и особенные виды пыток и казней, связанные с местными биогеографическими особенностями. Летом, в определенные месяцы, в сибирской тайге свирепствует так называемый гнус, или мошка. Это небольшие, 3-4 миллиметра длиной, летающие насекомые. Семейство Simuliidae род Simulium Lart. Видов — свыше 60. Многие из этих видов — кровососущие, питающиеся кровью человека и теплокровных животных. Часты случаи гибели от мошки крупных домашних животных. Работа в тайге во время лёта мошки ужасна. Плотность, количество мошки таково, что, если снять накомарник, нападение мошки можно сравнить, пожалуй, с ощущением, которое возникает, если в лицо человеку кто-то с силой бросает совковой лопатой мелкий сухой песок. Мошка носится черными тучами. Накомарники защищают плохо, ибо насекомые эти мелкие и проникают к коже через самые малые щели в одежде. От мошки хорошо помогает лишь деготь, при условии нанесения его густым слоем на лицо, шею, руки и т. д. Однако дегтя не хватало, да он и причинял значительные неудобства. Это я рассказываю к тому, что во время лёта мошки в Тайшетлаге и позже, в Озерном лагере, у сук существовал такой вид казни: раздетого человека привязывали к дереву, мошка сразу покрывала его черным слоем. В большинстве случаев несчастный к вечеру умирал от потери крови, а также от токсических веществ, выделяемых насекомыми при кровососании. Во время работы на лесоповальной 031-й колонии такие казни я видел сам. Они прекратились только после разгрома банды Гейши и Деземии. А когда я был на ДОКе, суки там бесчинствовали совершенно безнаказанно.ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ НА 031-й КОЛОНИИ
В конце сентября 1950 года мой бугор, потеряв надежду на мое пальто, спихнул меня на этап на 031-ю колонию — вместе с Фернандо и десятком других. 031–я колония была самой ближней к ДОКу, всего километрах в четырех-пяти. Но она была самой страшной из всех колоний вокруг ДОКа. Повели нас в обход жилой зоны пешком. Вниз по просеке. Снега еще почти не было. Под ногами шуршала сухая листва. Спустились вниз. Потом чуть поднялись. И перед нами как на ладони открылся расположенный на противоположном склоне лагерь, где я прожил почти год. Это была небольшая (не более чем на тысячу человек), самая обыкновенная лесоповальная колония. Она, как и зона ДОКа, состояла из разностильных деревянных бараков и иных построек. Мы подошли к нижней стороне квадратной зоны. Параллельно деревянной стене и колючей проволоке проходила линия узкоколейной лесной железной дороги. По шпалам ее мы прошли влево, вдоль хозяйственной зоны, состоявшей в основном из конюшен (трелевка леса производилась лошадьми), повернули направо и оказались, пройдя несколько вольно-административных домишек, перед вахтою и воротами. Обычная перекличка. Ворот для нас не открывали — пропустили через вахту. Сняли с меня и с Фернандо наручники. Был день. Основное население колонии было на работе в лесу. Кто-то из придурни[21] предложил нам подойти к каптерке — сдать личные вещи, подождать распределения по бригадам. Каптерка помещалась в третьем или четвертом, считая снизу, бараке. Они так и располагались — ступенчато — вверх по склону. Уже с этой, средней части лагеря хорошо была видна тайга — синеватые, зеленые, дымчатые — самых разных оттенков зелени — таежные дали. Были видны уже и желтоватые, охристые пятна — береза, лиственница. Выше всех стоял, как и на ДОКе, новый типовой, но одноэтажный барак с двумя секциями. За ним, да и почти со всех сторон лагеря, — только колючая проволока, не мешающая обзору. Совсем на пригорке стояли — уже за зоной — солдатские казармы и дома вольнонаемных. В верхнем правом углу, под самой вышкой, — небольшой БУР. В каптерке (двери были открыты, было тепло) нас встретил еще на крылечке высокий, лет 55–60 человек стройной военной выправки. Лицо доброе и мудрое, глаза большие, выпуклые, над ними густые седые брови. — Толя! — закричал вдруг Фернандо, — ты знаешь, кто это? — Нет! — Это генерал Клебер, герой обороны Мадрида! Я хорошо его знаю. Клебер услышал слова Фернандо, и они быстро и восторженно заговорили по-испански. Потом вдруг перешли на французский. Я уже знал почему: Фернандо провел детство и учился во Франции, а Клебер, видимо, знал французский лучше, чем испанский. Фернандо познакомил нас: — Анатолий Жигулин-Раевский, студент из Воронежа… — А меня, — сказал Клебер, подавая руку, — зовут Манфред Штерн — по формуляру, а здесь, для простоты, — Александр Федорович. На подоконнике в помещении каптерки лежала большая селедка. Я был страшно голоден. Александр Федорович сразу это заметил: — Хотите селедку? Она не очень соленая. Жаль вот только, что хлеба нет. Здесь не ДОК, здесь очень трудно с хлебом. Селедку я с большим удовольствием съел и без хлеба. И мне вспомнилось, что во время гражданской войны в Испании радио и газеты говорили о каком-то генерале Клебере. Почти всю мою жизнь на 031-й колонии Александр Федорович Штерн помогал мне — по мере возможности, конечно. Он, например, руководил моим чтением (в колонии со времен Тайшетлага осталась случайно не уничтоженная небольшая библиотека). В совсем хорошие времена (когда я порубил себе левую ногу и кантовался в зоне — об этом особый сказ) он помогал мне в изучении английского языка. Я очень страдал оттого, что прервалась моя учеба в институте, что нет возможности много читать, и восполнял эти лишения беседами с людьми. От людей порою узнаешь больше, чем из книг. После реабилитации я жадно искал литературу о генерале Клебере. Я нашел некоторые сведения о нем в автобиографической повести А. В. Эйснера «Двенадцатая интернациональная», опубликованной в «Новом мире» в конце шестидесятых годов. Правда, о том, что генерал Клебер был репрессирован, в повести сказано не было. И наконец, в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (М.: Сов. энциклопедия, 1983) появилась биографическая справка: Штерн (Stern) Манфред (1896 г. — г. смерти неизв.). Без портрета. Всего 18 кратких строк. Цитировать их я не буду, а лишь добавлю к ним, что после возвращения из Испании Штерн был посажен (в 1937 или 1938 году) за то, что не отстоял Мадрид и плохо боролся в осажденном городе с подчиненными ему военными отрядами троцкистов, анархистов и т. п. А Сталин требовал этой борьбы — борьбы с товарищами по окопам. После отбытия десяти лет (они прошли для него сравнительно легко — выходец из австрийско-еврейской семьи, он имел среднее медицинское образование) Штерн поступил на работу в больницу, но вскоре (в 1948 году) был снова взят, как все тогдашние повторники. Светлый был человек, добрый, хороший. И лицо его вовсе не было властно-жестоким, как описывает его А. В. Эйснер по военным мадридским плакатам… На следующий день — уже выход в лес, уже работа. До лесосеки было довольно далеко, километров шесть. В течение осени и зимы по мере вырубки леса лесосека отодвигалась все дальше и дальше от лагеря — до двенадцати-четырнадцати километров. Зима наступила очень скоро и надолго. Выпал и постепенно стал глубоким снег. Всем выдали валенки. В разное время (теперь уже не помню, в какой последовательности) я жил во всех бараках 031-й. От самого нижнего до самого верхнего. Работяга из меня был плохой, и меня часто перефутболивали из бригады в бригаду. Сначала я работал на подкатке баланов (балан — нижняя часть дерева длиною 6,5 метра). Баланы притаскивались к лесной бирже лошадьми. Толстый нижний конец бревна — комель — погружался трелевщиком на передок одноколки. Передок для этого наклонялся, а после укрепления комля цепями трелевщик, помогая коню дрыном, ставил передок на два колеса. Лошади — животные чрезвычайно умные — хорошо понимали весь процесс работы. Я опишу лесную биржу в зимнее время, ибо именно зимой она особенно живописна. Это большая вырубка, ограниченная лесом. Посередине проходит узкоколейная железная дорога. И к ней — как раз на высоте платформ — устроены эстакады, каждая для определенной толщины баланов. Толщину специальной мерной линейкой измерял учетчик по верхнему срезу бревна. И истошно орал диаметр: — Двадцать четыре!.. Двадцать!.. Меня как новичка поставили на тонкомер (10–12 сантиметров). Первую смену я работал с чернявым западным украинцем Баланюком. И от него узнал первое из усвоенных в лагерях украинских слов. Когда плохо закрепленное клином бревно вдруг покатилось на нас, он закричал: — Тримай![22] И мы успели остановить, удержать бревно своими дрынками. Биржа дымила уходящими вертикально вверх самыми разнообразными по цвету дымами костров — белыми, розоватыми или даже почти розовыми на солнце, серыми и черными от сырой хвои. Биржа непрерывно гудела руганью — самым черным матом трелевщиков, хлеставших лошадей, подкатчиков, погрузчиков, — свистками и пыхтением паровозов, ржанием лошадей. Баланюк был совсем плох. Украинцев и русских было почему-то очень мало на 031-й, в основном, кроме тюрков, были литовцы. И он очень обрадовался, что я хорошо понимаю его деревенскую гуцульскую речь. Он хотел сделать себе так называемый саморуб, чтобы попасть в больницу. Пальцы на левой руке хотел себе отрубить. Все равно, мол, к весне богу душу отдадим. Я отнял у него топор и отговорил его от этой затеи. — Молись, — говорю, — Богу, и он спасет тебя. Как по-вашему «Отче наш»? И он прочел по-церковнославянски эту молитву. Совершенно как и у нас. А голод давал себя знать. Не выполняющие норму получали вечером всего 200 граммов хлеба и половник баланды. Питание и затраты энергии были несопоставимы. Кроме того, мы недосыпали. Будили нас в шесть, а то и в пять часов утра — надо ведь к началу светового дня дойти до лесосеки — двенадцать километров. Конвоиры шли по протоптанной вчера дороге, а нас гнали по глубокому снегу, били прикладами, травили собаками, пристреливали отстающих. Особенно зверствовал начальник конвоя, некто Воробьев. Он любил мучить и убивать людей. Это было ужасно. Проглотить вечернюю пайку и думать о доме, о Воронеже, о родных, о друзьях. Господи! И ведь не узнает никто, где похоронят. И ни одного близкого человека нет рядом, и поговорить-то не с кем. Становилось жаль себя. Стою, бывало, после ужина в пустой сушилке возле тонкого, в одно стекло, окна, и такая тоска за душу берет, что и передать нельзя. Утром, когда звонят и кричат «Подъем!», тело еще не успевает отдохнуть от вчерашней ходьбы, от вчерашней работы. А ведь только начало ноября. Что дальше-то будет? Ах, отдать бы надо было Шевцову мое пальто! На 031–й колонии было много людей из тюркской группы народов, жителей нашей Средней Азии, Крыма, Поволжья, Кавказа. Надо отдать им должное — держались они дружной семьей. Мало того, они принимали к себе всех кавказцев вообще. Бригадир Саркисян (армянин, христианин) был с ними вместе. Они приняли к себе и мудрого причерноморского грека Константина Стефаниди, который, правда, прекрасно знал азербайджанский язык. Он, впрочем, знал и французский. Он как-то говорил мне: — Здешние наши тюрки, на 031-й, — народ девственный и наивный. Если бы вы знали сотню татарских слов, они бы и вас к себе приняли, решили бы, что вы, скажем, чуваш. Вообще же именно в лагерях окрепло во мне убеждение, с которым я начал и прожил жизнь и которое я исповедую и сейчас: нет плохих народов, есть плохие люди. И процент плохих людей примерно одинаков в каждом народе, в каждой нации. Главным среди тюрков 031-й колонии был повар Байрам. Он раздавал кашу из китайского синего проса в рабочей зоне на лесосеке. И своим накладывал вдвое больше. И масло постное, которое полагалось размешивать, он держал в ямочке у края котла и для своих зачерпывал немного оттуда. Спорить было бесполезно. На восставшего в скором времени падала сосна — несчастный случай. С Фернандо мы были в разных бригадах. Он был, кажется, на валке леса, и ему было худо. Однажды он пришел ко мне в барак и весьма невразумительно рассказал, что побег наш в общем уже подготовлен. Уходить будем втроем: он, я и один смелый парень — литовец. Ради конспирации он меня сейчас с ним знакомить не будет, но для пользы дела надо будет передать ему мое пальто. Я Фернандо не поверил, но пальто отдал. Когда брал пальто в каптерке, Штерн посмотрел на меня и сказал: — Вам надо заболеть, Анатолий. Это единственный выход. Вы говорили, что у вас хронический тонзиллит. Выпейте, распаренный, после перехода, на лесосеке ледяной воды. И вдохните глубоко воздух несколько раз. Здесь есть риск — пневмония. Но вы молодей и с пневмонией справитесь. Я отдал пальто «дону» Фернандо Рафаэлю Пелаио. С этого времени Фернандо стал работать в привилегированной бригаде — на погрузке, стал получать повышенную пайку. Процент перевыполнения нормы на погрузке был обеспечен. На паровозе вольные машинисты, они заинтересованы в перевыполнении плана. Делают лишний рейс с лесосеки на ДОК, и премия им обеспечена. А у бригады погрузчиков при перевыполнении плана вечерняя пайка — кило двести. Мало того, я заметил, что Байрам стал накладывать Фернандо миску с верхом и наливал масла из заветной ямочки у кромки котла. В один из предвесенних дней повар Байрам вышел на свободу, отработал свой «червонец». Одет он был в вольную одежду. На нем очень хорошо сидело мое новое зимнее пальто. Вот пока и все о Фернандо. Это чрезвычайно яркий, живой пример неодномерности человека, его души. Читатель помнит, как он пошел на автомат, защищая женщину. И читатель прочел предыдущие строки. Где вы, Фернандо Рафаэль Пелаио? Вы еще, может быть, живы и сможете прочесть эту повесть, если она будет переведена на испанский… Впрочем, вы отлично знаете и русский.ЗАГАДКА ДОКТОРА БАТЮШКОВА
Шел декабрь. Неожиданно моим напарником на подкатке оказался молодой человек лет тридцати. Имя его я забыл, но фамилию и легенду его помню. Как и его загадку. Он появился у моей эстакады в европейском пальто и в лайковых перчатках. Представился: — Доктор Батюшков. — Студент Анатолий Жигулин-Раевский. — Раевский? Вы дворянин? — Нет. Мама была дворянкой. — Позвольте, но ведь Раевских-мужчин, кажется, всех перебили во время гражданской войны, оставшихся — в тридцать седьмом. Вы старший сын в семье? — Да. — Так вы, Толя, по законам Российской империи, потомственный дворянин. Ибо, если пресекается мужская линия знаменитых наших фамилий, то титул и звание наследует старший сын женщины, принадлежащей к этому роду. А у вас еще и фамилия двойная. Симпатичный был доктор Батюшков. А главное и чудесное состояло в том, что всего два месяца назад он, радуясь жизни, гулял по улицам Вены. Он родился в Вене в 1920 году в семье русского дипломата, не решившегося вернуться в Россию. — Я был подданным Австрии, затем — рейха. В сорок пятом году я получил паспорт Австрийской республики. Меня арестовали ночью люди в штатском, хорошо говорившие по-немецки. Вставили кляп в рот, связали и положили в багажник машины «мерседес-бенц». И зачем была нужна эта ресторанная конспирация? Ведь в Австрии и сейчас стоят русские войска. Могли бы на своей армейской машине вывезти. — И сколько вам дали и по какой? — Двадцать пять лет. Статья 58-3. За проживание за границей и связь с международной буржуазией. — Как же вы были связаны с «международной буржуазией»? — О, это как раз очень просто! Подошел, скажем, к киоску и купил пачку сигарет. А киоск принадлежит крупной капиталистической фирме. Вот и связь. Совершенно явная, прямая, непосредственная связь. Очень славным, веселым и остроумным был доктор Батюшков. Внешне мне его сейчас напоминает на телеэкране знаменитый актер Юрий Яковлев в своих лучших ролях. Доктор Батюшков загадал мне как молодому поэту интереснейшую загадку: — В русском языке (в именительном падеже, и, разумеется, исключая имена собственные) есть три существительных, оканчивающихся на «зо». Пузо, железо. А третье вы должны вспомнить. И имеется четыре слова, оканчивающихся на «со». Просо, мясо, колесо. Четвертое я не называю. Вы должны его вспомнить. Вот и вся загадка! Очень простая. И я начал вспоминать… Мы проработали на подкатке еще несколько дней. Норма была чудовищная — 22 кубометра (на тонкомере!) на одного человека. Вдвоем мы должны подкатить на эстакаду 44 кубометра. А его даже не поступало столько на биржу, тонкомера. Его избегали вальщики, ибо они на тонкомере норму выполнить не могли. Однажды доктор Батюшков сказал: — Не удивляйтесь, сударь, моей просьбе. Я прошу вас сломать… мне руку. Левую, в середине между локтем и кистью. Я уже все рассчитал и взвесил. Надо только, чтобы никто этого не заметил. Это очень просто и легко. Законы рычага. Вы отлично знаете. Вот подходящее место в нашем штабеле. Расстояние между бревнами всего около десяти сантиметров, и поэтому мы не повредим ни кисть, ни локоть. Сломаем ювелирно обе кости — локтевую и лучевую. Да, вот так. Вы закладываете надежно конец своего дрына под нижний по́кат[23]. Моя рука лежит на бревнах, и вы кладете на нее свой дрын. Чтобы не было открытого перелома, ход вашего рычага мы ограничим вот этой прокладкой. Вам остается как можно сильнее и быстрее нажать на рычаг. Лучше всего быстро повиснуть на его конце, поджав ноги. Я сначала был несколько озадачен. Но потом понял: доктор все правильно рассчитал. Обвинение в чевё (ч/в — членовредительство) исключено. Переломы рук разного характера при подкатке бревен довольно часты. Перелом локтевой и лучевой кости наиболее типичен. Повиснув на дрыне, я ощутил через деревянный свой рычаг и руки легкий хруст костей доктора Батюшкова. Сам Батюшков ничем не обнаружил боли. Лицо его было ровно, спокойно. Он только тихо сказал: — Мерси. А минут через десять при свидетелях — подъехал трелевщик, невдалеке был учетчик — мы шумно, с матом и криками имитировали перелом, незаметно столкнув со штабеля бревно. Доктора Батюшкова отправили в больницу. У него с собою был диплом об окончании медицинского факультета Венского университета, и он рассчитывал остаться работать в больнице. В хороших врачах уже ощущался недостаток. Врачи, «отравившие» Горького, почти все перемерли (хотя и я встречал их десятка три), врачи, отравившие или собиравшиеся кого-то отравить, еще не были разоблачены. Прощаясь, доктор Батюшков сказал мне: — Спасибо! Постарайтесь выжить. И разгадывайте мою загадку. Пока не разгадаете, будете меня помнить! Прощайте! Почти четверть века разгадывал я загадку доктора Батюшкова, пока не купил году в семьдесят пятом «Обратный словарь русского языка» и легко обнаружил, что в русском языке — увы и ax! — нет третьего слова с окончанием на «зо» и четвертого с окончанием на «со». Ну и шутник же вы, доктор Батюшков!КОСТРОЖОГИ
Почему Сергей Иванович говорил мне на пересылке в Тайшете: «Отдай с себя все до нитки, но перезимуй на ДОКе»? Большие лагеря, а на ДОКе работало тысяч 20 заключенных, естественно, получали для питания больше продуктов. Мало того, там во всех цехах выполнялись и перевыполнялись нормы. Люди там и спали в тепле, и работали в основном в тепле, в цехах. И не тратили силы на дорогу — там всего 50 метров надо пройти от жилой до рабочей зоны, от барака до цеха. И на ДОКе, конечно, руководящая верхушка заключенных забирала для себя значительную часть продуктов, однако и простым работягам хватало, ибо на общем количестве продуктов — на 20 тысяч человек! — мало сказывалось присвоение лишнего (сверх нормы) придурней. Там процент придурков вообще меньше. А 031–я колония получила продуктов всего на тысячу человек, и две трети из них присваивала правящая каста. При тяжелейшей дороге и работе, при хроническом недоедании и недосыпании люди слабели, худели; по-лагерному — доходили, становились доходягами. Начиналась дистрофия и, если не пить сосновый отвар, — цинга. Но хвойный отвар я пил регулярно. Однако слабость нарастала. И в это время меня перевели в бригаду вальщиков леса. Это самая тяжелая работа, смертельная, особенно для доходяги. Я не вышел на работу, решив сохранить свою жизнь в БУРе. Но в БУР меня не посадили — людей не хватало, многие уже не поднимались с нар. Вечером бригадир вальщиков Саркисян, низкорослый, но очень крепкий армянин в плотном белом шерстяном свитере, подошел ко мне: — Ты почему не вышел на работу? — У меня сил нет. — У всех сил нет. Нужен хотя бы выход. Не работай, но выйди на работу, чтобы отказчиков не было. Понял?… Я промолчал. И Саркисян дал мне пощечину. Легкую, почти символическую. Я тогда страшно вскипел на него. Я хотел отрубить ему голову. Но я был фитиль-доходяга, что я мог сделать?… Мое место на нарах (это было в нижнем бараке) было напротив бригадирского уголка. Саркисяну шестерки принесли ужин — котелок, полный супа с картошкой, хлеб, еще что-то. Но Саркисян был не голоден — многие в его бригаде получали посылки. Он не смотрел на меня. Но, похлебав немного, встал и протянул мне котелок: — На. Выходи завтра. Будешь кострожогом. Я долго ненавидел Саркисяна. Так унизительна была и его пощечина, да в какой-то степени и котелок — так швыряют кость собаке… Но сейчас, спустя много лет, я пришел к мысли, что Саркисян, в сущности, был добрым и хорошим человеком. И я простил его. Да, я съел тогда этот суп. Наверное, две трети котелка мелкой вареной картошки. Ничего вкуснее я в своей жизни не ел. Как я был кострожогом, я описал в стихотворении. Оно так и называется — «Кострожоги». В стихах я даю в основном психологическую ситуацию, а здесь расскажу о сути этой работы и о моем напарнике Кумияме. Я хорошо научился валить деревья. Кумияма научил. Он, после того как в 1945 году попал в плен, в основном только этим и занимался. Кумияма был не только слаб, но и стар. Он офицером участвовал еще в русско-японской войне 1904—1905 годов. В войне 1945 года не принимал участия. Повестку о мобилизации он получил уже после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Повестка эта была направлением в Квантунскую армию. Кумияме тогда было минимум 65 лет, он был майором запаса. Но японцы (во всяком случае, японцы-военные) чрезвычайно дисциплинированны. Когда Кумияма высадился с десантного судна на маньчжурский берег, уже была подписана безоговорочная капитуляция Японии. Кумияма с большим трудом нашел в квантунской неразберихе свою уже капитулировавшую часть и явился с предписанием к ее командиру. До призыва в армию Кумияма жил на Южном Сахалине. У него была моторная лодка и сарай на берегу, где он примитивным способом консервировал свой улов. Естественно, помогали родные. При беседе с нашими особистами он это свое хилое производство гордо назвал рыбоконсервным заводом. Что ж, явный капиталист, да еще и майор по воинскому званию. В течение двух минут его и осудили, согласно решению Союзной военно-контрольной комиссии, как военного преступника на 25 лет исправительно-трудовых работ и отправили в Тайшетлаг. Там, на месте, где потом появилась тайшетская пересылка, был лагерь военных преступников. Кто виноват? Наши следователи? Они действовали согласно инструкции. Кумияма с его «заводом» и дисциплинированностью? Тоже вроде бы нет. Виновато роковое стечение обстоятельств, но прежде всего война — ненормальное состояние человеческого общества. По-русски Кумияма не знал ни единого слова, кроме мата. Но выяснилось, что он весьма недурно знает английский язык. В то молодое, послешкольное время я тоже хорошо знал английский. Уроки Елены Михайловны Охотиной еще не выветрились из-за многолетнего отсутствия практики и снотворных препаратов. К слову сказать, по-английски русскому человеку гораздо легче говорить не с англичанами, а с представителями любых других наций, изучавшими английский. Мы говорили с Кумиямой по-английски. И он очень уважал меня и даже иногда после работы приходил в мой угол барака — поговорить. Я был единственным человеком на всей 031-й колонии, который мог объясниться с Кумиямой. Был еще молодой кореец, работавший в бане, но он знал по-японски очень мало. На литературных вечерах перед чтением стихотворения «Кострожоги» я обычно кратко объясняю аудитории смысл этой работы. Здесь скажу подробнее. Сибирь. Иркутская тайга. Мороз 40 градусов. Огромная лесосека, ограниченная просеками. В оцеплении работают заключенные. Свою охранную вахту несут солдаты конвоя. Их посты располагаются по углам широких просек и еще посередине просек, если они слишком длинны или рельеф местности (балка, лощина, овраг, отроги сопок и т. п.) не позволяет просматривать всю просеку. Заключенные греются у костров. Греться нужно и солдатам, но сами они, конечно, не могут заготавливать дрова для своих костров. Это делают кострожоги. Бригадир вальщиков выделяет пару или две пары работяг (если оцепление очень большое) для заготовки дров солдатам. Для этой работы выделяются обычно самые слабые, не годные для настоящей работы люди — больные, доходяги. Дрова заготавливаются с таким расчетом, чтобы в самом начале работы солдат, пришедший на свой пост с пулеметом или автоматом, уже имел сложенные еще вчера сухие смолистые дрова, лучинку и бересту. Обычно выбирали сухостойную сосну. Валили ее по всем правилам, распиливали приблизительно на 70-сантиметровые отрезки. Затем рубили их топором или колуном (иногда с помощью стальных клиньев). Часто мы валили сосны или ели, погибшие от большого или малого соснового или елового усача. Не буду загромождать свое повествование латынью. Скажу только, что личинки этих жуков живут в древесине хвойных деревьев, поедая ее и делая в ней довольно большие ходы. Однажды Кумияма удивил меня и солдата, когда стал выбирать из расколотых поленьев большие белые личинки. Некоторые были длиною и толщиною почти с палец. Набрав целую горсть этих личинок, Кумияма стал их есть — живыми, шевелящимися. Я сказал: — Как ты можешь такую гадость есть? Противно ведь! — О, это не так! У нас в Японии эти черви-личинки считаются большим лакомством. Только очень богатые люди могут позволить себе такое удовольствие. И едят их именно живыми. В конце этой главки стоит, пожалуй, привести упомянутое мною стихотворение «Кострожоги», написанное в 1963 году. Оно отражает одну из драматических ситуаций, возникавших порою на этой работе и вообще в лагерях.АНГИНА
Несмотря на сравнительно легкую работу, я все-таки почувствовал, что скоро свалюсь. Однажды после двенадцатикилометровой жаркой пробежки на лесосеку я подошел к бочке с водой. Разбил деревянным ковшом толстый слой льда и вдоволь напился леденящей зубы и горло воды. Потом несколько раз вдохнул морозный сорокаградусный воздух. К вечеру у меня уже сильно болело горло — больно было глотать, и я почувствовал жар. Выстояв длинную и долгую очередь к врачу, я попал в нашу маленькую, коек на пять, лагерную больницу. Врач обнаружил у меня чудовищную фолликулярную ангину и температуру за сорок. В длинной очереди к врачу стояли в основном дистрофики, которых, конечно же, тоже следовало бы лечить в стационаре. Но по приказу начальства дистрофия не считалась болезнью, ибо иначе надо было бы госпитализировать человек 500–600. У меня же, кроме дистрофии, была явная и серьезная болезнь. О, прекрасные десять-двенадцать дней в маленькой больнице! Пища для больных готовилась отдельно и была похожа на настоящую. В супе была не только картошка, но даже капуста и какая-то зелень. Я лежал, я отдыхал сколько хотел. Было чисто, тепло и уютно. И ежедневно, по нескольку раз в день, уходя в сравнительно теплый туалет, я скалывал с его окошек лед, большие куски, и сосал их, чтобы продлить ангину. Антибиотиков, конечно, не было, был только стрептоцид. Держать заключенных в нашей маленькой больнице больше двенадцати дней не разрешалось, и на тринадцатый день доктор выписал меня в барак, дав освобождение от работы еще на три дня. На 031–й было еще два студента: Петр Ходов из Новосибирска и Владимир Филин из Астрахани. Они были осуждены тоже Особым Совещанием и тоже на десять лет по чрезвычайно сходным делам — нелегальные студенческие марксистские антисталинские кружки. Но их организации были невелики — у П. Ходова, кажется, четыре, а у В. Филина — три человека. Он учился в Ленинградском университете. Ходов устроился в бригаде трелевщиков, а Володя Филин страдал, как и я. Я рассказал ему, как заболел ангиной. Он сделал все так же и заболел. Но его почему-то увезли в большую больницу (больничку). И через некоторое время вместе с приветом от доктора Батюшкова (он уже работал там врачом) я получил известие, что Володя Филин умер от двустороннего воспаления легких.СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ЗИМОЙ
Я попал в эту бригаду после ангины. Выемки, насыпи. Сначала, впрочем, изыскательные работы. Разбивка кривых и все такое прочее. Я работал там на всех работах. Самое страшное было — это выемки, ибо здесь совершенно невозможна была туфта. Возможны были лишь приписки каких-либо дополнительных работили условий, снижающих норму, — предварительной расчистки снега, вырубки деревьев, прогрева кострами слоя мерзлоты, применения кайла; можно было завысить расстояние при отвозе грунта тачками и т. п. Нормы выемки грунта на человека были заведомо невыполнимые, рассчитанные на истощение и гибель. Что же было делать? Люди слабеют, люди умирают. Надо спасать людей. А вольные дорожные мастера и лагерное начальство требуют прежде всего объема вынутого и уложенного в насыпь грунта. Приписывайте что хотите, но дайте прежде всего объем грунта. А это очень легко было измерить, проверить. Бригадир наш Сергей Захарченко был очень опытным человеком. Сапер. Попал в плен тяжело контуженным — взрывал мост перед наступающим противником и не успел далеко отбежать от своих же фугасов. Спасение людей начиналось с изыскательной работы — Сергей Захарченко умел находить варианты с минимальным количеством выемок. Насыпи — пожалуйста, сколько угодно! При отсыпке насыпей зимой ставили с обоих концов участка работ сторожей — они предупреждали специальными сигналами (условное число ударов в рельс) о подходе начальства. Насыпь. Прекрасно! Отсыпем насыпь. С боков расчищаются от снега участки для выемки грунта, снимается верхний слой. Внешне все нормально. И тачки наготове с насыпанной глиной стоят. Но в насыпь насыпают снег. Трамбуют его. В насыпь валят деревья. Кладут хвою из крон деревьев. Потом — опять снег, снег. Насыпь растет. Засыпается сверху землей. На полметра. Трамбуется. Крепко? Крепко! Мороз силен. Снег, хвоя, деревья и земля смерзаются в прочный монолит. Кладутся шпалы, рельсы. Когда туфта с насыпью обнаружится? Месяцев через восемь-девять. А нас тут уже не будет. Мы будем вести другую ветку в другом месте. А пока люди спасены, люди сыты. Огрехи (туфту нашу) исправят досыпкой грунта другие заключенные, и, разумеется, ни снег, ни хвою, ни деревья они извлекать из насыпи не будут. Подсыплют глины, где будет осадка. Она, кстати, вполне естественна при отсыпке насыпи зимой. Она даже планируется, эта осадка. А мы? А мы, может, уже на Колыме будем. Так, кстати, и случилось со многими из нас. И все-таки ближе к весне началась повальная дистрофия. И тогда я решился на самое последнее, крайнее средство.САМОРУБ
Этим словом называлось, как я уже упоминал, нанесение заключенным самому себе раны с помощью топора с целью уклонения от работы. Саморубы карались жестоко — как саботаж. Мне случилось тогда работать на ремонте лежневки, и обут я был в ботинки с зимними портянками. Лежневка лежала на болоте, которое почему-то подтаивало и чавкало, несмотря на мороз. Я подтесывал шпалу для замены сгнившей. Дело, в общем, обычное. Новая шпала лежала на старых шпалах параллельно рельсу. Напротив меня — как раз со стороны шпалы — сидел у костерка солдат с автоматом. Как его звали, я забыл, но он был мой земляк. Родился где-то возле Сагунов, а это рядом с Подгорным. Раньше мы несколько раз беседовали о родных местах, он иногда угощал меня махоркой. Светило солнце. Блестел костерок бездымным огнем. А я тихонько подтесывал шпалу. Топор мой гулял между шпалой и левой моей ногой. Чуть влево — и по ноге. Я хотел, чтобы топор попал между большим пальцем и соседним с ним. Очень это трудно было сделать. Надо было рассчитать силу удара, чтобы ранение было не слишком глубоким. Я подтесывал шпалу, постепенно подвигая к ней ногу (на солдата я не смотрел, не оглядывался). Несколько нерешительных ударов в шпалу и наконец — будь что будет! — довольно сильный удар кончиком топора в ботинок чуть выше ранта. От боли я самым натуральным образом вскрикнул, отбросил топор, заругался. Солдатик, землячок мой, оказывается, все это видел. И, по его мнению, это был самый натуральный нечаянный удар. Довольно густо потекла через дыру в ботинке кровь. Идти я не мог, и четыре работяги донесли меня до зоны, она была совсем близко. Сопровождал нас все тот же мой земляк с автоматом. Он и подтвердил, когда дело дошло до опера, что видел все хорошо, никакого саморуба не было. Несчастный случай. Разруб оказался большим, но не очень глубоким. Врач наложил четыре шва, вставил в рану дренажную резинку и выдал костыли. — На, гуляй! Месяца полтора отдохнешь, счастливый ты человек. Рана не заживала долго, так как я снимал повязку и сыпал в рану всякую грязь. Разумеется, делал это так, чтобы врач не заметил. Прокантовался я в зоне со своими костылями в самое тяжкое время более двух месяцев.НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Вот кто спас от смерти людей на 031-й колонии. У нас был до него какой-то задрипанный капитанишка. И вдруг явился новый — высокий, добрый, умный. С погонами подполковника. И со следом третьей, полковничьей звезды. Корю себя все время за то, что забыл его простую русскую фамилию. Что-то вроде Полякова. Ан нет, нашлась фамилия! Я записал ее году в пятьдесят шестом. Именно Поляков! Подполковник Поляков начал свою деятельность на 031-й колонии с того, что собрал в один из редчайших выходных дней общее собрание заключенных и сказал: — Здравствуйте, товарищи заключенные! Почему вы так истощены и больны? Как вас кормят? Послышались голоса: — Плохо, гражданин полковник! — Плохо! — А почему? Тут заюлили перед новым начальником придурки во главе с нарядчиком Ломакиным и поваром. — Товарищ Ломакин! Товарищ повар! Если через три дня все рабочие не будут сыты, я вас расстреляю! Имею на это право. Полковник Поляков служил в пограничном военном округе. Какой-то шпион или контрабандист перешел участок, за который отвечал Поляков, перешел с концами — не поймали его. И Полякова наказали: понизили в звании и отправили в черную таежную дыру — начальником 031-й колонии Озерного лагеря. Он еще не мог привыкнуть к новому обращению с подчиненными. Заключенных, в частности, нельзя было называть товарищами. Через два дня все заключенные 031-й колонии были сыты. Поляков выписал дополнительное питание для лошадей. Несколько тонн овса. Его перемололи в крупу, и три раза в день каждый заключенный стал получать полную миску овсяной каши. Люди на глазах стали оживать, веселеть. Поляков, судя по орденским планкам, прошел всю войну, Великую Отечественную и войну с Японией. У Эпштейна на ДОКе фронтовых наград не было. Чего еще важного или хорошего не написал я о 031-й колонии Озерного лагеря? Самое прекрасное было — это тайга, и зимняя, и летняя, и предвесенняя. Сидишь, бывало, на ступеньках верхнего нового барака, отставив в сторону костыли, и смотришь. Боже мой, какое очарование красок! Ярко-зеленые, как озимь, первые новые хвоинки лиственниц, нежно-голубые пихты. Я их сразу научился отличать не только по цвету, но и по хвоинкам. Хвоинки у них плоские в сравнении с другими хвойными. Широкие и снизу по обе стороны стержневой жилки — две светлые полосочки. По ним можно отличить любую пихту. Пихта — это ведь род, а видов ее только в СССР около пятидесяти. Прекрасна тайга и вблизи, даже разоренная, измученная. Как-то в большом оцеплении я искал березу, чтобы приладить к ней ковшик для березового сока. Самый сладкий сок у берез, растущих на возвышениях, на бугорках. Иду с топором и ковшиком из бересты и вижу вдруг — зверек, но не белка, перебегает мне путь. Я уже слышал о бурундуках и понял: бурундук. Я остановился, чтобы он не убежал, и он остановился. Я начал потихоньку подходить к нему, и он стал приближаться ко мне навстречу, а потом встал во весь рост, как суслики стоят в степи, чтобы хорошенько разглядеть меня. Он, вероятно, впервые видел человека. Был бурундучок большой (наверное, самка), весь рыжий, но по рыжему от самого носа и до конца довольно пушистого хвоста — пять черных полосок. А брюхо — белое, чуть желтоватое. Бурундук убежал, испугавшись не меня, а упавшей где-то рядом сосны — шел лесоповал.ОХОТА НА ЛЮДЕЙ
С Володей Бобровым, студентом или аспирантом Казанского университета, я познакомился еще на ДОКе, там он был придурком — работал в одной из контор. Большие роговые очки делали его чем-то похожим на большого жука. Меня удивляло то, что он разговаривал с венгром, бывшим военнопленным. — Володя! Вы что, знаете венгерский язык? — Нет, Толя! Я не знаю венгерского, но я знаю несколько других угро-финских языков. И он рассказал мне о наших уральских и приволжских угро-финнах, их много: удмурты (Володя был удмуртом из Ижевска), мордва, коми-зыряне, вогулы, остяки, черемисы, на севере — карелы, финны… Ни одна энциклопедия не перечисляет их полностью. Володя Бобров был аспирантом, работал над кандидатской диссертацией. Его и взяли за угро-финский национализм, за то, что будто бы он замышлял создание Великой угро-финской империи. 25 лет. Наши, советские угро-финны, кроме эстонцев, — православные христиане. Забавно, что у них сейчас в ходу многие православные имена, забытые у нас в России или сохранившиеся лишь в фамилиях. Там и сейчас детей называют такими, например, именами, как Елисей, Калистрат, Фекла, Матрена, Еремей и т. п. Я переводил хорошего удмуртского поэта Флора Васильева, он был близок мне по реалиям — деревенским и природным, отчасти и по мироощущению. Он и рассказал мне, что Володя Бобров вернулся, реабилитирован и занимается своей темой, но — увы! — пьет. 22 февраля 1972 года (я жил тогда еще в Беляево-Богородском и был беден, как церковная крыса) Володя Бобров явился ко мне — я узнал его сразу еще через дверной зрачок, а не виделись мы двадцать один год. Я позволю себе переписать сюда свою запись из рабочей тетради, связанную с приездом Володи, — еще об одном страшном явлении сталинских лагерей, с которым я впервые познакомился на 031-й колонии.«Вчерашний неожиданный приезд Володи Боброва очень сильно подействовал на меня. Пройдя сквозь призму долгих лет, лагерные мои воспоминания стали словно мягче, потеряли свою начальную острую боль. Преобразившись в стихи „Береза“, „Бурундук“, „Кострожоги“, они окутались несколько даже романтической, лирической дымкой. На первом плане засветились доброта и человечность, с трудом, чудом сохраненные людьми (далеко не всеми, конечно). Притупилось, забылось самое злое и страшное. Не в полном, конечно, смысле забылось. Забыть этого нельзя. Но не вспоминалось долго. По Фрейду, человеческий организм, мозг прежде всего, защищая себя, как бы вычеркивает травмирующие воспоминания. Но вчерашняя встреча повергла меня в страшную пучину. Боже мой! Какой ужас был пережит! Вспомнилось многое, что казалось уже давно нереальным. Нарядчик Ломакин… Оказывается, его на куски изрубили топором на 04-й колонии. Латыш Плингис. Его застрелил в 1954 году начальник конвоя Воробьев… И саму 031-ю колонию ликвидировали тоже в 1954 году. Там, наверное, все истлело, и новый лес вырос… Кроме унизительного голода, кроме всяких зверств и жестокостей, вспомнилось (не привычно-абстрактно, а с живой болью, новой, еще более острой, чем тогда) самое страшное, что вообще было в жизни. Это охота на людей. Людоедский этот спорт был особенно распространен среди конвоиров и охранников именно на 031-й колонии Озерного лагеря. Он процветал, впрочем, везде, где были подобные условия, — на работах в лесу, в поле, при конвоировании небольших групп заключенных, при этой ужасной близости автомата и человека, которого можно было застрелить. Играла роль система поощрения охраны за предупреждение и пресечение побегов. Застрелил беглеца — получай новую лычку, получай отпуск домой, получай премию, награду. Несомненно, имела значение и врожденная биологическая агрессивность, свойственная молодым людям. Кроме того, солдатам ежедневно внушалась ненависть к заключенным. Это, мол, всё власовцы, эсэсовцы, предатели и шпионы. Развращающе действовали на некоторых конвоиров и неограниченная власть над людьми, и само оружие в руках, из которого хотелось пострелять. Стреляли заключенных чаще всего либо молодые солдаты, либо закоренелые садисты-убийцы вроде упомянутого Воробьева. Один из конвоиров выбирал себе жертву и начинал охотиться за нею. Он всеми силами, уловками и хитростями старался выманить жертву из оцепления. Часто обманом, если умный и опытный бригадир не успевал предупредить новичка. Скажет солдат такому: — Эй! Мужик! Принеси-ка мне вон то бревнышко для сидения! — Оно за запреткой, гражданин начальник! — Ничего, я разрешаю. Иди! Вышел — очередь из автомата — и нет человека. Случай типичный, банальный. Бывало, что конвоиры, охранники приказывали жертве выйти из оцепления, силой выталкивали, выгоняли в запретную зону, чтобы убить. С одной стороны, по инструкции конвоир может приказать заключенному выйти из оцепления. По этой же инструкции он может вышедшего застрелить. Обычно человек чувствует, когда его хотят застрелить. Передаются какие-то биотоки. Со мной было несколько таких случаев на 031-й. Однажды — в ремонтной бригаде Сергея Захарченко. Ремонтная бригада приходит на участок работы. Конвоиры ставят колышки с белыми дощечками — впереди и позади на железной дороге и с боков — тоже. Это и есть в данном случае, за колышками, запретная зона. Один солдат вдруг приказал мне: — Пойди-ка сруби вон то деревце. Оно мешает мне видеть дорогу, обзору мешает. Захарченко услышал и громогласно приказал: — Жигулин! Никуда не выходи! Он тебя убьет! Вся бригада — ложись! Ложись на шпалы между рельсами. Приказы конвоя не выполнять. Лежать! До прихода начальства из лагеря! Конвойных было пятеро. Начальник конвоя, старший сержант, все понял и спорить с бригадиром не стал. Он несколько раз выстрелил в воздух из нагана. Вызвал начальство. Пришло несколько офицеров. У солдата отобрали автомат и под конвоем отправили в казарму. Но такой счастливый исход был редок. Вчера Володя Бобров рассказал мне, как был застрелен латыш Плингис. Это было уже без меня, в 54-м году. Бригада по рубке просеки отдыхала в обеденный перерыв. Начальник конвоя Воробьев приказал Боброву взять топор и идти в лес рубить визирку[24]. Бобров сразу почувствовал: убить хочет. И отказался наотрез. Схватился руками за корни сосны, лег на землю: — Никуда не пойду! Ничего не вижу — у меня очки запотели. Воробьев зверски избил его ногами, но от сосны не смог оторвать. И обратился к Плингису: — Иди тогда ты!.. Латыш Плингис взял топор, пошел в чащу впереди Воробьева. Через несколько минут раздались две короткие автоматные очереди. Воробьев убил несчастного латыша. А у Плингиса в колонии был двоюродный браг Мельберис. Можно представить его горе. Убийство Плингиса, как и многие другие подобные дела, было оформлено как побег. Полуграмотный опер составил протокол, и дело с концами. К слову сказать, весной 1951 года на моих глазах был подстрелен заключенный Бегаев (кажется, его звали Виктор). Пуля из карабина пробила ему правую сторону груди, но он, однако, успел рвануться и упасть с визирки (он тоже рубил визирку) в оцепление. Солдат не смог сделать второго выстрела. Бегаева увезли в больницу. Возможно, он остался жив».Скажу здесь и о печальном конце Володи Боброва, раз он так вдруг ворвался в мою послелагерную жизнь. По словам Флора Васильева, вскоре после того как Володя приезжал ко мне, он погиб от алкоголизма. Первопричина этого ясна.
РЕДКИЕ РАДОСТИ
С приходом нового начальника жить на 031-й стало легче. Я стал получать из дому посылки. Сергей Захарченко снова взял меня в свою бригаду. В бригаде было человек двенадцать-пятнадцать, и называлась она бригадой по содержанию железной дороги. Короче: «Содержание». Была скорая весна, а потом наступило лето. Иногда меня спрашивают: — А бывало ли в лагерях когда-нибудь хорошее настроение, хорошее время? Бывало, конечно. Душа ведь всегда ищет и жаждет радости. И далеко не всегда светлые дни, а то и месяцы были связаны с получением письма, посылки и т. п. Бывали очень хорошие, я бы сказал даже, по-настоящему радостные минуты, вовсе не связанные прямо с материальным, так сказать, благополучием. Хотя косвенная связь здесь, конечно, естественна. Для меня такая хорошая пора в лагерях наступила впервые в конце второго года заключения, в бригаде Сергея Захарченко. Рано-рано утром выходили мы из ворот. Впрочем, не первыми. Первыми уходили бригады на лесоповал, на трелевку. Им дальше идти, и работа у них такая, на которой надо вкалывать, не то что у нас. И мы не спешили. Наконец редело у вахты, и нарядчик, здоровенный Ломакин, орал зычным голосом: — Содержание! Захарченко! На выход!.. И добавлял, разумеется, несколько нецензурных фраз, но без зла, а просто так, для порядка. Мы выходили за ворота, где уже ждал нас свой знакомый конвой. Солдата того, что хотел меня застрелить, уже не было. Он посидел немного на губе, потом его отправили в военную психбольницу. Помбригадира и румяный паренек-шестерка, оба из западных украинцев, забирали в рабочей зоне инструмент — молотки, ключи, топоры, пилу, — и мы трогались. Впереди, сзади и по бокам, мирно попыхивая цигарками, шли четыре конвоира, редко — пять. Захарченко умел с ними ладить, и они относились к нему, а следовательно и к нам, с уважением. Прекрасна была тайга в эти ранние часы. Ближе к полотну лежала она исковерканная, вырубленная. Торчали пни, и разбросаны были кругом черные недогоревшие порубочные остатки. Желтели большие ямы, из которых брали песок для насыпи. А за вырубкой стояла тайга нетронутая, сосны — как на подбор — высились бронзовой стеной. Солнце только что встало. На холодных голубых рельсах и сереньких сухих шпалах большими каплями блестела еще роса, а сосны, особенно верхушки, были уже золотыми от солнца. Очень прохладно, ясно и чисто было все вокруг. Суля удачу, то и дело перебегали дорогу бурундуки. И легко было идти по шпалам, чувствуя на плече тяжесть дорожного молотка, ощущая его полированную ручку, гладкую от шершавых наших ладоней. Хорошее, бодрое было настроение, и я в такие минуты мечтал… И уже не молоток у меня на плече, а винтовка. И вовсе мы не бригада, а отряд. И ведет нас опытный фронтовой офицер Сергей Захарченко. А идем мы, чтобы освободить наших товарищей. Вот сейчас покажется за поворотом соседняя 06-я колония, и грянут выстрелы… — Вот здесь, гражданин начальник… — возвращает меня к реальной жизни голос бригадира, — здесь надо остановиться!.. Мы останавливаемся на полчаса. Меняем сгнившую шпалу, подбиваем костыли. И снова в путь. Идем по лежневкам, по выемкам и насыпям, по деревянным мостам на рубленных из лиственницы опорах. И за каждым поворотом или подъемом открываются нам все новые и новые бесконечно далекие синеватые, фиолетовые, дымчато-зеленые таежные дали.ВТОРОЙ ЧЕРПАК КАШИ
Ирине НеустроевойВ 1947 году в разрушенном войной Воронеже, когда я еще учился в школе и писал свои первые стихи, мне необыкновенно повезло: мне дали на несколько дней почитать четырехтомное Собрание стихотворений Сергея Есенина, вышедшее в конце 20-х годов. Оно было в мягких белых зачитанных обложках. Я был потрясен до глубины души — я не знал раньше Есенина, не знал, что можно писать так просто и пронзительно:
«СТОЛИЦА КОЛЫМСКОГО КРАЯ» И ПУТЬ К БУТУГЫЧАГУ
В августе 1950 года меня отправили с 031-й колонии в соседнюю, 035-ю, а оттуда через пять дней в телячьем вагоне покатил я на восток. О дороге моей от 035-й колонии Озерного лагеря до Магадана я расскажу позднее — в главе «Побег», там этот рассказ пришелся более кстати. Читатель уже мог заметить, я многое рассказываю не по порядку, не пишу, как строгий мемуарист, согласно ходу времени и стуку колес. Я свободно забегаю в будущее, если мне это необходимо, свободно, но, разумеется, с оговоркой, вставляю в повествование пропущенные эпизоды из более раннего времени. Здесь скажу, что с печальным интересом — при выгрузке в Магадане с корабля «Минск» — рассматривал я свинцово-серую, маслянистую, сверкающую от солнца бухту Нагаева, окрестные, еще зеленые сопки (был конец августа), желто-розовый неровный каменный обрыв, ограничивающий бетонированную, не очень широкую полосу Магаданского порта. Интересны мне были и большие морские корабли — я их прежде видел только в кино. Город Магадан был скучен, малоэтажен. Бросалось в глаза почти полное отсутствие на улицах какой бы то ни было растительной зелени. Правда, когда шли через город, встретился справа городской парк. Он представлял собой порядочную, за зеленым штакетником площадь с аккуратными песчаными аллеями, с зелеными скамейками и белыми цементными стандартными скульптурами. Маленькие, посаженные в парке деревца лиственниц были почти не заметны. До пересылки Берегового лагеря шли долго, тянулись длинно — целый корабль людей привезли, полные трюмы! Пересылка была, естественно, на окраине, далее начиналась болотистая кочковатая низина и сопки. У окраины журчала неглубокая, но быстрая и прозрачная речка с камешками на дне. В зоне пересылки было несколько строящихся домов — двухэтажных кирпичных и одноэтажных деревянных. Возвышалось большое, уже готовое здание столовой с колоннами — сталинский ампир послевоенных лет. Но это не были постройки для заключенных — в оцеплении пересыльного лагеря строились городские дома, говоря теперешним языком, — городской микрорайон. Когда строительство заканчивалось, готовый участок отрезался от пересылки колючей проволокой или сплошным деревянным забором с колючей проволокой над ним, а к площади лагеря прибавлялся новый неосвоенный кусок предсопочной равнины или пологого склона сопки. Начиналось новое строительство. И так далее, до самого послесталинского уничтожения лагерей. В пересыльном лагере было неголодно. Там было много тысяч людей, процент придурков был невелик. Кормили нас в монументальной столовой. Кто-то из магаданцев написал мне, что сейчас в этом здании ресторан «Север». Хотя, когда мы только прибыли в Магадан, ресторан с таким названием уже существовал в городе, я даже помню его вывеску. Вероятно, перевели ресторан в более новое и вместительное здание. Жили мы на пересылке в больших, иногда даже двухэтажных палатках (второй этаж, правда, не был рассчитан на зиму) — деревянный каркас, деревянные нары, деревянный пол-настил второго этажа — он же потолок первого. Наверху было что-то вроде чердака, помещение меньше, чем внизу, и без нар — спали на полу. Все сооружение обтянуто двумя слоями — с воздушной прослойкой — черного брезента. Двери деревянные. В нижнем этаже был тоже деревянный пол. Палатки были рассчитаны на большие морозы, но на колымскую зиму они — увы! — не годились. Даже с печью, сделанной из большой железной бочки. Просчитались конструкторы. Люди замерзали насмерть в таких палатках и при раскаленно-красной печке. Двойные брезентовые стены пропускали холод. Чтобы хоть немного утеплить, каркасы таких палаток обшивали двойным слоем досок с засыпкой между ними (торф, земля, стружка, опилки). Когда мы прибыли на пересылку, казалось, что до холодов еще далеко. Светило солнце. Справа, если стать лицом в сторону бухты, было видно взбегающую на склоны сопок часть города — нагромождение маленьких домиков и бараков. Нас, кажется, дважды водили в город по улице, параллельной главной (сначала по колымскому шоссе, переходящему в главную улицу, потом — правее на один квартал), в баню, санпропускник. Проходили мы мимо сплошного забора пересылки СВИТЛа[25]. Дальше, на повороте, помню, стоял дом, чрезвычайно отличавшийся от всех магаданских построек. Это был двухэтажный, из старинного темно-красного кирпича особнячок середины XIX века, словно чудом перенесенный сюда из глубинной, уже старинной России. Водили нас и на одну из сопок за дровами. Мы должны были руками (без помощи топора) ломать лозы колымского кедрового стланика и небольшие колымские лиственницы. Мы довершали преступление, начатое еще в начале 30-х годов, — уничтожали остатки леса на окружавших Магадан сопках. В Магадане изменились некоторые правила конвоирования заключенных. При этапах мне уже, кроме редких случаев, не надевали наручников, — куда бежать? Бежать было некуда. С высокого склона сопки как на ладони был виден весь город Магадан — «столица Колымского края». И оказывалось, что в центре его порядочно больших, трех- и четырехэтажных кирпичных домов. Это были учреждения и жилые дома Дальстроя. И они продолжали возводиться. На пересылке была постоянная бригада, которая строила в центре Магадана 58-квартирный жилой дом, предназначавшийся для высших чинов руководства специального Берегового лагеря. Лагерь спецконтингента — так еще назывались лагеря. Мне иногда во сне слышится: — Пятидесятивосьмиквартирный! На выход!.. И я просыпаюсь в холодном поту. Если эти заметки прочитает человек, бывший на центральной пересылке Берлага в конце августа — начале сентября 1951 года, он скажет: да, точно, этот писатель был там в это время.Пока я еще на пересылке и пока еще есть настроение для песен, приведу, пожалуй, канонический текст песни «Ванинский порт», одной из самых сильных и выразительных тюремно-каторжных песен. Сейчас мало кто помнит ее целиком.
БУТУГЫЧАГ
Стало вдруг холодно. И солнце куда-то пропало. Еще возле Усть-Омчуга ярко светило, а тут вдруг заметили: солнца-то нет, хоть небо и чистое. Слышался неразборчивый и непонятный разговор начальника конвоя (он сидел в кабине) с каким-то местным чином. Закончился разговор словами ясными: — …на Центральный. И машина тронулась дальше и проехала совсем немного, километра полтора-два. Остановились. — Сидеть на местах! Слушать команду!.. Автоматчики вылезли из кузова, открыли задний борт, и мы увидели поселок и много всего нового. — Выходи по одному! Строиться в колонну по пять человек! Автоматчики и начальник конвоя были метрах в тридцати от машины. Мы построились, и нас посчитали. Машина задним ходом уехала. Мы оказались в широком загоне у ворот большого лагеря. Правее ворот была вахта с проходной. Над высокими воротами на прочной проволочной сетке были укреплены алюминиевые литые крупные буквы:ОЛП № 1Чуть ниже:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙОчень красиво и четко была сделана надпись. Раньше я видел подобные только на демонстрациях (также на проволочных сетках: завод такой-то и т. п.). Возле ворот, точнее, чуть не доходя, запомнилась навсегда не очень крупная, но, очевидно, уже очень старая и хоть не толстая, но высокая, метров пяти, лиственница. Одна из ветвей дерева была узловатая, скрученная и далеко откинутая, словно это была не ветвь, а толстая веревка, брошенная и мгновенно застывшая петлей в морозном воздухе.
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
ОЛП № 1 означало: «Отдельный лагерный пункт № 1». ОЛП № 1 Центральный был не просто большим лагерем. Это был лагерь огромный, с населением из заключенных в 25–30 тысяч человек, самый крупный на Бутугычаге. Когда нас впускали в зону (а было уже время вечернее, хоть и было по-северному светло, еще не кончился полярный день), возле вахты постепенно собирались бригады ночной смены. И я вдруг увидел… Володю Филина, своего друга по 031-й колонии Озерного лагеря! Живого, невредимого. Господи! Да как же это?! Ведь сказали, он умер! Мы бросились друг к другу. Оказалось, что в больнице он действительно умирал, но все-таки выдюжил, преодолел тяжелейшую пневмонию. А сюда попал из Озерного лагеря (там число людей сокращалось, поскольку дорога Тайшет — Братск была уже построена) теми же путями, что и я, но недели на три раньше, и уже три недели работал откатчиком на руднике № 1. Их бригаду вскоре вывели за зону. А нас, часть прибывших из Магадана, временно (так и сказали: временно) поселили в такую, как я уже описывал, только маленькую палатку из двойного брезента. Нам выдали постельные принадлежности и стеганые ватные бушлаты. Набитые соломой или стружками тюфяки уже имелись на нарах. Я захватил место наверху. Новую свою телогрейку положил под голову, под тонкую подушку, сверх одеяла укрылся бушлатом. Спал хорошо. Утром проснулся от холода. Почему-то сильно дуло от зыбкой стены. Оказалось, что она разрезана и — о, ужас! — под подушкой не было моей новенькой телогрейки! Я сказал об этом соседям, людям мне еще не знакомым. — Они их вольнягам толкают по тридцатке, новые телогрейки, — сказал кто-то, — как по тридцать сребреников за чужую жизнь. — Кто толкает? — Кто ворует. Суки, потерявшие совесть. — А ты знаешь кого-нибудь из них? — Откуда же я могу знать? Ищи ветра в поле. Люди посочувствовали мне и забыли, занятые своими делами. Я уже давно знал, что обращаться к начальству лагеря, даже к заключенному начальству, — дело совершенно бесполезное. Новую телогрейку не выдадут, только промот запишут в личное дело. Плохо, очень плохо начиналась для меня лютая зима 1951/52 года. Укравший из-за тридцати рублей обрекал меня на смерть от замерзания или простуды. Убил бы и сейчас этого гада — так много мук испытать пришлось мне из-за отсутствия телогрейки. Ежедневно приходилось просить телогрейку у больных или у работавших в другие смены. А телогрейка даже больным или свободным от работы все равно зимой была нужна — сходить в столовую, в уборную и т. п. зимой в одном бушлате, без телогрейки, холодно. Морозы за 50-60 и даже за 70 градусов стояли долгими месяцами. За 50 градусов — до четырех месяцев подряд. Стараюсь припомнить тех, кто делился со мною телогрейкой. Чаще всего это были западные украинцы, бурильщик Иван Матюшенко, откатчик Федор Рыбас, из русских — Василий Еремеев и другие, забытые. Из немцев — Ганс. Он был мобилизован в неполных пятнадцать лет, в сорок пятом году, уже в апреле, попал в лагерь для военнопленных, а оттуда по статье 58–10 угодил на Колыму. Всех — и кого назвал, и кого не назвал — и украинцев, и русских, и литовцев, и других — всех, кого помню и кого забыл из тех, кто делился со мною телогрейкой зимою 1951/52 года, от всей души благодарю! Спасибо вам, дорогие товарищи мои!.. Чтобы не забыть, запишу, как Ганс (чаще мы его звали Иваном) смешно рассказывал анекдоты (он плохо знал русский язык): — Идет по лесу волк. А навстречу ему идет — не знаю, как назвать, — красный такой собака — в лесу бегает, фукс называется!.. — Лисица! Давай дальше! — Да, лисица — давай дальше… Я потом дружил с ним, с Гансом-Иваном, и на Центральном, и на руднике имени Белова. Однажды, в глухую колымскую зиму, он принес откуда-то необыкновенное чудо — два больших свежих, словно их только что с куста сорвали, красных помидора. А я с раннего детства не любил помидоров и никогда их не ел. И вот в восторге от того, что может и хочет это сделать, Ганс подает мне один из этих двух помидоров. Разве можно было отказаться? С тех пор я стал есть помидоры. Тот был первый. Между первым и вторым моим помидором прошло три с половиной года, второй я съел уже в родном Воронеже… Среди описания жестоких мучений приходит вдруг как бы само собой воспоминание о веселом, радостном — пусть чрезвычайно редком в бутугычагском аду. Душа, погруженная в мучительные воспоминания, словно отталкивает их и даже среди них находит добро и тепло — два помидора Ганса. Ах, как они были хороши! Но вовсе не вкус и не редкость такой изысканной пищи тут на первом месте. На первом месте — Добро, чудом сбереженное в душе человека. Если есть хоть капля Добра, значит, есть и Надежда. Не всегда, однако, удавалось мне добыть телогрейку. Раза два или три той грозной зимою выходил я на работу в одном только бушлате. А работа моя была уже не в шахте на 6-м горизонте, где я начинал свою горняцкую эпопею в 23-м квершлаге — катали вагонетку вместе с Володей Филиным, — а на 47-й штольне, метров на 500 выше дна распадка, в котором был расположен огромный рудник № 1. Поднимаясь на высокую эту штольню и порой таща с напарником вверх по обледенелым камням рельсы, я и простудился, и стали болеть у меня почки, и стал я харкать кровью. И я опять попросился в шахту на 6-й горизонт. Рудник № 1 был километрах в полутора-двух от жилой зоны Центрального. Морозы были лютые, и это расстояние мы вместе с конвоем пробегали почти бегом. Шахта, главная шахта рудника № 1, была зарезана в сером граните. Гранит — порода общая для всех бутугычагских гор, а следовательно, и шахт. В главную шахту рудника № 1, на 240-метровую глубину, нас спускали на клети, она принимала человек десять-двенадцать или одну вагонетку типа «Анаконда» с породой или рудой, 23-й квершлаг был освещен стационарными лампочками, но, разумеется, не до забоя. И мы, откатчики, пользовались для освещения карбидными лампами. Светильники эти несовершенные, их задувало ветром, а спичек у нас не было, но работать с ними можно, когда рядом другие откатчики с огоньками карбидок. Аккумуляторными электролампочками с небольшой фарой на каске или шапке были снабжены бурильщики, а также бригадиры и их помощники-спиногрызы. Очень точное слово. Спиногрызы должны были как бы сидеть на работягах и грызть спины. Володя Филин уже работал в другой бригаде, совсем в другой отрасли огромного производства — в пыжеделке. Я попал в бригаду белоруса Николая Протасевича. Был он довольно щуплым, но жилистым и, пожалуй, повыше меня. Ему нравилось, что я «природный русак» (он и себя называл русаком и фамилию свою произносил с русским окончанием: «Протасов» — и от других того требовал), и предложил он мне стать его помощником, спиногрызом: — Будем честными суками, будем жить красиво! Будем спирт пить и сало жрать! Если кто против — вот, погляди. И он показал мне какой-то странный, скорее бутафорский, чем настоящий, нож. Нож был раза в полтора длиннее, чем полагается быть финке, и был вырезан из лезвия обыкновенной ножовки. Я взял нож и сказал: — Не годится эта штука, Николай. — Почему? — А вот смотри! — и я легко согнул лезвие в дугу. — И вообще я тебе лезть в суки не советую. Ты ведь не блатной, а всего-навсего бывший полицай. А у нас в БУРе настоящие воришки сидят. Не ровен час… Сам понимаешь… Не буду я у тебя спиногрызом. Я честный битый фраер[26]. — Там в БУРе только один Леха Косой. А с нами сам Купа, и все бугры, и все начальство… — Нет, не буду я у тебя спиногрызом. — Будешь! — Не буду! Протасевич, не надеясь на свою бутафорскую финку, не стал меня резать. Он взял тонкое бревнышко из привезенных на козе для рудстройки и стал меня им бить по бокам — по легким, по почкам. Бил он вполсилы и как бы нехотя, словно чего-то не понимал, чего-то боялся. Однако и несильные его удары очень больно отдавались внутри, в почках, наверное. И с каждым ударом у меня изо рта вылетал кровавый сгусток. Я был очень слаб и не мог оказать Протасевичу сопротивления. Даже забурник для меня был тяжел. Спас меня бурильщик Иван Матюшенко: — Пан бригадир Протасов! Вы его так убьете, а сейчас опять ввели смертную казнь за лагерный бандитизм! Протасевич оставил меня. — И в самом деле, нестоит за такого вышку получать. А еще природный русак! Да и не русак он! — обрадовался вдруг своей неожиданной мысли Протасевич. — Не русак он, а жид натуральный! Верно, Матюшенко? — Hi, пан Протасов, на жи́да вiн не похож. Руський вiн, русак. — Жид, жид. Я их знаю хорошо. Я их в газмашину десятками запихивал. Протасевич легко нашел себе двух спиногрызов. С одним из них, Николаем Чернухой (кажется, 1923 года рождения), мы были до этого в нормальных, даже приличных отношениях. Сам он родился в Харбине, в семье белоэмигранта, но отец его был из Борисоглебска Воронежской области. Таким образом, получилось, что мы с ним почти земляки. Другого, Ивана Дзюбу, лютого бандеровца, я раньше не знал. Оба они с радостью подхватили слова Протасевича, что я еврей. Как они издевались надо мною, не буду описывать — больно. Скажу только, что за то, что я якобы еврей, меня почти ежедневно били. И так случилось, что некому было мне помочь. У меня началась депрессия. Все ревело, орало и стучало вокруг меня: — Жид! Жид! Жид! Жид!.. Орали разинутые глотки Протасевича, Чернухи и Дзюбы. Стучали перфораторы. Даже в моем кровавом кашле, казалось, звучало: — Жид! Жид! Жид!.. Признавайся! Почему не признаешься, что ты жид?! Так продолжалось месяца два. После очередного издевательства я украдкой рассматривал свое лицо в тусклом обломке зеркала, висевшего в умывальнике. Похож ли? — этот вопрос я задавал себе и не находил ответа. Нос вроде не еврейский. Вот черноват я волосами, худ, глаза от худобы стали большими. Может, и вправду во мне есть еврейская кровь? И возникла болезненная коллизия. Я вспомнил своего дядю, Самуила Матвеевича Заблуду, польского еврея, мужа тети Веры, Веры Митрофановны Раевской (она же и моя крестная мать), и перестал исключать возможность того, что я сын Самуила Матвеевича. Вспомнил, как в раннем моем подгоренском и воронежском детстве сестры Раевские с восторгом восклицали: «Ах, какой хорошенький! Вылитый Самуил Матвеевич!..» — и всем было радостно. После возвращения в Воронеж я узнал, что Самуил Матвеевич приехал из Польши в СССР спустя два-три года после моего рождения. И мое болезненное предположение полностью отпало. Но я счел невозможным не написать и об этих моих мыслях. Много лет спустя эти мои мысли и переживания, соединившись с дальнейшим жизненным опытом, косвенно отразились в моем стихотворении 1980 года. Оно малоизвестно. Привожу его полностью.Тетя Вера моя уже умерла. Она завещала мне альбом с фотографиями. Фотография Самуила Матвеевича сейчас передо мною. И вправду есть общие черты. Мое стихотворение «Крещение. Солнце играет…» печаталось, по просьбе тети Веры, без окончания. Она боялась, что упоминание в стихах ее погибшего в тридцать седьмом году мужа причинит ей неприятности на работе. Вот окончание стихотворения:
К началу весны, к концу марта, к апрелю на Центральном всегда набиралось 3–4 тысячи измученных работою (четырнадцать часов под землей) заключенных. Набирались они и в соседних зонах, в соседних рудниках. Таких ослабевших, но еще способных в перспективе к работе отправляли в лагерь на Дизельную — немного прийти в норму. Весною 1952 года попал на Дизельную и я. Отсюда, с Дизельной, я могу спокойней, не торопясь, описать поселок, а точнее, пожалуй, город Бутугычаг, ибо населения в нем было в это время никак не менее 50 тысяч. Бутугычаг был обозначен на всесоюзной карте. Весною 1952 года Бутугычаг состоял из четырех (а если считать «Вакханку», то из пяти) крупных лагпунктов. О Центральном я уже немного говорил. Расскажу о других. Над Центральным высоко вверх вздымалась конусовидная, но округлая, не острая и не скалистая сопка. На крутом (45–50 градусов) ее склоне был устроен бремсберг, рельсовая дорога, по которой вверх и вниз двигались две колесные платформы. Их тянули тросы, вращаемые сильной лебедкой, установленной и укрепленной на специально вырубленной в граните площадке. Площадка эта находилась примерно в трех четвертях расстояния от подножия до вершины. Бремсберг был построен в середине 30-х годов. Он, несомненно, и сейчас может служить ориентиром для путешественника, даже если рельсы сняты, ибо подошва, на которой укреплялись шпалы бремсберга, представляла собой неглубокую, но все же заметную выемку на склоне сопки. Назовем эту сопку для простоты сопкой Бремсберга, хотя на геологических планах она имеет, вероятно, иное название или номер. Чтобы с Центрального увидеть весь бремсберг и вершину сопки, надо было высоко задирать голову. С Дизельной наблюдать было удобнее («большое видится на расстоянье»). От верхней площадки бремсберга горизонтальной ниточкой по склону сопки, длинной, примыкающей к сопке Бремсберга, шла вправо узкоколейная дорога к лагерю «Сопка» и его предприятию «Горняк». Якутское название места, где был расположен лагерь и рудник «Горняк», — Шайтан. Это было наиболее «древнее» и самое высокое над уровнем моря горное предприятие Бутугычага. Там добывали касситерит, оловянный камень (до 79 процентов олова). Лагерь «Сопка» был, несомненно, самым страшным по метеорологическим условиям. Кроме того, там не было воды. И вода туда доставлялась, как многие грузы, по бремсбергу и узкоколейке, а зимой добывалась из снега. Но там и снега-то почти не было, его сдувало ветром. Этапы на «Сопку» следовали пешеходной дорогой по распадку и — выше — по людской тропе. Это был очень тяжелый подъем. Касситерит с рудника «Горняк» везли в вагонетках по узкоколейке, затем перегружали на платформы бремсберга. Этапы с «Сопки» были чрезвычайно редки.
ДИЗЕЛЬНАЯ
Этот ОЛП имел, конечно, как и Центральный, и «Сопка», и Коцуган, свой номер, но номера никто не помнил. Называли — Дизельная. Свое название этот лагерь получил от дизельной электростанции, построенной здесь в 30-х годах. Позднее Бутугычаг стал снабжаться электроэнергией от мощной ТЭЦ. Линии электропередачи в пустынных горах велись местами без стальных опор. Опоры складывали из дикого камня на хребтах сопок. На одной из фотографий, присланных мне в 1985-м году секретарем Тенькинского райкома КПСС Тамарой Филимоновной Гулько, видна такая невысокая опора, видны развалины поселка, бараков, колючая проволока. Когда пришел ток от большой ТЭЦ, дизели и электрические машины увезли, а огромное деревянное здание дизельной приспособили под двухэтажное жилье для заключенных. Построили из камня столовую, БУР, из дерева — баню. К слову сказать, воды на Дизельной тоже не хватало. Во время банных дней каждому заключенному давали маленький ломтик мыла и большую кружку теплой воды. Как быть? Сливали человек пять-шесть свои кружки в одну шайку и этой водой обходились — и намыливались и обмывались. Все пять-шесть человек. Вот так-то. На «Сопке» с водой дело обстояло еще хуже. Работяги приходили из шахты все в пыли, а воды в умывальниках не было. Растопленного снега хватало только для баланды и питья. Рассказывали смешной случай. Работяги требовали с дневального воду, и люто: — Где хочешь бери, но чтоб вода была. — Да где ж я вам возьму воды?! Нарисую, что ли?! — А ты хоть нарисуй и скажи — нашел. Но чтоб была вода! — Ну, ладно, — отвечал дневальный, — будет вам воды от пуза. На следующий день ввалились запыленные работяги в барак и ахнули: на грязно белой барачной стене нарисовано море с волнами (как обычно дети рисуют), по волнам плывут корабли, и на берегу растут пальмы. А для большего эффекта внизу было написано углем: «Вода!» Если смотреть с Дизельной (или с Центрального) на сопку Бремсберга, то левее ее была глубокая седловина, затем сравнительно небольшая сопка, левее которой находилось кладбище. Через эту седловину плохая дорога вела к единственному на Бутугычаге женскому ОЛПу. Он назывался… «Вакханка». Но это название тому месту дали еще геологи-изыскатели. Работа у несчастных женщин в этом лагере была такая же, как и у нас: горная, тяжелая. И название, хоть и не специально было придумано (кто знал, что там будет женский каторжный лагерь?!), отдавало садизмом. Женщин с «Вакханки» мы видели очень редко — когда проводили их этапом по дороге. Опишу Дизельную. За зданием бывшей дизельной тянулась широкая, но быстро сужающаяся к сопкам долина. В глубине ее было главное устье рудника № 1-бис. Над устьем рудника, над подъездными путями, конторами, инструменталками, ламповыми, бурпехом возвышалась огромная гора. В ней-то, внутри ее, и располагался рудник № 1-бис, на котором работали заключенные с Дизельной. Называли его просто «Бис». Рудную жилу там разведывали и разрабатывали в основном ту же самую, что и на руднике № 1, — девятую. Я еще в самом начале своего подневольного горняцкого пути с большим интересом вникал в горное дело и знаю довольно много из этой отрасли человеческой деятельности. Но, право, не знаю, сколь подробно нужно рассказывать об этом читателю. Подъемные машины были не мощные. Пределом, предельной глубиной спуска-подъема бутугычагских подъемных машин было 240 метров — и по мощности мотора, и по барабану, и по длине тросов. Горизонты на Бутугычаге были глубиною по 40 метров. Жи́ла (горняки говорят жила́) — это, просто говоря, трещина земной коры (вертикальная или под большим углом), заполненная минеральным телом. Квершлаг — поперечная горная выработка, широкий коридор, ориентированный перпендикулярно к жиле. Когда после очередного отпала жила обнажалась, вправо и влево от квершлага зарезались штреки — по жиле. И если квершлаги в гранитной толще, особенно давние, вполне могли обходиться без крепления (действовал так называемый свод естественного равновесия), то штреки надо было прочно крепить. Над головою была жила, то есть прежде всего рыхлая окисленная зона добывавшегося минерала. Когда штрек пробивали (крепился он сразу же после каждого отпала), устраивали над ним блок: делали люки в потолке и снизу вверх, наращивая колодцы люков, выбирали содержимое блока. Мощность жил бывала порою невелика, поэтому приходилось, как и в квершлагах, проходить выработку взрывным способом: бурить шпуры, заряжать их шашками аммонита со шнурами, соединять шнуры, запыжовывать шпуры, палить и т. д. Это один из общеизвестных способов подземных работ.Месяц-полтора доходяги, прибывшие с Центрального на Дизельную, не работали, но кормили их сносно. Это делалось для сохранения, точнее — для временного сохранения рабочей силы. Ибо комплекс Бутугычага был рассчитан в конце концов на постепенную гибель всех заключенных — от дистрофии и цинги, от самых разных болезней. Передышка от работы частично восстанавливала силы. На Дизельной, как и на Центральном, была небольшая библиотека, были газеты. Более всего экземпляров газет, далеко не свежих, разумеется, было, согласно национальному составу спецконтингента заключенных, на украинском и на литовском языках. Были и центральные газеты, и, конечно, «Советская Колыма», выходившая в Магадане. Там часто печатались стихи некоего не известного мне до тех пор поэта Петра Нехфедова. Он обладал удивительной плодовитостью, и был в его стихах своеобразный садизм, вполне сознательный. Главная его тема была всегда одна: «Спасибо дорогому товарищу Сталину за счастливую жизнь горняков-колымчан». Выйдешь, бывало, из пыльной шахты, из ночной смены, а на витрине уже приклеен свежий номер «Советской Колымы». Я обычно первым делом отыскивал в газете стихи Петра Нехфедова и прицельно точно харкал на них густым, сочным черным плевком. Это стало неизменным ритуалом при каждой новой встрече со стихами этого поэта-садиста. На Дизельной я познакомился с Игорем Матросом. Он был уже знаменит тем, что палил на руднике № 1 забутовавшийся после взрыва восстающий забой. Забой был зарезан в девятой жиле и давал много руды, остро необходимой для плана. Чтобы понятно было, что такое восстающий забой, объясню, как объясняли украинцы (только русскими словами). Это колодец, вывернутый наизнанку. И вот в такой каменной, тянущейся вверх трубе завис целый отпал породы, руды с обломками бревен крепления, так называемых расстрелов. (Они упираются в противоположные стороны колодца. По ним взбираются вверх бурильщики, взрывники. После каждого взрыва и уборки руды выбитые и сломанные расстрелы восстанавливаются крепильщиками.) Отпал весом в десятки тонн завис высоко, метрах в 25—30 от лючка, от потолка штрека. Единственное средство в таких случаях — это попытка обвалить забутовку с помощью аммонитного фугаса, поднимаемого вверх на пяти-, шестиметровом шесте. Взорвали один, другой фугас — никакого результата. Лишь мелкие камешки посыпались. Сам начальник рудника присутствовал при этом. И когда стало ясно, что фугас надо прикрепить непосредственно к нависшему отпалу, начальник сказал: — По технике безопасности я не имею права посылать людей в этот восстающий забой. Но если найдется доброволец, пусть просит у меня все что угодно, кроме свободы. Игорь за свою жизнь попросил немного: две бутылки спирта, пять банок мясной тушенки, десять пачек махорки. И неделю отдыха. Начальник согласился с радостью. А Игорь сказал: — Если погибну при взрыве или обвале, то прошу передать цену моей жизни бригадиру и работягам моей бригады. Честное слово, начальник? — Честное слово. Игоря снарядили самой яркой лампой, десятью шашками аммонита, увязанными в прочную ткань, мотком бикфордова шнура. Фугас был снабжен тремя взрывателями (на случай отказа одного или двух) и стальными крючками для подвески. И Игорь полез вверх. Чуть поодаль от лючка стояли вольные взрывники, начальник рудника с горными мастерами. Начальник, еще когда Игоря снаряжали, сказал кому-то из них: — Позвоните в главную диспетчерскую, передайте мой приказ прекратить на час все взрывные работы. Игорю, по его рассказу, очень мешала стальная лесенка из троса, оставленная взрывником. Она уходила в глубь нависшей громады камней и бревен. Любое неосторожное прикосновение к ней могло вызвать обвал. Осторожно, минут за двадцать, Игорь, вскарабкавшись по расстрелам и уступам камня, поднялся под самую нависшую над ним смерть. Хорошо привязал к бревну проволокой фугас, прихватил к верхнему расстрелу шнур, чтоб он не висел на фугасе, и осторожно стравил шнур вниз. — Глядите — шнур! — сказал кто-то. — Сейчас он начнет спускаться. — Тише!.. Стоявшие под блоком откатчики (западные украинцы) перекрестились. Они были из бригады Игоря и все время, пока он не вылез из лючка, шептали молитвы. Когда Игорь мягко спрыгнул в штрек и расправил шнур, к нему подошел начальник рудника. — Как вас зовут? — Игорь, гражданин начальник. — Спасибо, Игорь! А кем вы были на воле, сколько вам лет? — Матрос первой статьи, двадцать два года. — Вот, товарищи, на что способны советские моряки! Всем в квершлаг! Палите, Игорь. Вот спички! Взрыв был не холостой. Многотонно хряснуло камнями и рудою так, что сорвало лючок и посыпалось на дорогу в штрек, обрушило часть крепления возле забоя. Как был рад начальник рудника! Слов нету передать. Он спросил у Игоря: — По какой вы и на сколько? — 58–10. 25 лет. — Да, понятно, ведь вы служили в военно-морском флоте. Буду просить начальника Дальстроя ходатайствовать о вашем помиловании. — Спасибо, гражданин начальник. Вряд ли чего получится из этого, но спасибо. — Получится. Очень может быть, что получится. Какие-нибудь нужды у вас есть? О чем говорили — спирт и тому подобное, — это все вам в секцию принесут, об этом не беспокойтесь. Что-нибудь еще нужно вам? — Письма мои к матери не доходят. — Напишите письмо и передайте мне через любого гормастера, я лично из Магадана отправлю. Это письмо мать Игоря получила.
Я подружился с Игорем и еще с сибиряком Иваном Шадриным Он прошел всю волну, потом получил четвертак за месяц плена. Был он старше нас, лет тридцати пяти — сорока, и мы его признали за главного. Высокий, сильный, жилистый. И веселый. Так втроем мы и дружили — жрали вместе[27], спали рядом, работали в одной бригаде. А когда три человека дружат так, что головы друг за друга готовы отдать, — это уже большая сила. И в лагере троица наша была заметна, и плохие люди нас побаивались. Рассказал я товарищам-друзьям своим о своих бедах. Телогрейку мне сразу нашли — какую-то драную-предраную, но обменяли у каптера на складе на новую — износилась, мол, что поделать. Рассказал я и о своих мучителях на Центральном. На Протасевича зуб имели и Игорь, и Шадрин. Решили попроситься у нарядчика, чтоб перекинул нас троих опять на Центральный. А я уже физически хорошо окреп. Программа минимум — технически уработать в шахте Протасевича, программа максимум — замочить всех троих: Протасевича, Чернуху и Дзюбу. Апогеем нашей дружбы стал в эти дни почти невозможный на Колыме борщ. Сварил его прямо на плите в жилой секции Иван Шадрин. Случилось нам достать сразу банку мясной тушенки, полкочана капусты и головку чеснока. Замечательный получился борщ. До сих пор его помню. Через несколько дней пошел я к нарядчику. Вот, дескать, посылку получил, хочу угостить (это было вполне законно и прилично). Как бы мимоходом сказал, что у нас друзья остались на Центральном. Что если будет запрос на любых специалистов, то мы хорошо отблагодарим, если он перекинет нас троих туда. Нарядчик отнесся с пониманием. Дня через два нас троих — меня, Игоря и Ивана Шадрина — завернули с развода в барак. — Сидеть в секции, приготовиться с вещами. Мы воспрянули духом. Я взял полученные Игорем от матери кожаные с мехом перчатки (так было решено наградить нарядчика) и пошел в контору. Однако нарядчика не было, помощник сказал, что он за зоной. Это могло быть вполне вероятным, и я вернулся в барак. А там уже ждет надзиратель — давай на вахту. Нас не шмонали, быстро пропустили через проходную, сверив с фотографиями на наших формулярах. У ворот за вахтой стоял грузовик с двумя автоматчиками. — Залезай! Залезли. Невелик путь до Центрального — полтора километра, могли бы и пешком довести. Но раз уж подали машину — кто нам, как говорится, запретит роскошно жить? Шофер завел мотор. И машина покатила… налево и вниз, к Коцугану. Надул нарядчик, сучий потрох! Решил избавиться от нас. Мы медленно ехали мимо рудообогатительной фабрики. Ворота. Крытые крышей весы — платформа для взвешивания автомашин с рудой. Высокое серое от ветров и пыли деревянное сооружение дробильного цеха. Огромные деревянные чаны химического цеха. И примыкающее к ним нарядное кирпичное трехэтажное здание, только что выбеленное. Котельная. Затем — по ту сторону проволоки — жилая зона, белые-белые ветхие, столетние бараки. Машина повернула к вахте и остановилась. Начальник конвоя раскрыл один из формуляров и вызвал: — Жигулин!.. — Он же Раевский, 1930 года рождения! 58–10, первая часть, 58–11, 19-58-8! Особое Совещание! Десять лет! — Вылезай! Проходи! Я выпрыгнул из кузова, подошел к уже открытой проходной и оглянулся. В эту секунду солдат гаркнул на привставших в машине моих друзей: — Сидеть! Дальше поедем!.. И оборвалось сердце. Ах, гад нарядчик! Продал, заложил. Доложил начальству о нашем стремлении на Центральный. — А куда остальных, начальник? — Не твое дело!.. — Прощай, Игорь! Прощай, Иван! — Прощай, Толик!.. — Молчать!!! Я был уже в зоне и старался увидеть, куда пойдет машина. Машина пошла вниз, к Усть-Омчугу. Там, вроде, не было уже бутугычагских лагпунктов. Может, я чего-то не знаю?… Рудообогатительная фабрика — страшное, гробовое место. Я понемногу расскажу о ней. Вспомнилось опять время на Центральном, когда я был очень слаб и болен, а меня избивали Протасевич, Чернуха, Дзюба. Мне очень хотелось поправиться, чтобы убить хотя бы Протасевича. Но чтобы поправиться, надо было хорошо есть. И я таскал на кухню мешки с мукой. Мешки были по семьдесят килограммов, а во мне самом было не более пятидесяти пяти — так я был худ и измучен. Особенно тяжело было подниматься на крыльцо по каменным обледенелым ступенькам — прямо бросало из стороны в сторону. Если бы я упал — разбился бы насмерть. Но я ни разу не упал. Откуда только силы брались. Силы брались от мысли, что после работы мне дадут высокую жестяную миску, полную гороховой каши, и большой кусок хлеба. И я буду есть, и во мне возникнет сила, и я убью своего мучителя… На Коцугане я познакомился со студентом из Киева Славкой Янковским (тоже антисталинская подпольная студенческая организация — 4 человека), а также с двумя еврейскими писателями: Натаном Михайловичем Лурье из Одессы и Яковом Иосифовичем Якиром из Молдавии. Начальником КВЧ (культурно-воспитательной части) был на Коцугане совсем молодой лейтенант, литовец. Видно, только что окончил училище и попал в эту черную дыру, где томились, страдали и погибали его земляки. На Коцугане было много литовцев, но когда они обращались к лейтенанту по-литовски, он отвечал им по-русски. Боялся, что донесут, выдумают что-нибудь нехорошее. Однажды из управления Дальстроя прислали очередной трудовой лозунг: «Горняки! Честный труд — путь к досрочному освобождению!» Но у нас была не шахта, а рудообогатительная фабрика. И лейтенант, еще не в совершенстве владевший русским языком, приказал писать лозунги с изменением: «Фабриканты! Честный труд — путь к досрочному освобождению!» Кто-то пытался объяснить молодому начальнику КВЧ, что слово «фабрикант» не совсем подходящее, но недели две эти смешные лозунги красовались на стенах бараков и на фасаде рудообогатительной фабрики. Я забыл рассказать, как своеобразно я познакомился на Коцугане с Я. И. Якиром. После вечерней поверки, а было еще светло, я остался на линейке и стал рассматривать весь видный отсюда бедный, чисто побеленный лагерь. Ко мне подошел пожилой человек и подал руку: — Яков Иосифович Якир, писатель из Молдавии. — Анатолий Жигулин-Раевский, студент из Воронежа. — Я очень рад, что вы к нам прибыли! Нас теперь здесь будет четверо: я, писатель Ноте Лурье, сапожник Арон Ваксмахер и вы! — Я вас не совсем понимаю, кого нас? — Но ведь вы же семит. — Нет, я не еврей. — Но позвольте, такие глаза, такое лицо? Извините, если я ошибся. — Ничего, пожалуйста. Будем друзьями независимо от национальности. И мы вправду потом подружились и с ним, и с Ноте Лурье (он был осужден по делу Переца Маркиша). А сапожника помню смутно. Видно, была на мне прочная обувь. Еще один примечательный человек встречался мне и на Коцугане, и на Дизельной. Олег Троянчук из Харькова. Нас сближало то, что мы оба писали стихи. Олег, кажется, уже окончил университет. Был он чуть старше меня, с двадцать седьмого года. Говорил, что попал в лагерь за то, что был переводчиком у немцев. Сейчас я полагаю (да, собственно говоря, и тогда так думал), что это была его легенда для самозащиты от бандеровцев-антисемитов. Олег был похож на еврея и картавил. Очень дружен он был, как и я, с Натаном Лурье. Мы читали с Олегом друг другу стихи. Он был поклонником декадентов. Вот некоторые его строки:
Раз на зимнем разводе два босяка (вора), случайно выпущенные из БУРа, «запороли» на моих глазах нарядчика Купу. Он ходил со своею луженою трубою-рупором — вызывал на развод бригады. Мы выходили в конце. Из барака я услышал странные звуки — радостную ругань и смертные крики. Я выбежал и увидел вдали: стоит, качаясь равномерно, высокий Купа, а два человека пониже ростом, в легкой одежде, вбивают в Купу пики, один — в грудь и в живот, другой — в спину, передавая уже полуживое тело друг другу, с пики на пику. Скоро Купа уже лежал в большой луже мгновенно замерзавшей крови, тут же куски ваты из щегольского бушлата Купы. Шел легкий снег. И ложился на лицо Купы. И не таял. И валялась на снегу луженая Купина труба. И равнодушно смотрела на все происходящее сопка Бремсберга.
КЛАДБИЩЕ В БУТУГЫЧАГЕ
Я — последний поэт сталинской Колымы. Если я не расскажу — никто уже не расскажет. Если я не напишу — никто уже не напишет. Я с самого детства, лишь закрою глаза и прижму пальцами веки — вижу два небольших золотых озерца или самородка. Слева совсем маленькое, справа — раза в полтора-два больше. Что это? Не знаю. Предсказание и знак Колымы? Знак Бутугычага? Но на Бутугычаге добывали не золото, а серебро. Кто опишет после моей смерти кладбище в Бутугычаге? Кладбище это — вечный мавзолей, созданный природой и людьми. И никак его не разрушить. Сжечь нельзя — гореть нечему. Как сказано в Энциклопедии географических названий о верхних отрогах хребта Черского, это горная страна, переходящая в горную тундру и заполярную каменистую пустыню. Вот там оно и расположено, это кладбище. А бедный лес — он гораздо ниже, в долинах и распадах, — был почти начисто сведен еще в 30-х годах. А там лиственница полутораметровой высоты и толщины у пня такой, что пальцами можно обхватить, растет около ста лет. И вывезти это кладбище нельзя — египетская работа, и дорог нет, и высота над уровнем моря около 3000 метров. Широкая, покатая седловина между сопками, левее Центрального лагпункта. Там и находится кладбище (или, как его часто называли, Аммоналовка — в той стороне был когда-то аммональный склад). Неровное плоскогорье. И все оно покрыто аккуратными, ровными, насколько позволяет рельеф местности, рядами едва заметных продолговатых каменных бугорков. И над каждым бугорком, на крепком, довольно большом деревянном колышке — обязательная жестяная табличка с выбитым дырчатым номером. И если поблизости хорошо заметны могильные возвышения (порою и даже часто это просто деревянные гробы, поставленные на чуть-чуть расчищенную каменистую осыпь и обложенные камнями; верхняя крышка гроба часто полностью или частично видна), то далее они сливаются с синевато-серыми камнями, и уже не видны таблички, а лишь кое-где колышки. И лежат на этом номерном кладбище многие мученики. Сколько их? Никто не считал. Природа создала идеальные условия для, можно сказать, вечного сохранения и тел, и могил. Там, где гробы случайно повреждены, видно, что тела погибших высохли, задубели на почти постоянном сухом морозе. (Зимою температура держится здесь ниже 70 градусов по два с половиною — три месяца). Лето очень короткое и тоже сухое и холодное. Сохранность трупов такая, что позволяет различить черты лица. Я это видел сам, когда был там. Об этом же говорят в письмах знакомые магаданские поэты, краеведы, геологи, журналисты. По номерам на табличках можно в соответствующих архивах легко найти личные дела погребенных, узнать их имена. Работа в любой шахте вредна. А в мокрых иди пыльных рудниках при плохом питании — тем более. Особенно ручная откатка руды вагонетками из-под блоков по штрекам. Если штрек мокрый, то невыносимо влажно. И не помогают ни резиновая роба, ни резиновые сапоги. Едкий туман стоит в штреке, видимость плохая, с бревен крепления капает, а порой и струится вода. Вода плещется и на путях под ногами. В сухом штреке — мелкая, как пудра, удушающая рудная пыль. Кашель до кровохарканья. После отпалов, пока потолок штрека еще не закреплен, ясно было видно в граните рудное тело. Сама жила — тонкая, черно-коричневая — в несколько сантиметров, порою даже в палец толщиною, порою и вовсе незаметная. Но по обе стороны жилы на метр-полтора, по-разному — окисленная зона. По цвету — от серо-голубых до ржаво-охристых тонов. Руда и грунт окисленной зоны мягкие, их легко было грузить совковой лопатой со стального листа. А катали мы вагонетку с Володей Филиным (я уже писал об этом). Мы старались избежать штреков, просились в квершлаг. Там тоже пыльно от работы бурильных молотков. И грунт самый твердый и тяжелый — чистый гранит. Но зато — гранит! Чистый! Чтобы не идти работать в штреки и на блоки (ведь не сам решал, а бригадиры назначали место работы), я отказывался от работы вообще, за что месяцами сидел в холодном БУРе на 300 граммах хлеба и воде. Я соглашался вместо теплой шахты работать зимою на поверхности. Жестоко обмораживался, попадал в лазарет. Знал, что с моими легкими при работе в штреке неизбежно погибну. Рудообогатительная фабрика тоже была, что называется, вредным производством. В дробильном цехе та же, но еще более мелкая пыль. И химический, и прессовый цехи, и сушилка (сушильные печи для обогащенной руды) были чрезвычайно опасны едкими вредоносными испарениями. В последнее время мне особенно часто снится Бутугычаг, рудник, рудообогатительная фабрика, сушилка… Большие длинные печи, большие стальные противни. Работа в сушилке была очень легкая — слегка помешивать кочережками концентрат, высыхающую, прошедшую дробильный, химический и прессовый цехи массу, почти чистую смесь окислов добываемого металла, — пока не высохнет. И рабочая смена всего шесть часов. На эту работу с удовольствием шли молодые западноукраинские парни. (Наверное, потому в этих снах я думаю по-украински.) Чем вкалывать четырнадцать часов в мокрой или пыльной шахте, бурить шпуры или надрываться над вагонетками с рудою — почему не пойти в сушилку? Тепло. И кормят лучше. Даже молоко дают. Я в сушильном цехе был всего однажды — быстро, почти бегом прошел через цех с прессами, мимо сушильных печей. Мы таскали на первом этаже пеки — выжимки из прессов, — и меня послали наверх узнать, почему случился перебой. Много лет спустя я был с писательской делегацией на подобной фабрике для обогащения металлической руды. Кажется, вольфрамовой. Многое похоже. Но работают там в специальных респираторах. И вообще — техника безопасности, охрана труда. А на Бутугычаге не было никакой охраны труда. Естественная логика того времени — зачем смертникам охрана труда?…[28] Ребята у сушильных печей работали легко и весело — двадцать-тридцать смен по шесть часов. Потом их, здоровых и отдохнувших, отправляли тем не менее в так называемые лечебные бараки. В них собирались со всего Бутугычага доходяги — больные дистрофией, цингой, пеллагрой, гипертонией (от сравнительно большой высоты над уровнем моря), силикозом и бог знает какими еще болезнями. Смертность в Бутугычаге была очень высокая. В «лечебной» спецзоне (точнее назвать ее предсмертной) люди умирали ежедневно. Равнодушный вахтер сверял номер личного дела с номером уже готовой таблички, трижды прокалывал покойнику грудь специальной стальной пикой, втыкал ее в грязно-гнойный снег возле вахты и выпускал умершего на волю… Я проснулся сегодня рано утром в каком-то полусне или полубреду. Жена сказала, что я во сне отвечал на ее вопросы. Мне опять снился Бутугычаг. Там, ниже кладбища, в южных распадках и на южных склонах еще кое-где растет кедровый стланик и живут бурундуки. Часто души умерших олицетворяют в образах птиц. Но на Бутугычаге птиц нет. Наверное, души погибших на Бутугычаге в каком-то смысле олицетворяются в бурундуках. И наверное, поэтому эти милые зверьки так прекрасны, печальны, кротки, очень доверчивы и несчастны. В 1961 году я написал стихотворение «Кладбище в Заполярье». Им я и закончу эту главу.ПОСЫЛКА ЭДИДОВИЧА
Мои колымские стихи, опубликованные в книгах и ходящие еще и в рукописях, приносят мне довольно большую почту. Кто-то из читателей, владеющих пером, написал даже так:«В Магадане 10.XII.1976. Анатолий Владимирович, мучаюсь — не бестактно ли посылать Вам эту бандероль, трогать раны… Но ездил на Бутугычаг и смотрел на постройки, на сползающую из горловины зеленую ледяную лаву, на частокол полусгнивших столбиков сквозь Ваши строки… У меня все Ваши сборники… Вас очень любят у нас, и работу Вашу ценят. Дай Вам Бог здоровья и удачи счастливо продолжать ее. Столбик и камень из Бутугычага. Я дерева или древка не вытаскивал из земли. Он лежал в выбросе, свежем выбросе… Спутники предполагают — медведь копался… Рядом ссохшаяся, коричневая кисть человеческая… Из штрека санки торчат. Веревка, в которую впрягались… В столовой стены сохранились, потолок — небо. В столовой по верхнему бордюру, что ли, синие цветочки и орнамент… Трудно описывать, даже постороннему трудно. Спасибо за Вашу работу. Простите мое незваное письмо. Просто сегодня днем говорили о Вас, дома еще раз перечитал „Полярные цветы“, и захотелось что-нибудь для Вас сделать… А вот сделал ли — вопрос… Не судите строго. Если у Вас будут поручения, нужды, связанные с нашей землей, с удовольствием выполню… Мих. Эдидович».Нам от этой посылки, от этого «сувенира» стало нехорошо. Мы буквально не могли найти себе места. Пахнуло могильным черным холодом. И я почувствовал, что словно бы опускаюсь в страшное прошлое. Жена это поняла. Мысль ее лихорадочно заработала: как избавиться от этого могильного знака? Выбросить — и грешно, и как-то нехорошо, кощунство по отношению к покойнику. Отнести на какое-либо кладбище и там на символическом холмике установить этот знак — тоже нельзя — это фальсификация. Да и уничтожат там этот знак как мусор при очередной уборке. Спасительная мысль пришла мне. Вот что я написал М. Эдидовичу (цитирую полностью по сохранившемуся черновику, кроме абзаца, относящегося к его стихам).
«25 декабря 1976 года Москва Михаил Давидович! Спасибо Вам за книгу и письмо! Спасибо за кусок породы из рудника, на котором я когда-то работал. Это — реалия суровой, но неизбежной и необходимой памяти о Бутугычаге… В своем письме Вы совершенно верно предположили, „…не бестактно ли посылать“ столбик с „дощечкой номерной“ с Бутугычагского погоста. Конечно, не только посылать мне, но и вообще брать эту горестную мету с кладбища не следовало бы. Ведь этот колышек с номером — какое ни есть, а надгробие (как крест, как обелиск и т. д.). Надгробие же — это часть могилы, то, что принадлежит погребенному в ней человеку. И вовсе не оправдание в том, что это, как Вы пишете, был свежий раскоп, что Вы не выдергивали колышек, а лишь взяли его. Брать что-либо с могилы, тем более надгробие (да еще в качестве „сувенира“) — тяжкий грех по всем — и религиозным, и общечеловеческим — моральным нормам. Вы как поэт это особенно хорошо должны знать. Вам и Вашим спутникам надо было по мере возможности забросать камнями раскоп, укрепить над ним колышек. Поэтому возвращаю Вам надгробие (простите, но поступить иначе я не могу). Возвращаю с просьбой: при первой же возможности отвезите эту „дощечку номерную“ на Бутугычагское кладбище, на то место, где она лежала. Могу еще добавить (хотя это вовсе не главное), что человека Г-13 я знал и работал с ним в одной бригаде. Анатолий Жигулин».Третьего января 1977 года я получил телеграмму:
«Спасибо урок подобное не повторю более того исправлю первой возможности Простите =Эдидович=».Летом 1977 года М. Эдидович прислал мне письмо с рассказом о том, что ездил на Бутугычагский погост, зарыл могилу и прочно укрепил над нею знак Г-13 и даже колышек подгнивший заменил свежим (это он приготовил еще в Магадане — новый крепкий колышек). Теперь можно сказать несколько слов о человеке с номером Г-13. Я познакомился с ним еще в 1950 году на лесоповальной и железнодорожной колонии 031-й Озерного лагеря. Он был из западников — дюжий, высокий и жилистый мужик лет сорока. Меня он потряс тем, что забивал в шпалу костыль для крепления рельса одним ударом молотка. Сначала он лишь ставил костыль на нужное место и в нужном положении. Затем — разворотное движение руки с молотком — от земли над головою и вниз к костылю, и — удар! Из других бригад приходили любоваться работой Ивана Дядюры. Фамилия у него была на мой тогдашний вкус весьма смешной: Дядюра. Поэтому в своем стихотворении «Костыли» (1960), говоря об этом человеке и оставив его имя, я выдумал ему фамилию: Бутырин. А нынче, пожалуй, верну ему фамилию настоящую:
ПОБЕГ
Памяти Ивана, Игоря, Феди«Черные камни». Это был довольно большой лагерь. По дороге, сбегавшей вниз, вдоль реки, по долине, было к нему от основных рудников Бутугычага километров шесть-восемь. Здесь, у «Черных камней», впервые, если спускаться дорогою вниз, кончалась справа почти сплошная стена очень крутых, обрывистых каменных сопок и открывалась сравнительно широкая долина. Это был большой раздол. Здесь было зелено, особенно летом. Однако и зимою на склонах округлых сопок зеленел кедровый стланик. Не везде, но большими куртинами. И было много бурундуков. Зоны лагеря «Черные камни» располагались в долине слева от главной дороги. Здесь журчал на перекатах широкий Черный ручей, сливающийся ниже с речкой Шайтанкой. Когда я какой-то весною или летом впервые оказался в этом месте, я был потрясен огромным количеством цветов. Обе долины и частично склоны сопок были до самого горизонта розоватыми от сиренево-фиолетовых цветов иван-чая. Это впечатление легло в основу моего стихотворения «Полярные цветы». Я сначала из кузова машины не мог определить, что это за цветы. Но когда мы высадились, я сразу узнал знакомый с детства кипрей, или иван-чай (Epilobium angustifolium). Правда, был он мельче российского, и, возможно, второе (видовое) латинское название я написал неверно. Возможно, что это какой-то иной вид кипрея. Привезли нас на это место, в долины иван-чая, на заготовку дров. Здесь — в долинах и по склонам — когда-то была тайга, был лес, сведенный на топливо, на строительство и рудничную стойку еще в тридцатых годах. Поэт Валентин Португалов валил здесь году в тридцать седьмом невысокую колымскую лиственницу, а к моему времени (1952-1953 годы) от тайги здесь сохранились лишь одни пни. Высохшие и смолистые, они были прекрасным топливом. Пни легко выходили из сыпучей каменистой гальки на склонах сопок или из трухлявой торфяной и рассыпчатой наносной земли в долинах. Стоило только слегка подважить, то есть поднять вагою, как пень вместе с сухими своими корнями выходил наружу, как деревянный осьминог. Иногда из-под него выскакивал рыжий бурундучок. Пни грузили на машину, а уже в лагере их распиливали другие работяги. Я работал в бригаде по заготовке пней месяца два, это было вольготное время моей колымской жизни — короткое колымское лето, солнце, теплая шуршащая осыпь окатанных камней, кедровый стланик, брусника, бурундуки… По мере корчевки пней места работы менялись. Пни лиственниц обнаруживались порою и довольно высоко на южных склонах, и даже на лбах отдельных сопок. Благодаря этому я хорошо изучил местность вокруг «Черных камней» — расположение дорог, долин, распадков, ручьев, тропинок. А главное — хорошо выяснил зеленые густые места по распадкам и ручьям со стлаником, молодым подростом лиственницы, ивой, мелкой березой, травою. Места, где можно было незаметно укрыться весною и летом. Наметился ясный путь обхода поселка Усть-Омчуг, главного препятствия, мешавшего уходу вниз, в густую, живую, непроходимую и неодолимую, но свободную тайгу! Побег с Колымы невозможен. Имеется в виду побег с концами, то есть побег, при котором беглецы оказываются не пойманными или не убитыми при попытке уйти на чистую волю. В нашем случае надо было идти тайгой и болотами многие тысячи километров до Якутска или до Транссибирской магистрали. А порядок был таков. При поимке беглецов они, живые или мертвые (порою даже обнаруженные в тайге их скелеты), обязательно должны были быть привезены, возвращены в тот лагерь, откуда бежали. Живых судили, давали 25 лет. Мертвые долгие дни, недели и даже месяцы лежали возле проходной у главных ворот лагеря с табличками-плакатиками. Например, такими: «Иванов Иван Сергеевич, 1920 года рождения, № А-2-549. Осужден по ст. 58-1-б на 25 лет. Бежал 6.V.49 г. Пойман 10.Х.1951 г. Застрелен при оказании сопротивления». Добраться до материка было нельзя. Но бежать и жить в глухой тайге охотой или разбоем было можно. Вертолетов тогда еще не было. Но для жизни в тайге надо было бежать с захватом оружия — винтовок или автоматов. Винтовка предпочтительнее для охоты на зверя, автомат — для защиты от солдат и местных охотников, которые, польстившись на щедрые дары Дальстроя: деньги, оружие, порох, дробь, спирт, продукты, — при случае ловили беглецов. Один такой охотник по иронии судьбы попал в лагерь, на рудник имени Белова. И здесь его опознал пойманный им Андрей Бехтерин, бежавший за два года до этого из СВИТЛа. После суда (58–14 — саботаж) Андрей получил 25 лет вместо своей десятки и попал уже не в СВИТЛ, а в Берлаг. Андрей жестоко отомстил ему. Летом 1953 года этот бывший охотник, бесконвойный взрывник Петька, по кличке Петька-стукач, был «технически уработан». На руднике имени Белова добывали рудное золото. Мощных подъемных машин не было, были лебедки ЛШ-600, поднимавшие около трех тонн руды или породы с глубины около 80 метров. В шахте было четыре горизонта по 80 метров каждый. Поэтому и руда, и порода поднимались на-гора ступенчато, с перегрузкой на промежуточных горизонтах. На каждом горизонте стояла своя подъемная лебедка. Подъемных машин для людей не было. И людям официально полагалось спускаться на четвертый горизонт (320 метров глубины) по людским ходкам — узким, гнилым, шатким деревянным лестницам, устроенным в тех же шахтах, по которым ходил скип — стальной короб для руды, — только сбоку. Чтобы спуститься по людскому ходку на четвертый горизонт, нужно было два часа, чтобы подняться — три. С молчаливого согласия начальства людей и опускали, и поднимали на скипах. Человек восемь становились на верхние края скипа, держась за трос. Я работал машинистом-лебедчиком на втором горизонте и однажды в конце смены, когда все люди были уже подняты, ждал взрывника. Петька-стукач появился, встал на край скипа. Я начал спускать его на моторе — так надежнее, тормоз — деревянный рычаг, упирающийся в муфты сцепления электромотора с механизмом лебедки, — был весьма ненадежен, при спуске тяжелого груза на тормозе (а это иногда приходилось делать, когда, например, отключалась электроэнергия) доска от трения начинала гореть. Взрывник, увешанный шнурами и аммонитными шашками, поехал вниз. В это время из штрека подошли ко мне Андрей Бехтерин и еще один, забыл его фамилию, имя только помню — Василий. Сказали грозно: — Отойди-ка, отдохни, мы сами немного поработаем. — Сопротивляться, увещевать их было абсолютно бесполезно… Андрей выключил мотор. Барабан лебедки бешено завертелся. Стальной трос начал разворачиваться молниеносно, взвиваясь порою, как пастуший кнут. Из шахты раздался душераздирающий, смертельный крик Петьки. Удар. И крик прекратился. Вася снял кожух лебедки, закрывавший несложную систему стальных шестерен. — Приложи-ка, Андрей, к большой шестерне этот горбыль, а я шибану по нему. С первого же удара кувалдой шестерня разлетелась. — Проверь, Андрей, хорошенько, чтоб ни единой крошечки дерева не осталось под кожухом и на шестернях. Проверили, слегка припылили место на обломке шестерни, где была приложена доска. — Все, теперь ни одна экспедиция не пришибется. Усталость металла. Надели кожух. Закурили. Потом поднялись, поехали на первый горизонт на скипе лебедки первого горизонта. Кувалду и доску взяли с собой. Я минут через десять позвонил наверх, доложил бугру о несчастном случае. Мне дали трое суток карцера за нарушение правил. Но через сутки выпустили на работу — был конец квартала, нужны были опытные машинисты-лебедчики. Я, однако же, отвлекся от «Черных камней». Почему так назывался лагерь? Было четыре черных скалы вдалеке за лагерем, на хребте пологой сопки. Четыре крупных камня. Один из них, крайний, — поменьше и со щербинкой. Наверное, из-за них и назвали. Лагерь был старый, бараки — ветхие. Были даже, как, впрочем, почти в каждом лагере, палатки — двойные, с дощатыми засыпными каркасами. Жилая зона была большая, примерно 600 на 800 метров. Располагалась она на пологом склоне сопки. Рабочая зона примыкала к жилой. Здесь было несколько штолен, был бурцех, инструментальный цех, ламповая, электроцех — все как полагается. Но работа велась вяло. Временами «Черные камни» вообще пустовали. Одно время в жилой зоне «Черных камней» была больничка. Но это до меня, не при мне. На «Черные камни» я попал в феврале 1953 года. Там я встретил давних друзей: Игоря Матроса и Ивана Шадрина. Когда меня оставили на Коцугане, а их повезли дальше, я еще не знал о «Черных камнях», а их повезли именно туда. Встретил я на «Черных камнях» и друга еще более давнего, Ивана Жука. С Иваном Жуковым — Жуком — я познакомился еще в августе 1951-го, когда на большой 035-й колонии Озерного лагеря формировался этап на Колыму. Колонну заключенных построили внутри зоны, чтобы вести на посадку в телячьи вагоны, и начальник конвоя звонко крикнул: — Беглецы — вперед! В первую шеренгу! Из разных мест строя вышли два человека и стали впереди первой шеренги — я и не знакомый мне человек, высокий, широкоплечий, ярко-голубоглазый, светловолосый, с медным нательным крестом в просвете распахнутой рубахи, лет на десять старше меня. Его назвали первым: — Жуков! — Я! Иван Степанович, 1919 года рождения… — Жуков. А еще? — Жуков. Он же Сидоров, он же Степаненко, он же Ковалев… — Хватит. Статьи?! — 58-8, 58–14, 59-3, 136… — Хватит. В наручники его! — Следующий! Как там тебя? — Жигулин Анатолий Владимирович! 1930 года рождения! Он же Раевский! 58–10, первая часть, 58–11, 19-58-8… — Откуда бежал? — С Тайшетской пересылки. — От нас не убежишь! В наручники его тоже!.. Мужик, — обратился он к кому-то из первой шеренги, — возьми его вещи! Мешочек мой — сидорочек — был уже невелик и легок. Когда заковали и замкнули нас в наручники, Иван Жуков повернулся ко мне светлым, добрым лицом и радостно сказал: — Привет, воришка! Я-то думал, что я один здесь. — Я не законник. Я честный битый фраер… — Восьмой пункт-то у тебя не фраерско́й. Да фраера и не бегают. Ты не бойся — я честный вор. Ты откуда сам-то?… — Из Воронежа. — А! Москва — Воронеж — шиш догонишь! А я москвич. С Марьиной рощи. Бывал в Москве? — На пересылке. На Краснопресненской… Раздалось: «Шагом марш!» Колонна тронулась. Шли недолго. Уже стоял наготове порожний состав с телячьими вагонами. К вагонам подводили группами, по счету — сколько должно уместиться в каждом. У двери вагона наручники с нас сняли — все полотно, весь состав — все было уже оцеплено. Иван Жук выбрал самое лучшее место — на верхних нарах возле решетчатого, но открытого окна. — Залезай сюда, Толик! Дорога долгая нам предстоит. Эх, жаль, гитары нету!.. …Пока плывет за окном искореженная, искромсанная, гниющая тайга, я кратко расскажу, как я стал беглецом. О первой истории я уже рассказывал. Когда нас, членов КПМ, спускали со второго этажа во Внутреннюю тюрьму УМГБ ВО, Аркадий Чижов испуганно спросил: — Что будем делать, Толич? — Я буду бежать из лагеря. — Молчать! Прекратить разговоры! И когда примерно через месяц Чижов «раскололся» настолько, что просто уже нечего было говорить следователю, он припомнил и эту мою фразу. Так появились в моем формуляре, в моем личном деле заключенного слова, написанные крупно красными чернилами: «Склонен к побегу». А из Тайшета, вернее, из зоны тайшетской пересылки, я действительно пытался бежать — смешно, почти по-детски. Однако и такие глупые побеги иногда удавались. Я решил рискнуть. Марта уже ушла, дня три как ушла. Ожидался и мужской этап. Однажды группу заключенных — двадцать два человека — вывели разгружать горбыль с высоких платформ, стоявших на путях прямо у ворот пересылки. Нас долго пересчитывали перед выводом — двадцать один или двадцать два. И я решил рискнуть. Шанс был очень мал, но он был реален. Просчет на одного человека — не очень редкое явление в лагерном мире. Когда кликнули: — Выходи строиться! На ужин! — я остался на одной из платформ, спрятался под горбыль, под доски. Меня никто и не искал. Но мне было слышно: — Кажется, двадцать два было? — А может, двадцать один? — Ладно, ты давай заводи, а мы на всякий случай просмотрим платформы. Эх! Если бы они не стали просматривать платформы! После наступления темноты я вылез бы и поехал на каком-нибудь товарняке в Россию. На мне еще не было лагерной формы, на мне был серый шевиотовый костюм, сшитый к 1 Мая 1949 года, модная в то время фуражка, скрывавшая отсутствие волос. Но меня нашли. Когда солдаты, кряхтя, залезли на платформу, я лег совсем открыто и захрапел, притворяясь спящим. — Вот он! — Неужели и вправду спит? — Хрен его знает. Притворяется, наверное. Тряхни его! Меня разбудили и весьма побили прикладами. Но я твердо стоял на своем — заснул, разморило. Мне вроде бы даже и поверили (судить не стали), но в моем формуляре появилась жирная, сделанная плакатным пером черта — по диагонали — из нижнего левого в правый верхний угол. Она обозначала побег. Меня посадили в БУР и даже не били. Оба солдата были рады случаю — за поимку беглеца получили отпуск домой. А меня вскоре отправили с этапом на станцию Чуна, на ДОК. Потом была страшная зима на 031-й. И вот почти через год — этап на Колыму. За окном теплушки уже плыли освоенные сибирские места. Помню ярко-синий сказочный Байкал, крепкие рубленые сибирские дома. Биробиджан, «штормовые ночи Спасска, волочаевские дни». Все — как в учебниках истории и географии. Переправа через Амур на пароме. Грязно-коричневые скалы и темно-серая волна. Порт Ванино — главная дальневосточная пересылка. Говорили, что временами на ней собиралось до 200 000 заключенных. Двадцать восемь, кажется, зон там было, это — только огневых, то есть простреливаемых. До Ванина ехали мы с Иваном весело. Он оказался страстным поклонником Есенина. А я, как я уже говорил, знал наизусть много стихотворений Есенина да и других поэтов, да еще и сам писал стихи. Бандит, осужденный за вооруженный грабеж, бежавший шесть раз, слушал «Москву кабацкую», глядя мне в рот, а в глазах его были слезы. В порту Ванино мы с Иваном попали в разные зоны. Я приплыл в Магадан на корабле «Минск». Грузовой. В трюмах шестиярусные деревянные нары. Пулеметы направлены прямо в душу. Шесть суток. Болтало порою сильно. Как и в телячьем вагоне — параша, но не одна, а много. Когда в телячьем вагоне параша переполнялась, оправлялись возле нее. А на пароходе — выливали парашу в море. Оно глухо ворочалось за стальной ржавой стеной. Шаткие, ведущие вверх трапы. По ним и тащили по многу раз в день параши. Они плескались. Однажды мне посчастливилось — я помогал нести эту огромную бочку и добрался до самого верха. Я увидел море — серое, свинцовое, с грязно-белыми барашками волн. И темные тучи у горизонта, и чайки… Вот и все, что запомнилось мне в краткий миг (на палубу меня не пустили, там были другие, более надежные, постоянные парашутисты, они и выливали парашу в море). Помнится еще, впрочем, морская пустынная палуба и опять пулеметы, пулеметы — шкассовские — на всех надстройках:
Месяца через три после моего выхода из БУРа, как-то вечером, когда мы чифирили в бараке с Косым и другими ребятами, прибежал шестерка от нарядчика: — Пан Косой! Пан нарядчик просил вам передать, что завтра утром вас и ваших друзей выдернут на этап, всего четырнадцать человек. — А куда? — На Центральный! Пан нарядчик, — это паренек сказал Косому на ухо, но я слышал, — просил передать, что шмонать вас не будут — ни здесь, ни там. — Ясно! — сказал Леха, когда паренек убежал. — Поедем на Центральный сук резать. Готовьте пики. Дело доброе — начальник разрешает. Наутро, еще до развода, нас посадили в зоне на машину. В передней части кузова, отделенной крепким деревянным щитом с гвоздями наверху, стояли два автоматчика. Автоматы направлены были на нас. Однако к таким перевозкам мы давным-давно привыкли. Нас действительно не шмонали, и у всех были хорошие пики. Семь-восемь километров — путь небольшой. Нас построили у вахты Центрального, передали наши дела дежурному. Тот сделал перекличку. Все правильно. Сквозь щели в воротах нам были слышны взволнованные голоса: — Гражданин начальник! Откуда этап? — С «Черных камней». — Кто? — Воры. — А конкретно? — Провоторов, он же Леха Косой. Студент Жигулин, он же Раевский. Он же с Иваном Жуком бежал. Стало быть, Беглец. Так я впервые услышал свою вторую лагерную кличку. У ворот нас тоже не шмонали, только приказали: — В БУР! Впереди нас, метрах в двухстах, к БУРу бегом бежали Протасевич, Дзюба и Чернуха с какой-то мелкой шушерой. Мы кинулись было вдогон, но часовой с проходной вышки заорал: — Стой! Стрелять буду!.. Пришлось остановиться минут на десять. Когда мы подошли к БУРу, суки уже сидели в одной из камер с решетчатой дверью под замком. Нас всех тоже поместили в большую, просторную камеру — наискосок от «сучьей». Леха Косой начал веселые переговоры: — Эй, Протасевич, Чернуха, Дзюба! Ночью начальник забудет закрыть замки на камерах. Резать вас будем. Толик-Беглец на вас большой зуб имеет. Вы меня поняли? — Поняли, — жалобно сказал Протасевич. — Попроси у него прощения. Может, он тебя простит. Протасевич, всхлипывая, начал просить прощения: — Толик! Прости, Христа ради. Век не забуду. Порежь, если хочешь, только жизни не лишай. Наша камера развеселилась. В соседней царила могильная тоска. Нам принесли жратву и целых три банки только что сваренного чифира — от нового нарядчика. Предыдущий (Купа) был зарезан во́рами зимою. (Я об этом уже рассказывал.) Принесший подозвал меня и передал маленький пакетик. — Это бугор Степанюк просил вам долг вернуть и спасибо сказать. Он брал у вас взаймы, но не смог рассчитаться — вас неожиданно выдернули на этап, а он с бригадой был в шахте. В кусок газеты были завернуты аккуратно сложенные в восемь раз две четвертные. Ни в какой долг я денег Степанюку не давал. Я дал ему когда-то лапу — одну четвертную. А теперь онузнал, что я могу оказаться в высшем воровском руководстве лагеря. Сообразительный мужик был этот Степанюк. Нашел способ. Всю ночь мы ждали открытия замков. Но — увы! — этого не произошло. Лагерное начальство почему-то отказалось от своего намерения. Утром нас, всех четырнадцать, ошмонали возле БУРа и отобрали пики. Затем погрузили в кузов машины и повезли на рудник имени Белова. Пейзажи были самые разные, но все — колымские. Ехали тихо.
Клятву, данную Феде Варламову, я выполнил летом 1957 года. Путь от железнодорожной станции к маленькому родному его городку Белогорску был недолог, не более получаса. Места эти с раннего детства были мне знакомы, отец часто брал меня в свои поездки по району по почтовым делам на тарантасе. Я не был в Белогорске двадцать лет. И ничего не изменилось. Только городок словно стал меньше. Так же, как и в раннем моем детстве, текла могучая река, и белели меловые горы, поросшие лесом и кустарником: сосна, дуб, рябина (уже краснеющая), бузина и еще бог весть какие кустарники и травы. У остановки я спросил Камышовую улицу. Юная девушка подробно по-украински объяснила мне путь. Камышовая улица, и дома на ней почти все с камышовыми крышами. За плетеными изгородями цвели высокие, чуть запыленные мальвы. Стены домов — кирпичные, саманные, деревянные — были, по местному обычаю, обмазаны глиной и чисто выбелены. Вот и калитка с цифрою пять. Я постучал, позвенел щеколдою. Из раскрытой двери раздалось по-русски: — Заходите, не заперто! И навстречу мне вышла высокая, красивая женщина лет уже за шестьдесят. Глаза ее, чистые и еще молодые, живые, прозрачные и глубокие, были глазами Феди Варламова. И лицом очень похожа была она на моего погибшего друга. Я сказал: — Здравствуйте, Мария Анисимовна! — Здравствуйте, не знаю, как величать. А откуда вы меня знаете? — Знаю я вас от дорогого друга моего Федора Варламова. Очень он на вас похож и лицом и глазами. — Так вы от Феденьки?! Где он? Что с ним случилось — пятый год ни одного письма! А раньше-то письма хоть по одному в год, но приходили! — И в глазах Марии Анисимовны заметалась тяжелая смертельная тревога и предчувствие. — Что, нету уже моего Феденьки, меньшенького моего родного сыночка? Я мог бы ничего не говорить. Ответ уже был в моих глазах. Но я никогда раньше подобные вести никому не сообщал. У меня у самого навернулись слезы, и я сказал: — Нету, нету уже Феденьки нашего дорогого, Мария Анисимовна. Мария Анисимовна зарыдала, померкла лицом. Но, как бы спохватившись, сказала сквозь слезы: — Да что ж мы тут стоим-то? Проходите в дом, проходите, пожалуйста. Я прошел в дом, в просторную белостенную горницу. Как в большинстве сельских русских домов, одну из стен украшала рамка с разными фотографиями под стеклом. На нескольких был Федя. Вот он с капитанскими погонами на плечах, веселый, белозубый, со звездою Героя Советского Союза на груди. — Вот он, Федя, — сказал я. — Да, это он, Феденька мой ненаглядный. За стеклом в рамке были также награды: два Георгиевских креста, орден Славы, какие-то медали. — Это не Федины награды. Кресты — отцовские, моего отца, за первую германскую войну. Раньше они запрещались, а сейчас можно. Орден Славы и медали моего мужа. Он в Воронеже в госпитале умер, товарищ, друг его привез. И еще два сына погибли. От них и наград не осталось. Только похоронки. В красном углу горела, теплилась лампадка перед иконою Богородицы. — Давайте сядем поговорим. Расскажите мне все про Федю, как вы там жили, в Хабаровском крае. Как, что случилось с ним. Все рассказывайте. Девушка лет двадцати накрыла стол белой скатертью («Это внучка моя от старшего сына, Катя»). — Помянем Феденьку по православному обычаю. И Мария Анисимовна достала из шкафчика и протерла полотенцем бутылку московской водки с зеленой этикеткой и белой сургучной головкой. Катя (не сама, а по приглашению Марии Анисимовны) присела к столу. Выпили, помянули, и я стал рассказывать, как хорошо было нам с Федей в Хабаровском крае, в Магадане. И работа была легкая, и харчи хорошие были Что умер Феденька от сердца. Стоял рядом со мною, схватился вдруг за грудь и умер. — Слава тебе, господи! Легкая смерть, — сказала Мария Анисимовна и перекрестилась. — А могилка-то его есть там, в Магадане-то? — Есть, конечно. Вот номер могилки. Можно легко найти. — И я написал Федин номер: «А-2-291» и дописал еще: «Бутугычаг». — А что значит буква «А»? — Аллея. Аллея вторая. — Кто ж хоронил-то его? — Друзья его хоронили, и я тоже. — А ухаживает ли кто-нибудь за могилками там? — Конечно. Специальные есть люди и сторож кладбища. — А травка или цветочки растут там? — Растут там и трава, и цветы. Маки. Я и березку там посадил. Там березы тоже растут, только чуть меньше наших, но тоже красивые. — А когда, какого числа и месяца он умер? Число и месяц я назвал правильно, а четыре года жизни прибавил. — Господи, — всхлипнула она, — и всего-то тридцать семь лет пожил на свете мой Феденька! Часа два-три рассказывал я о Феде. Потом Мария Анисимовна и Катя проводили меня к автобусу и долго-долго махали мне вслед, пока не скрылись из глаз. А в вагоне сквозь стук колес все слышались мне слова Марии Анисимовны: — Спасибо тебе, родимый, за то, что березку посадил!.. Эти слова звучат во мне и поныне…
РУДНИК ИМЕНИ БЕЛОВА
Этот лагерь, это лагерное производство было все в том же Тенькинском управлении Дальстроя. Ехали мы к нему — ранней осенью 53-го года — несколько часов. Открылась широкая болотистая долина, а по сторонам — сопки, совершенно отличные от бутугычагских. Цветом они были бархатисто-темно-зеленые. А по форме преобладали продольные и плосковатые наверху, на склонах. И по широким разлогам, по распадкам нечастые деревья — лиственницы, развесистые, несколько даже нелепые. Еще когда подъезжали, стала видна обнаженная, как бы распиленная взрывами сопка. Порода была темно-голубого цвета. И из темно-голубого обрыва выходили рядом две или три штольни. Отвалов не было, руду забирали прямо из вагонеток мощные длинные скипы. Название породы я забыл, она немного мягче гранита. А золото находилось в мощных кварцевых жилах с наклоном примерно в 45 градусов. Перфораторы, вагонетки, буры разных размеров и забурники — все было, как на Бутугычаге. Было множество штолен, были шахты. На руднике имени Белова было довольно сносно. Я работал и на подъемных лебедках, и на скреперных, работал и электриком. Сохранилась у меня тетрадь с кинематическими схемами разных лебедок и схемами электрооборудования. Это я конспектировал книгу по электротехнике, присланную мне дядей Васей. Как она мне помогла и как ценна была там! Я окончил на руднике специальные курсы. Очень интересно мне было горное дело. А скреперная лебедка ЛУ-15, она рвется с платформы, воет, как дикий зверь, и, сидя или — чаще — стоя за ней и нажимая по очереди правый и левый рычаги, чувствуешь себя укротителем, гоняя по забою тяжеленный зубатый ковш — то пустой, то с рудою или породой. Бурил я и даже сам палил, с согласия вольного взрывника, мокрую шахту на 4-м горизонте. Обычно забуривали одну половину шахты, шпуров десять — двенадцать, и эта половина была всегда несколько глубже. Туда и клали всас мощного откачивающего насоса. Густо текла вода со стен, пока я бурил, я стоял на сравнительно сухом бугорке. Насос непрерывно откачивал воду. Он был американский, фирмы «Мориссон». Я был в специальном резиновом костюме. Управлялся быстро и выезжал на поверхность. В избушке возле устья штольни мы с Лехой Косым варили чифир по-колымски. А случалось, и спирт пили. Рядом с избушкой-теплушкой была контора участка. Там, в шкафу, пылились книги по горному делу, пять или шесть, я их все, с разрешения вольного гормастера, старика Кузьмича, с интересом прочел. Особенно заинтересовало меня маркшейдерское дело. Кузьмич работал когда-то в Донбассе, и его за «вредительство» посадили в 1937-м или даже раньше и сразу — на Колыму. — Ты читай, вникай, — говорил он мне, — освободишься, сдашь экзамен на гормастера. Очень ты хорошо все это осваиваешь. Вот только жаль, что у тебя ОСО. Особое Совещание — дело туманное. Есть народный суд, есть военный трибунал, а ОСО вроде и нет… ОСО меня судило заочно. Постановили — 5 лет. В сорок втором готовлюсь я к освобождению, предвкушаю встречу с родными, готовлюсь Родину на фронте защищать. Вызывают меня в спецчасть. Я радостно иду — будут освобождение оформлять. Ан нет! Подает мне офицер такую же бумажку, как в тридцать седьмом, и говорит: «Пришло дополнительное решение по вашему делу. Прочтите, распишитесь» Я читаю «Пересмотрели дело такого-то. Постановили: продлить такому-то срок нахождения в исправительно-трудовых лагерях на 10 лет». В пятьдесят втором, в январе, освободился, наконец. Но могли продлить еще на десять лет, потом еще на пять или три, а потом еще на восемь и так далее. Эх, ОСО, ОСО! Так мы тачку, бывало, называли: машина ОСО — два руля, одно колесо!.. Да, это мне было известно давно. Особое Совещание могло продлять срок незаконно осужденного до бесконечности.Не знаю, кто как к этому отнесется, но я, ей-богу, полюбит рудник имени Белова. У меня уже были зачеты года на два. Шел к концу 1953 год, уже не только умер Сталин, но был казнен Берия. Я чувствовал, что ОСО уже продлять срок не будет. Через пару лет выйду на волю, буду на месте Кузьмича работать. (Он тяжело был болен и остался после освобождения на руднике только ради пенсии.) Думалось, будет у меня комната отдельная в поселке имени Белова. Буду работать вольным на руднике, буду гулять по тайге, буду читать, буду писать. Пошлю что-нибудь честное в «Советскую Колыму», не век же там печататься со стихами одному только Петру Нехфедову. Вот такие планы и мечты были у меня даже после разоблачения Берии. Только долго на Колыму шло потепление. К слову сказать, весть о разоблачении Берии мы, осужденные по 58-й статье, встретили довольно спокойно. Конечно, приятно было прочитать об аресте кровожадного палача и нескольких его «сподвижников», хотя, скажу прямо, слова о том, что Берия был агентом империалистических разведок, воспринимались с улыбкой. Главное для нас было не это. Мы ждали перемен. Но ничего не изменилось в лагерях «спецконтингента» после смерти Сталина, ничего не изменилось и после ареста Берии. В декабре 1953 года порядки, во всяком случае на Колыме, были прежние. Режим был строг, водили по-прежнему в номерах. Однако какое-то подсознательное ощущение, что наша жизнь все-таки должна измениться к лучшему, все же было.
Работа на руднике имени Белова, как и всякая горная работа, была порою опасной. В мокрой шахте однажды со мной тяжелый случай произошел. Бугорок был в эту смену невелик. Уместилось в нем всего восемь шпуров. Я забил их, как полагается, деревянными пробками-втулками — чтобы не насыпались камешки да и чтобы взрывнику было хорошо видно, где я забурил шпуры. В бадью погрузился. Лебедчик-машинист вытащил меня. Перфоратор, и буры, и лишние пробки я выгрузил. Тут взрывник идет, не помню, как его звали. Он мне: — Толик! Сколько там шпуров? — Восемь. — Будь другом — помоги зарядить. — Пожалуйста. Быстро нас лебедчик опустил. Быстро мы в две пыжовки (деревянная палка для заталкивания заряда в шпур) зарядили шпуры, хорошо забили, запыжевали глиняными пыжами, чтоб не простреляло впустую. Подожгли все восемь шнуров, влезли в железную бадью. — Давай, — кричу, — поднимай! Поехали, но вдруг энергию выбило, лебедка не работает, бадья повисла метрах в пяти над горящими шнурами. А шнуры уже под водой горят. Воды на бугорке уже по колено, даже выше. Ведь насос-то выключен, всас поднят, чтобы ею взрывом не разбило. И осталось минуты полторы. Я кричу: — Йонас! Спускай нас скорее! На тормозе можно и без энергии опустить. Стоя по пояс в воде, мы по огонькам видели шнуры и прямо-таки ныряли за ними! Вырвали все восемь. Слава богу! Мы были по грудь в воде, когда включилось электричество, Йонас поднял нас совершенно мокрых. Вот фамилию Йонаса точно не помню, что-то вроде Юргес или Юглас. Совсем молодой парень, моего возраста. Мы спали рядом на нижних местах одной вагонки и, можно сказать, дружили. Он очень много читал. Срок у него был 10 лет, и не Особым Совещанием дан, а военным трибуналом. В то время можно точно было сказать: если человеку военный трибунал дал всего 10 лет, то этот человек на 120 процентов, ни капли, ни в чем не виноват. По-русски Йонас говорил совершенно без акцента, только читая книги, иногда спрашивал значение какого-либо слова. Он любил и очень душевно пел такую песню:
ШАХТЕРСКИЕ РАССКАЗЫ
Когда работы не было (выбило энергию, сломалась лебедка или просто раньше времени закончили смену), всегда сидели с чифиром либо в избушке-теплушке (если холодно), либо на солнышке (если лето). И любил заходить к нам гормастер Кузьмич. За полтора года вольной жизни к воле он еще не привык, и его тянуло к нам, заключенным. — Иван Кузьмич, а вы Гаранина помните? — Ничего себе сказал — помните! Да я его видел, почти как тебя, когда он строй заключенных обходил! И не один, со свитой. Он еще и не приехал, а по телефону дана была весть: может заехать, лично проинспектировать лагерь. Он еще из Магадана не тронулся, а мы в Палатке всем лагерем строем стоим. Все вычищено, выкрашено, желтым песочком посыпано. Начальство бегает нервничает. Вдруг слух: едет, едет! А ворота лагеря уже настежь открыты. Въезжает он целой колонной — несколько легковых «эмок», несколько грузовиков с охраной. Выходит из первой машины, свита мгновенно — по бокам. И все с маузерами поверх полушубков. Сам в медвежьей шубе. Грозный. Глаза запойные, свинцовые. Начальник нашего лагеря, майор, к нему подбегает, докладывает, голос дрожит: «Товарищ начальник УСВИТЛа НКВД!.. Весь личный состав отдельного лагерного подразделения построен!..» — «Отказчики есть?» — «Есть!» — трепетно отвечает майор. И выводят строй отказчиков, человек двенадцать. «Работать не хотите, … в рот?» А маузер уже в руке. Бах! Бах! Бах! Бах!.. — всех отказчиков уложил. Кто шевелится — свита достреливает. «А рекордисты, перевыполняющие норму, есть? Ударники?» — «Есть, товарищ начальник УСВИТЛа НКВД!» Радостный, веселый строй ударников. Им-то нечего опасаться. Гаранин со свитой подходит к ним, а маузер в руке все еще держит, уже пустой, без патронов. Не оглядываясь, протягивает свите назад через плечо. Ему подают новый, заряженный, он кладет его в деревянную кобуру, но руки с него не снимает. «Значит, ударнички? Нормы перевыполняете?» — «Да…» — отвечают. А он опять спрашивает: «Враги народа, а нормы перевыполняете. Гм… Враги народа проклятые. Врагов народа надо уничтожать…» И снова: Бах! Бах! Бах! Бах!.. Еще с десяток людей лежит в лужах крови. А он, Гаранин, вроде и повеселел, глаза поспокойнее стали… Насытился кровью, стало быть. Начальник лагеря ведет дорогих почетных гостей в столовую — пиром угощать. И радуется, что под пулю не попал. Гаранин и командиров стрелял, когда хотел… Произвол! Произвол страшный был, когда начальником УСВИТЛа был Гаранин. Люди мерли как мухи[31]. — А что с ним потом случилось? — И на него маузеры нашлись. Разоблачил его, кажется, Берия и расстрелял как японского шпиона. А теперь и самого Берия тоже шлепнули. — Иван Кузьмич! Еще чего-нибудь расскажите, пожалуйста. — А еще интересный случай был в Сусумане. Там при проходке вечной мерзлоты увидели вдруг в боковой стене ледяное окно, и в нем зеленая, как живая, доисторическая ящерица. Больше метра. Осторожно выпилили глыбу и принесли в барак и оставили в корыте в сушилке. Там очень тепло. Ночью дневальный зашел в сушилку, слышит — плещется что-то в корыте. Ожила ящерица! По полу бегала, весь барак видел. А наутро подохла. Вот и страшный, и веселенький, но оба удивительные шахтерские рассказики! В декабре 1953 года я поругался с начальником режима из-за наручников. Он решил по лютому морозу гонять меня на работу в штольню в наручниках. Я, как там говорили, начал базлать, и меня посадили в карцер на десять суток. На третий день прибежал надзиратель: — Жигулин-Раевский! Быстро с вещами на этап! Мне подали черный воронок на одного. Было очень холодно. Между двумя дверями сидел солдат с автоматом. Я спросил его: куда? Солдат ответил: — На материк. В Воронеж. Боже мой! Святая дева Мария! Я-то думал, что придется прожить еще долго на Колыме, возможно, до конца жизни («Оттуда возврата уж нету»). Через несколько часов мы приехали в Бутугычаг на Центральный (надо было вора-попутчика захватить в Магадан). И я снова попал в БУР. Хотя была глухая ночь, мне принесли ужин, большую банку чифира и очередные пятьдесят рублей от бригадира Степанюка. Новый нарядчик и бугор Степанюк свято чтили память Купы. Магаданскую пересылку я просто не узнал. Многие прежние ее строения вышли за зону в город, в том числе монументальное здание столовой. На пересылке я познакомился с князем или графом Кирсановым. В честь знакомства я попросил бесконвойника купить мне бутылку коньяка (пригодились деньги бригадира с Центрального), и мы ее распили с аристократом. Дней через пять меня в наручниках посадили в самолет ИЛ-12, и мы (я, еще несколько заключенных и два охранника) поднялись в воздух. Мы сидели в задних рядах, остальные места были заняты вольными. Промелькнул Магадан, замелькали поселки, закрутились снежные, с редкой прозеленью сопки и хребты. Я впервые в жизни летел на самолете. Сам я никаких жалоб и никаких просьб — о помиловании или пересмотре дела — не писал. В пути меня мучил вопрос — зачем? Какое-то доследование?ДОЛГАЯ ДОРОГА НА СВОБОДУ
Вскоре меня вызвали на допрос. В знакомом кабинете второго этажа сидел за письменным столом незнакомый майор. Он представился: — Майор Теплов. Мы производим пересмотр вашего дела. Вас мы ждали очень долго. — А я был очень далеко. На Колыме. — Знаю, знаю… А почему у вас две фамилии? — Вторая фамилия — моей матери, она Раевская. Мне присвоили эту фамилию на следствии, так как многим подельникам я был только под ней известен. — Так. Это почти ясно. Вот у меня ваше личное дело заключенного. Что там, на последнем вашем колымском лагпункте, произошло у вас с начальником режима? Здесь записано, что за оскорбление офицера вы были заключены в карцер на десять суток, но отбыли только двое, в связи с этапом. По правилам я должен засадить вас в карцер на восемь суток, которые вы не отбыли. — Как знаете. Я никого там не оскорблял. Просто на меня надели наручники и очень крепко их забили. Если бы я так, в наручниках, до крови забитых, пошел на работу, при пятидесятиградусном морозе у меня бы за час начисто отмерзли кисти рук. Пришлось бы их ампутировать выше запястья… Да вот, взгляните, следы сохранились. У майора Теплова было доброе и умное лицо, добрые глаза, слегка вьющиеся светлые волосы. Иногда, задавая вопросы, он почему-то слегка краснел или бледнел. Лицо явно выражало чувства, возникавшие в душе майора. — Хорошо. Оставим это. Я, конечно, не буду заключать вас в карцер. В вашем личном деле вообще много загадочного. Здесь проведены на первой странице две красные линии по диагонали (и он показал мне их). Каждая означает побег. Но в деле нет ни дат побегов, ни описаний. Почему вас не судили за побеги? — Я ничего не знаю об этом. Я ни разу не был в побеге, ни разу не пытался бежать. — Откуда же эти линии? И вверху надпись: «Склонен к побегу». — Не знаю. Надо спросить тех, кто это писал. Там есть подпись? «Колыма — страна чудес». Видимо, это относится к колымским чудесам. Особенно, если подпись неразборчива. Майор улыбнулся и чуть порозовел лицом. И сказал: — Все это, впрочем, не так уж важно, и поправимо. Уберем «колымские чудеса» из вашего дела, чтоб они вам в будущем не мешали. Расскажите мне, пожалуйста, о первом следствии по вашему делу в 1949—1950 годах. Расскажите с полной откровенностью, без боязни. Ни один из ваших прежних следователей, ни один из надзирателей уже не работает в Управлении. Так что не бойтесь их. Вы можете говорить полную правду, не опасаясь за свою жизнь и здоровье. Я подумал, что он, наверное, почти все уже знает, что все мои подельники дали показания и вопрос, по существу, уже ясен. Но начал рассказывать все по порядку — и о КПМ, и о следствии. То, что готовились сказать на суде. Несколько дней подряд майор Теплое записывал мои показания. Записывал правильно. Однажды он спросил: — В декабре месяце 1949 года вы показали майору Белкову следующее: «…в случае вооруженного восстания мы намерены были прежде всего арестовать и без суда расстрелять всех членов Политбюро…» — Ничего такого я не показывал ни майору Белкову и никому другому. Никогда у нас не было таких страшных преступных планов. — Однако здесь есть и ваше письменное подтверждение и подпись. Посмотрите, пожалуйста. Это вы писали? — Подделка похожая, но почерк не мой, подпись не моя. Можно произвести экспертизу? — Не волнуйтесь. Уже есть протокол экспертизы. Это подделка. Идите отдыхайте. Им мало было того, что они из нас выбили на следствии! Они уже после окончания следствия заменили многие протоколы допросов подложными. Мы не читали этих протоколов. Они появились в деле уже после подписания нами 206-й статьи. Расчет был верен. Прижбытко, и Литкенс, и Белков, и другие знали, что дело пойдет в Особое Совещание, а там никаких экспертиз проводить не будут. Вскрылось много такого — подчистки, дописки, фальшивки, самые наглые подделки. (Об этом я узнал позднее.) Когда я возвратился в камеру, то вправду лег немного отдохнуть — лежать на кровати разрешалось в любое время. Сколько угодно. Разрешалось читать книги. Однажды открылась «кормушка», а в ней знакомое лицо. Боже мой! Это же старый завхоз. И манит меня пальцем. — Здравствуйте! — говорю. А он спрашивает: — Не хотите ли книгу почитать? — Хочу. Вы что, один остались от прежних? — Да. Вот, смотрите. — И он показал мне несколько книг. Я взял М. Стельмаха «Большая родня» и еще что-то. В конце января пересмотр дела КПМ в Воронеже был закончен. Об этом мне сказал следователь. Какое будет решение в Москве, никто не знал.
Третьего февраля открылась форточка-кормушка, и надзиратель тихо сказал: — Приготовьтесь, пожалуйста, с вещами. Меня привели в большой «воронок» и поместили в отдельную стальную камеру с тонкими стальными жалюзи для дыхания. В соседней камере и напротив уже кто-то был. Я громко спросил: — Кто здесь, ребята? — Здесь я, Толик. Юрий Киселев. — Здравствуй, дорогой друг! А кто еще здесь с нами? Раздался голос, от которого у меня начали переворачиваться внутренности: — Аркадий Чижов!.. Здравствуй, Анатолий! Здравствуй, Юра! Я ничего не сказал в ответ. Странные чувства возникли во мне и удивили меня. Пока солдат-охранник еще не залез в свою кабинку, я спросил Киселя, но тихо и неуверенно: — Юра, Аркашу мочить будем?… — Толик, не говори этого… — Прекратить разговоры! — раздался грозный голос солдата. Машина покрутилась во дворе и в переулках и выехала на Плехановскую в сторону Заставы, в сторону городской тюрьмы. Наверное, в тюрьму?… Город родной был виден мне сквозь щели и через обе двери с зарешеченными окошками, между которыми сидел солдат с автоматом. Родной город. Снег на Плехановской был расчищен, блестело булыжником трамвайное полотно. Родной город! Никогда не думал, что вернусь сюда.
«Привет, ребятишки! Ксиву[32] вашу получили. Все ясно. Живете, значит, кучеряво. Эго хорошо… Да, братцы кролики, это вам не карпов руками в Репном вылавливать и арбузы из машинки дырявить. Так хотелось бы увидеться. Ну, ничего, может, и нам фортуна плюнет. Справедливость восторжествует!!! Колька у нас сущий оракул: каждый день во сне волю видит. Есть же пословица: „Голодной курице просо снится!“ Кончаю. Пусть еще Колька покляузничает. С приветом (прозаическим)[33]. Болени».Дальше пишет Коля Стародубцев, тоже в шуточной форме. В конце письма обращается ко мне — говорит, что стихи мои помнит. Приятно получить такое письмо от друзей. Позволю себе процитировать и запись из записной книжки, которую я вел в лагере.
«11 июля (воскресенье). Утро. Ясное солнечное утро. Если стать ногами на подоконник, то можно видеть по ту сторону забора часть города около Заставы. Железнодорожные пути, разноцветные вагоны — на первом плане. А немного дальше голубые баки нефтебазы, спрятанные в густой яркой зелени. А еще дальше — дома, подъемные краны, какая-то незнакомая башенка со шпилем — очевидно, на вновь построенном здании. Видна даже часть моста и трамваи. А почти сразу за забором, на бугорке около насыпи, цветет большой золотой подсолнечник. На горизонте — трубы, много труб. Одна, две, три — не сосчитать!.. Вот он, мой город! „Город мой синий, любимый, далекий…“ Да, ты еще далек от меня. Очень близок и очень далек! Когда же я пройду по твоим улицам? Над городом в прозрачной синеве плывут теплые, мягкие облака… Эх! Иметь бы крылья — улететь бы отсюда!..»21 июля, под самый вечер, прибежали взволнованные Василий Туголуков и Юрка. Начальник спецчасти просил сказать, что завтра мы освобождаемся, все трое. Я впервые в жизни не спал всю ночь от радости. Подходил старшина: «Чего не спишь?» Но, узнав меня, понял: «В последнюю ночь трудно уснуть». Утром за нами пришли родители — и мои, и Юркины отец и мать. Кто-то пришел и за Василием. Сестра Юркина была. Я получил справку 7- БН № 0001555. В ней, в частности, было написано:
«…По Указанию Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР срок снижен до 5 лет. С применением Указа от 27/III-53 г. „Об амнистии“. Освобожден 22 июля 1954 г.».Объясню смысл людям неискушенным. Эта формула означала, что нас все же сочли преступниками, но заслуживающими меньшего наказания, чем нам было дано. В связи со снижением срока наказания до 5 лет мы подпадали под амнистию. Нас осудили неконституционно. Неконституционно и освободили. Гора родила мышь. Конечно, по амнистии снималась судимость, и это было прекрасно. Борьба за полную реабилитацию была еще впереди. Пока мы не думали о ней. Мы думали о свободе. Боже мой! Какое счастье быть свободным! Мы тихо шли мимо областной больницы, тюрьмы и Чугуновского кладбища. Я не узнавал знакомых мест. Было восстановлено много домов, построено много новых зданий. В двенадцать часов мы были уже дома. Нас встретил кот Макс и замурлыкал, словно ждал меня ежедневно все эти пять лет. Макс родился в 1946 году и по моей инициативе его назвали в честь тогдашнего чемпиона мира по шахматам голландского гроссмейстера Макса Эйве. В разные следственные и карательные учреждения поступило за долгие годы (Макс прожил на белом свете 14 лет) несколько анонимок о том, что мы назвали своего кота… Марксом. Вечером этого счастливого дня мы крепко отметили свое освобождение. Вскоре, через день-два, возвратились из небытия наши друзья: Леня Сычов, Саша Селезнев… Борис Батуев еще не вернулся. Мы с Юрой Киселевым зашли к его матери. В семье бывшего второго секретаря воронежского обкома ВКП(б) нужда была беспросветная. Работала только старшая сестра Бориса Лена и содержала всю семью. Светлане было около пятнадцати, она училась в школе, а Юрка был младше на один класс. Он очень был похож на Бориса, и, когда он вырос, мы стали называть его младшим Фирей. Если Борис в скором времени должен был вернуться, то глава семьи, Виктор Павлович Батуев, был еще далеко-далеко на Воркуте. Кроме руководства нашей организацией, ему пришили и чисто уголовное дело. Еще когда все мы были под следствием, в начале следствия, его сняли с обкомовского поста и назначили на хозяйственную должность — начальником межобластного управления «Вторчермет», а там уже состряпали уголовное дело и дали 25 лет. Вскоре, слава богу, пришел Борис. Его, как и Юрия Киселева, без экзаменов восстановили в университете. Обком партии решил восстановить в вузах всех бывших «участников» КПМ. Председатель областной партийной комиссии Самодуров и заведующий отделом культуры обкома Бурнадский звонили директорам, ректорам вузов и советовали нас восстановить. Обнаружилось, что никаких вузовских документов бывших членов КПМ не сохранилось. Они были после нашего осуждения изъяты и уничтожены. А там ведь были наши «аттестаты зрелости». Нам помог директор нашей школы, — в течение одного дня изготовили дубликаты. Весь город покровительствовал нам. Дело КПМ стало личным делом многих людей и важным фактом для города Воронежа. У меня в лесотехническом институте сохранился только приказ от августа 1949 года о начислении мне повышенной стипендии (я сдал все на «отлично»). По этому документу тогдашний директор ВЛХИ Рубцов и «провел меня приказом» в студенты 1-го курса лесохозяйственного факультета. Б. Батуев и Ю. Киселев сразу же перешли на заочное отделение и пошли работать на завод тяжелых механических прессов. Обоим нужно было кормить семью.
Прозвучал доклад Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года. А еще накануне XX съезда все мы получили документы с такой формулировкой (привожу свой):
«…По постановлению Прокуратуры, МВД и КГБ СССР от 8 февраля 1956 года Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 24 июня 1950 года в отношении Жигулина Анатолия Владимировича ОТМЕНИТЬ и дело на основании ст. 8 УК РСФСР в уголовном порядке ПРЕКРАТИТЬ».Когда большой веселой группой мы получали эти справки, каждый повторял формулировку и находил ее весьма приличной. А я сделал серьезное и даже несколько огорченное лицо: — А у меня формулировка другая! — Да ты что, Толич? Не может быть, прочти! Ребята стояли вокруг меня, у всех обеспокоенные лица. А я, глядя в справку, говорю: — У меня окончание не такое. Все, как у вас, но окончание другое: «Постановление Особого Совещания… ОТМЕНИТЬ и дело на основании ст. 8 УК РСФСР в уголовном порядке ПРЕКРАТИТЬ и указанную справку в обязательном порядке ОБМЫТЬ!» Раздался дружный хохот. И пошли обмывать… Это уже была реабилитация (после второго, заочного пересмотра нашего дела, о котором мы ходатайствовали). Но она была неполной. Восьмой пункт тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР предусматривал отмену приговора и прекращение дела в случае, когда преступление перестало быть преступлением. А ранней осенью 1956 года состоялся третий пересмотр нашего дела. Нас, руководителей КПМ, несколько раз вызывали в обком партии, где с нами беседовали представители ЦК КПСС товарищи Гуляев и Ештокин. Участвовал в беседах и В. В. Самодуров, председатель областной комиссии партийного контроля. Результатом этих бесед явилась полная реабилитация. Вот такая формулировка была теперь в наших справках:
«Дана гр. ЖИГУЛИНУ Анатолию Владимировичу, 1930 года рождения, в том, что определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 24 октября 1956 года Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 24 июня 1950 года в отношении его отменено, и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления».Это была победа! Это была полная свобода! Мы шли к ней более семи долгих, порою страшных лет. А ведь и девиз наш дерзкий юношеский и романтический был: «Борьба и победа!» Мы боролись! Мы победили!
ЭПИЛОГ
Многое, что могло бы войти в эпилог, уже описано ранее. Например, моя поездка в 1957 году к матери Феди Варламова; приезд ко мне в Москву Володи Боброва и последовавшее вскоре сообщение о его смерти; изъятие А. Чижовым из дела КПМ гнуснейших своих показаний. Все наши следователи, которые стряпали дело, разжалованы, лишены наград, полученных во время службы в МГБ. Лишены таким образом (из-за полного разжалования) больших пенсий. Восстановиться в партии никому из них не удалось. Ибо восстанавливаться надо было в Воронеже, а там и люди, и документы против них. Их надо было бы судить. Они ведь преступники. Личному представителю министра Госбезопасности СССР при Воронежском областном управлении МГБ полковнику Литкенсу удалось избежать смертной казни только потому, что он сразу же после разжалования исчез из города на 10–12 лет — уехал в Каракумы, устроился там рабочим в какой-то экспедиции. На заводе тяжелых механических прессов в Воронеже Юра Киселев и Боря Батуев частенько встречали работавшего там же бывшего начальника следственного отдела, бывшего полковника Прижбытко. Он работал чертежником в техотделе. А была встреча еще повеселее. В начале шестидесятых годов река Воронеж была еще нормальной, левый пойменный берег еще не был затоплен и изобиловал удобными для купания бухточками, небольшими пляжиками, закрытыми с трех сторон лесом до самой воды и даже в воде — ивами. И вот однажды, гуляя и резвясь, выскочили в такую бухточку из зарослей Борис Батуев с малокалиберной винтовкой и его шурин Иван Дрычик — с охотничьим ружьем. И перед нами оказался и стал в ужасе пятиться к воде и в воду голый, толстый, обрюзгший человек. Лютый страх сковал его движения, он дрожал всем телом и, оборачиваясь во все стороны, искал помощи белыми глазами. Но никого, кроме Бориса и Ивана, даже и на другом берегу не было. Когда ребята миновали бухточку, Борис спросил Ивана, не заметил ли он чего-либо особенного в этом ожиревшем борове. Иван сказал: — В глазах его был страх смерти. Я никогда не видел такого страха в глазах человека. А кто он? — Это бывший мой следователь, бывший майор Белков. С Володей Филиным (он нашел меня по публикациям в печати) я регулярно переписывался, и был у него в Астрахани году в шестьдесят шестом, а позже он — у меня в Москве. И Саша Филин, его брат, тоже бывал у меня. Он и сообщил мне горькую весть, когда друга моего не стало. Сердце.Ежегодно, бывая в Москве, заходил ко мне большой, радостный и радушный Ноте Лурье. И мы беседовали с ним о Бутугычаге, об Олеге Троянчуке, (он не нашелся), о Якове Иосифовиче Якире, который в 70-х годах уехал и уже умер там, в Израиле. Недавно пришло печальное известие из Одессы — не стало и Натана Михайловича. Московские писатели в 60-70-е годы знали и сейчас помнят оргсекретаря писательской организации Виктора Николаевича Ильина. Он работал в Союзе писателей более двадцати лет. А в свое время был он комиссаром госбезопасности (что сейчас соответствует званию генерал-майора) и был незаконно репрессирован в годы войны. И на этой почве произошло у нас некоторое сближение. Однажды он мне сказал: «У нас, чекистов-дзержинцев, выбор в то время был ограничен: остаться живым и стать подлецом или умереть, но сохранить свою партийную совесть. Я выбрал второе. Находился под следствием, не будучи судимым, восемь лет и десять месяцев, из которых около четырех лет провел в одиночке». У В. Н. Ильина есть стихи о тюрьме. Он читал их мне. И мои стихи он любил и любит (он сейчас на пенсии). Году в семьдесят пятом захожу я к нему однажды по мелкому вопросу — бумажку какую-то подписать. Он подписал и задержал меня: — А вы знаете, кто у меня здесь был и в этом же кресле вчера сидел? — У вас десятки людей бывают за день. — Он в вашей жизни большую роль сыграл. — Не могу угадать. — А был у меня вчера бывший личный представитель министра Госбезопасности СССР, бывший полковник Литкенс! Знали такого?! — Еще бы не знать. Он не раз меня лично допрашивал. А что он к вам заходил? — Мы какое-то малое время работали с ним вместе, был он у меня в подчинении. И вот зашел с просьбой помочь ему восстановиться в партии. Но вы сами знаете, что дело КПМ совершенно ясное и чистое. И ничего у него не выйдет. Сам знал, что делал… Между прочим, о вас хорошо отзывался. — Это в каком же смысле? — На следствии хорошо держались. — А-а-а! Ну, что ж. Это, пожалуй, верно… Только не нужны мне похвальные отзывы палача! Иван Широкожухов сошел с ума в лагере. Его, как и Ивана Подмолодина, особенно зверски били на следствии — вышибали фамилии членов левобережных групп. Он жив, но безнадежно болен. Никогда не забуду похорон Ивана Подмолодина. Помню его молодым и здоровым, голубоглазым летчиком воронежского аэроклуба. Это был человек благородный и лицом, и сердцем. Как я уже говорил, Иван сошел с ума от тяжких побоев и потрясений уже в первые дни следствия. Начал бредить. Но даже в бреду не выдал членов своей группы. (Поэтому Подшивалов, которого не знал Чижов, остался на свободе.) Уже схваченный болезнью, Иван Подмолодин, когда его мучили, кричал страшно. Моя одиночка была недалеко от камеры Ивана. Его смертные стоны и вопли в ночной зловещей тишине тюрьмы останавливали кровь в жилах, заставляли содрогаться сердце… Бредовые показания Ивана Подмолодина были использованы в деле, позже он был отправлен в Институт судебно-медицинской экспертизы имени Сербского, а дело его было выделено в так называемое «особое дело». В 1953 году его перевели в орловскую психиатрическую лечебницу, в тюремное отделение. До него не дошли ни снижение срока, ни амнистия, ни реабилитация. О нем как бы забыли. Лечить Ивана начали лишь незадолго до смерти, после того, как мы с Борисом, узнав, что он лежит в Орловке, пошли к председателю КПК В. В. Самодурову, привезли к нему отца Ивана, с трудом разыскав его на левом берегу. Ивана перевели тогда из тюремного отделения больницы в обычное. Умер Иван 12 декабря 1956 года. В этот же день пришла его отцу телеграмма из больницы. Он позвонил Борису. 16-го мы были с Борисом в похоронном бюро. Там сказали: лютая зима, нет цветов. Венок, однако, в цветочном магазине нам взялись сделать, если мы достанем гибкие ветки лозы. По глубокому снегу мы прошли в Новый парк и нарезали длинных веток желтой акации. Венок получился. Траурную надпись на ленте я писал сам. Читал свидетельство о смерти — кровоизлияние в мозг. Перед смертью пришел в сознание. Говорят, такое бывает. Хоронили Ивана в лютый декабрьский мороз на занесенном снегом кладбище за заводом имени Коминтерна. На похороны пришли почти все члены КПМ. Ехали на кладбище с левого берега на другой конец города вместе с гробом в открытом грузовике. Несли гроб к могиле. Я и Борис — впереди. Я — справа, он — слева. Опустили в черную яму. Бросили по горсти промерзшей земли, поставили крест. С кладбища опять поехали на левый берег, к отцу Ивана, помянули по христианскому обычаю. Водка была кстати — зуб на зуб не попадал. Еще позже собрались у Юрия Киселева. Пили и не пьянели. Чижова не было. А остальные мы как дружная семья: Борис, Юрий, я, Рудницкий, кто-то из Землянухиных, Сидоров, Сычов… Возникло чувство кровной близости… Вспомнился сейчас отец Подмолодина — Трифон Архипович. Жаль старика. Потерять сына — самое ужасное горе на земле… На кладбище снег на дорожках был хрусток. Гроб черен. На крышке мелом нарисован крест. Мы несем гроб к черной яме. Рыдает (навсегда в моей памяти) сестренка Ивана. Ивана Трифоновича Подмолодина. Вечная память тебе, дорогой друг Иван! Следующим событием, которое собрало под одним кровом бывших членов КМП, живших тогда в Воронеже, было событие радостное — моя свадьба, точнее, наша с Ириной, Ириной Викторовной Неустроевой, свадьба, в феврале 1963 года. Из друзей по КПМ на свадьбе нашей были Борис Батуев, Юрий Киселев, Николай Стародубцев, Александр Селезнев, Володя Радкевич. Жаль, что Славка Рудницкий по какой-то причине не смог прийти. Коля Стародубцев читал мои стихи, которые заучил по тюремному перестуку: «Сердце друга», «Ты помнишь, Борис». Все были потрясены. Большое впечатление произвело на всех — родных и гостей, и особенно на Иру — наше общее зэковское пение песни «Ванинский порт». «Обнявшись, как ро́дные братья», соединив руки и плечи, пели стройно, вдохновенно. Уже нет в живых двоих из певших, а оставшимся она помнится, эта замечательная песня, соединившая нас шестерых в единое целое. А при таком соединении, при такой дружбе и братстве ничего не страшно. Должен сказать, что на многочисленные свои послелагерные встречи — на дни рождений и свадеб, на юбилей ареста, освобождения или реабилитации — мы никогда не приглашали А. Чижова. Большинство ребят не поддерживало с ним никаких отношений.
СУДЬБА ВЛАДИМИРА РАДКЕВИЧА
Трудная выпала ему доля. Я уже писал, что А. Чижову было известно лишь, что Радкевич был принят в КПМ, потерял на другой день партийный билет и на следующий же был исключен из организации. Поэтому за свое всего лишь двухсуточное (как думал Чижов и следователи) пребывание в КПМ Хариус и получил смехотворно малый по тем временам срок — три года. Он освободился раньше всех нас, еще в сентябре 1952 года, еще до послесталинской амнистии. Приехал в Воронеж. Его не прописывали (на нем была судимость по 58-й статье), он пошел в военкомат — не взяли в армию. Он был изгоем. Доподлинно известно, что Володька Радкевич прямо в областном драматическом театре (их семья все еще жила в описанной мною крошечной каморке в здании театра) во время антракта, на глазах у многих, нанес Валентину Акивирону несколько ножевых ранений, но, к счастью для себя, не убил его. Нож был чуть ли не перочинный, рука была слаба от вина. Его не судили — Акивирон счел лучшим для себя не подавать в суд. В конце концов Володьку взяли в армию, и он попросился в военное училище. Судимость к тому времени уже была снята, и его направили в Харьковское гвардейское танковое училище. За ним была уже и десятилетка, и шоферские права, полученные «на Севере». Прослужил Володя в армии до 1957 года. За это время он бывал в Воронеже в отпусках, встречался с друзьями, женился на Галке Зайчиковой. Родился у них сын Бориска. Демобилизовался Володя из армии по болезни. Циклофрения (теперь ее называют маниакально-депрессивным психозом — МДП) началась у него еще, конечно, в тюрьме, долго тянулась почти незаметно, с длительными периодами ремиссии и наконец накрыла его крепко. Я впервые встретился тогда с этой болезнью. В новой большой квартире Стиро-Даниловых сидел на стуле или в кресле Володька, сидел в оцепенении, смотрел в одну точку. И не видел, и не слышал нас — меня, Бориса, Юрия… Это была тяжелейшая депрессия. Потом наступало улучшение, Володька казался совсем здоровым. Учиться в институте ему врачи, правда, не советовали. Он делал кукол в кукольном театре, рисовал декорации, работал порою в лесоустроительных и поисковых партиях рабочим, техником. Временами лежал в больницах. Мы с Борисом навещали его в Орловке. Лечебница эта старинная расположена на высоком, белом от черемухи правом берегу Дона. Было еще половодье и сильная волна, но мы с Борисом все-таки переплыли реку в утлой лодчонке, черпавшей бортами воду. Это было 20 апреля 1962 года. Володька явился к нам небритый, одетый в типичную лагерную робу. Но чувствовал он себя уже вполне нормально. Гуляли, беседовали. Он показал нам окна тюремного отделения, где когда-то томился Иван Подмолодин… В августе 1966 года были мы с Ирой в воронежском саду и кто-то там нам сказал, что где-то за Уралом в лесоустроительной экспедиции погиб Володя Радкевич. Застрелился из ружья. Галя ездила туда, но предсмертные, прощальные письма ей не отдали, даже не дали прочесть, взяли в местный отдел МВД. Застрелился Володя нелепо. Ушел рано утром в далекую тайгу и разворотил себе дробовым патроном правую и часть левой стороны груди, сердце случайно оказалось не задетым. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что после выстрела (а второго патрона не было) Володя в полном сознании жил еще около шести часов и ползал по таежной лужайке, оставляя кровавую полосу. Смерть наступила от потери крови. Когда пришла ужасная эта весть, я впервые в жизни плакал. Он от болезни это сделал. Незадолго до этого умерла в Москве от рака его мама, и он был в тяжелой депрессии, не ведал, что делал. Ах, Володя-Володя! Беззащитный одуванчик в свирепом урагане жизни. Прости меня за то, что я не был там, с тобою, и не отнял у тебя то проклятое ружье. У меня сохранилось двадцать пять Володиных писем, из них девятнадцать армейских, и почти в каждом из них — посвященные мне стихи. А вот мои строфы.ЗВЕЗДА И ГИБЕЛЬ БОРИСА БАТУЕВА
Я не оговорился — у Бориса Батуева была такая судьба, которую называют звездою. После освобождения, как и Юрий Киселев, он пошел работать рабочим на завод тяжелых механических прессов. Там после XX съезда оба вступили в партию. (Я подал заявление в партию в дни XXII съезда КПСС.) Поскольку Виктора Павловича освободили и реабилитировали значительно позже, Борис стал главою и кормильцем семьи. (Впоследствии В. П. Батуев был пенсионером союзного значения.) Работая на заводе, Борис заочно окончил ВГУ, стал на воронежском телевидении редактором. Я помогал ему первое время писать тексты передач. Преподал ему несколько уроков не теоретической, а прикладной журналистики. А дальше — дальше, как говорится, он за пояс заткнул меня в этом деле. Это был чрезвычайно талантливый человек. И еще его отличала цельность. В своих мыслях, и в своих поступках он был одинаков. Всю жизнь беззаветно и трогательно любил одну только женщину, свою жену Анну, или, как он часто ее называл, Анюлю. В начале 60-х годов ему и Юрию Киселеву предложили поехать учиться в Высшую партийную школу. После окончания ВПШ Борис стал главным редактором воронежского Комитета по радиовещанию и телевидению. Руководитель он был прирожденный. Это я знал давно, еще в 1948 году. Борис далеко бы пошел (он, в частности, уже был членом Воронежского обкома КПСС), но случилась беда. Десятого января 1970 года работники воронежского телевидения ехали в район что-то снимать. Их было пятеро в специальной телевизионной машине: кроме Бориса, операторы, осветитель, шофер. С обледенелого мостика через реку Усманку между Новой Усманью и Рогачевкой машина упала в речной овраг. Все остались живы, погиб только Борис. Об этом сообщил мне по телефону (я жил уже в Москве) воронежский поэт Виктор Поляков. Сердце заболело, и стал я сам не свой. Нет больше Бориса! Кажется, совсем недавно оплакивали Хариуса, и вот тебе — Борис! Лучший, самый близкий друг мой Фиря! «Генсек» КПМ. Почти четверть века дружбы. Всего сорок лет было Борису. Горе-то какое! Сын без отца остался, Валерка. Я выбежал из дому, за три минуты до отхода поезда взял билет, еле пробился к кассе, прорвался, как в бою. На ходу вскочил в поезд — он уже тронулся. Ночь без сна в душном вагоне. В окнах — деревья в белых саванах и огни. Двенадцать часов напряженного, бессонного ожидания — скорей бы Воронеж. Вспомнилось почему-то, что, когда поминали Хариуса, Борис сказал: «Знаешь, Толик, у меня такое ощущение, что я скоро пойду за Харюней…» Так и случилось. Давно ли мы с ним резали ветки для венка Подмолодину? Наконец утренний Воронеж. Скорей к киоску. Развернул «Коммуну». Некролог. Похороны 13 января. Не опоздал! Около десяти-одиннадцати я подошел к так хорошо знакомой арке на проспекте Революции. Навстречу — Колька Стародубцев, Славка Рудницкий. Я их несколько лет не видел. Горе всех свело. Тут же и Юрка Киселев: — Спасибо, что приехал! Тут же и Селезнев, Миронов, и Иван Сидоров, которого я почти забыл, один из Землянухиных, и Чижов. Приехали и пришли попрощаться с Борисом все оставшиеся в живых бывшие члены КПМ. Не приехал только с Сахалина Игорь Струков, не приехала из-за опоздания телеграммы Марина Вихарева. Ленька Сычов, Димка Буденный. Аня в черном: — Толечка, здравствуй! Ты совсем белый лицом! Не спал ночь? Пойди выпей водки на кухне. Там ребята. На кухне сидела ставшая совсем взрослой сестра Бориса Светка, младший его брат Юрка в офицерской форме, Виктор Павлович — какой-то совсем маленький. Мне налили чайный стакан водки, полный. Я выпил залпом, не закусывая, и — к гробу. Уступили мне сразу место в изголовье, напротив Ани. Валерка — рядом с нею, худенький, бледный мальчик в сером свитере и в очках. Особенно тяжело было смотреть на него. Борис в гробу совсем как живой. Синячки небольшие на лице. Я поцеловал его холодный лоб. Небрежные швы вскрытия на голове и на шее. Вскрытие показало, что не было никаких серьезных повреждений. Смерть наступила от замерзания! Да, воды чуть-чуть хлебнул. Но шофер с поломанными двумя руками вытащил его из воды. Нужно было ему искусственное дыхание сделать или хотя бы головой вниз потрясти. Нельзя было бросать его, оставлять на снегу. Борис (это тоже показала экспертиза) сам начал дышать, лежа на снегу, и дышал, пока не замерз. Шофер обессилел — оказалось, что у него сломана и нога… А остальные пошли искать попутную машину и оставили Борьку мокрого на снегу. Мы с Юрой Киселевым Бориса не оставили бы никогда… А мороз был большой. Замерз. Даже видно — уши синие, обмороженные. Гроб несли только друзья. Машина похоронная. Улица Карта Маркса. Телецентр. Внесли цветы, венки. Один был особенный: «…от самых близких друзей-единомышленников». То есть от КПМ. От КПМ, которой давным-давно уже не было, но которая особенным образом жива в душе каждого из наших ребят. Дружба осталась, остался какой-то внутренний долг, какая-то сила, живущая в каждом из нас. Много венков. На одном лента: «УКГБ ВО. Воронежские чекисты глубоко скорбят… трагической гибели… коммуниста…» На похороны приехал с группой офицеров сам генерал. Стояли в почетном карауле. Они правильно сделали, что приехали на похороны, — отмежевались от тех горе-чекистов, которые год держали нас в подвалах, а потом отправили в лагеря… И, наконец, последний путь к кладбищу. Холод. Все наши — без шапок, хоть и долго шли. Митинг. Составленные из казенных блоков речи. Только Галя Поваляева, диктор, сказала несколько человечных, точных и по-женски грустных слов. Глубокая, с нишей в торце могила. Суглинок. Слишком большая ограда. Это Юрка на заводе тяжелых прессов сделал. Юрке много пришлось — и ограду, и венок, и собирать друзей со всех концов — все Юрка Кисель делал… Как всегда в тяжких случаях. Добрая и нежная душа — Юра Кисель. Рыдал, говорят, накануне, с ума сходил от горя… Поминки. Снова речь о журналисте Батуеве. Но ведь Борис Батуев известен был в Воронеже не только тем, что он главный редактор телевидения. А все, словно сговорились, молчат о самом главном, что было в жизни Бориса. О том высоком взлете в юности и страшной его и нашей трагедии, которые озарили всю его жизнь. «Заговор молчания» нарушил я. Что я сказал? — Борис был по-настоящему сильным человеком. Еще в юности он сумел повести за собой людей к возвышенному, светлому идеалу. Пусть это была юношеская романтика, пусть сейчас почему-то нельзя говорить об этом. Но почему нельзя? Зачем у нас шоры на глазах? Давайте отодвинем, снимем эти шоры и скажем вслух то, что знает каждый… Борис был руководителем организации… еще в юности. Можно об этом сказать? Конечно, можно. Нужно! Судьба Бориса жестока, но возвышенна. Была большая, смелая честность и высота в этом благородном порыве!.. Жизнь есть жизнь, и обо всем, что было в жизни Бориса Батуева, можно говорить, не боясь. Плохого, дурного в ней не было. И та часть жизни Бориса, о которой мы нынче так старательно умалчивали, была его высоким нравственным подвигом! В зале, а было на поминках человек сто, совсем стало тихо. О чем-то задумались офицеры. Глаза Чижова, который сидел напротив меня, были полны животного страха, словно он ждал, что сейчас взорвется под полом атомная бомба. — Толя! Прочитай, пожалуйста, стихотворение «Кострожоги». Его Боря очень любил, — попросила Аня. Я прочел «Кострожоги» и посвященное Борису стихотворение «Ты помнишь, мой друг? На окне занавеска…»Над белоснежным проспектом Революции в черном небе сияла одна-единственная яркая звезда. Это была звезда Бориса Батуева. — Да, это, конечно, Борькина звезда! — уверенно подтвердил мою мысль Юрий Киселев и добавил: — Знаешь, Толич, ты должен написать обо всем этом, о КПМ, о нашей юности. — Напишу, Юра. Обязательно напишу. Слава Богу! Я свой долг выполнил.
1988
СТИХОТВОРЕНИЯ
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ПАМЯТИ
Снег над соснами кру́жится, кру́жится. Конвоиры кричат в лесу… Но стихи мои не об ужасах. Не рассчитаны на слезу.И не призраки черных вышек У моих воспаленных глаз. Нашу быль все равно опишут, И опишут не хуже нас.
Я на трудных дорогах века, Где от стужи стыли сердца, Разглядеть хочу человека — Современника И борца.
И не надо бояться памяти Тех не очень далеких лет, Где затерян по снежной замети Нашей юности горький след.
Там, в тайге, Вдали от селения, Если боль от обид остра, Рисовали мы профиль Ленина На остывшей золе костра.
Там особою мерой меряли Радость встреч и печаль разлук. Там еще сильней мы поверили В силу наших рабочих рук.
Согревая свой хлеб ладонями, Забывая тоску в труде, Там впервые мы твердо поняли, Что друзей узнают В беде.
Как же мне не писать об этом?! Как же свой рассказ не начать?! Нет! Не быть мне тогда поэтом, Если я Смогу Промолчать!
1962
НАЧАЛО ПОЭМЫ
Начинаю поэму. Я у правды в долгу. Я решить эту тему По частям не смогу.Только в целом и полном Это можно понять. Только в целом — не больно Эту правду принять.
Как случилось такое, Понять не могу: Я иду под конвоем, Увязая в снегу.
Не в неволе немецкой, Не по черной золе. Я иду по советской, По любимой земле.
Не эсэсовец лютый Над моею бедой, А знакомый как будто Солдат молодой.
Весельчак с автоматом В ушанке большой, Он ругается матом До чего ж хорошо!
— Эй, фашистские гады! Ваш рот-перерот! Вас давно бы всех надо Отправить в расход!..
И гуляет по спинам Тяжелый приклад… А ведь он мой ровесник, Этот юный солдат.
Уж не с ним ли я вместе Над задачей сопел. Уж не с ним ли я песни О Сталине пел?
Про счастливое детство, Про родного отца… Где ж то страшное место, Где начало конца?
Как расстались однажды Мы с ним навсегда? Почему я под стражей На глухие года?..
Ой, не знаю, не знаю. Сказать не могу. Я угрюмо шагаю В голубую тайгу…
1962
ОТЕЦ
В серый дом Моего вызывали отца. И гудели слова Тяжелее свинца.И давился от злости Упрямый майор. Было каждое слово Не слово — топор.
— Враг народа твой сын! Отрекись от него! Мы расшлепаем скоро Сынка твоего!..
Но поднялся со стула Мой старый отец. И в глазах его честных Был тоже — свинец.
— Я не верю, — сказал он, Листок отстраня. — Если сын виноват, — Расстреляйте меня.
1962
СТИХИ
Когда мне было Очень-очень трудно, Стихи читал я В карцере холодном. И гневные, пылающие строки Тюремный сотрясали потолок:«Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда — все молчи!..»
И в камеру врывался надзиратель С испуганным дежурным офицером. Они орали: — Как ты смеешь, сволочь, Читать Антисоветские стихи!
1962
МОСКВА
Я в первый раз в Москву приехал Тринадцать лет тому назад. Мне в память врезан Скорбной вехой Тюрьмы облупленный фасад.Солдат конвойных злые лица. Тупик, похожий на загон… Меня в любимую столицу Привез «столыпинский» вагон.
Гремели кованые двери, И кто-то плакал в тишине… Москва!.. «Москва слезам не верит» — Пришли слова На память мне.
Шел трудный год пятидесятый. Я ел соленую треску. И сквозь железные квадраты Смотрел впервые на Москву.
За прутьями теснились кровли, Какой-то склад, Какой-то мост. И вдалеке — как капли крови — Огни родных кремлевских звезд.
Хотелось плакать от обиды. Хватала за душу тоска. Но, как и в древности забытой, Слезам не верила Москва…
Текла безмолвная беседа… Решетки прут пристыл к руке. И я не спал. И до рассвета Смотрел на звезды вдалеке.
И стала вдруг родней и ближе Москва в предутреннем дыму… А через день С гудком охрипшим Ушел состав — на Колыму…
Я все прошел. Я гордо мерил Дороги, беды и года. Москва — Она слезам не верит. И я не плакал Никогда.
Но помню я Квартал притихший, Москву в те горькие часы. И на холодных, синих крышах Скупые Капельки Росы…
1962—1963
СНЫ
Семь лет назад я вышел из тюрьмы. А мне побеги, Всё побеги снятся… Мне шорохи мерещатся из тьмы. Вокруг сугробы синие искрятся.Весь лагерь спит, Уставший от забот, В скупом тепле Глухих барачных секций. Но вот ударил с вышки пулемет. Прожектор больно полоснул по сердцу.
Вот я по полю снежному бегу. Я задыхаюсь, Я промок от пота. Я продираюсь с треском сквозь тайгу, Проваливаюсь в жадное болото.
Овчарки лают где-то в двух шагах. Я их клыки оскаленные вижу. Я до ареста так любил собак. И как теперь собак я ненавижу!..
Я посыпаю табаком следы. Я по ручью иду, Чтоб сбить погоню. Она все ближе, ближе. Сквозь кусты Я различаю красные погоны…
Вот закружились снежные холмы… Вот я упал. И не могу подняться. …Семь лет назад я вышел из тюрьмы, А мне побеги, Всё побеги снятся…
1962—1963
«ЛЕТЕЛИ ГУСИ ЗА УСТЬ-О́МЧУГ…»
Летели гуси за Усть-О́мчуг, На индигирские луга, И все отчетливей и громче Дышала сонная тайга.И захотелось стать крылатым, Лететь сквозь солнце и дожди, И билось сердце под бушлатом, Где черный номер на груди.
А гуси плыли синим миром, Скрываясь в небе за горой. И улыбались конвоиры, Дымя зеленою махрой.
И словно ожил камень дикий, И всем заметно стало вдруг, Как с мерзлой кисточкой брусники На камне замер бурундук.
Качалась на воде коряга, Светило солнце с высоты. У белых гор Бутугычага Цвели полярные цветы…
1963
БУРУНДУК
Раз под осень в глухой долине, Где шумит Колыма-река, На склоненной к воде лесине Мы поймали бурундука.По откосу скрепер проехал И валежник ковшом растряс, И посыпались вниз орехи, Те, что на зиму он запас.
А зверек заметался, бедный, По коряжинам у реки. Видно, думал: «Убьют, наверно, Эти грубые мужики».
— Чем зимой-то будешь кормиться? Ишь ты, Рыжий какой шустряк!.. — Кто-то взял зверька в рукавицу И под вечер принес в барак.
Тосковал он сперва немножко, По родимой тайге тужил. Мы прозвали зверька Тимошкой, Так в бараке у нас и жил.
А нарядчик, чудак-детина, Хохотал, увидав зверька: — Надо номер ему на спину. Он ведь тоже у нас — зека!..
Каждый сытым давненько не был, Но до самых теплых деньков Мы кормили Тимошу хлебом Из казенных своих пайков.
А весной, повздыхав о доле, На делянке под птичий щелк Отпустили зверька на волю. В этом мы понимали толк.
1963
ЗАБЫТЫЙ СЛУЧАЙ
Забытый случай, дальний-дальний, Мерцает в прошлом, как свеча… В холодном БУРе на Центральном Мы удавили стукача.Нас было в камере двенадцать. Он был тринадцатым, подлец. По части всяких провокаций Еще на воле был он спец.
Он нас закладывал с уменьем, Он был «наседкой» среди нас. Но вот пришел конец терпенью, Пробил его последний час.
Его, притиснутого к нарам, Хвостом начавшего крутить, Любой из нас одним ударом Досрочно мог освободить.
Но чтоб никто не смел сознаться, Когда допрашивать начнут, Его душили все двенадцать, Тянули с двух сторон за жгут…
Нас «кум» допрашивал подробно, Морил в «кондее», сколько мог, Нас били бешено и злобно, Но мы твердили: «Сам подох…»
И хоть отметки роковые На шее видел мал и стар, Врач записал: «Гипертония» — В его последний формуляр.
И на погосте, под забором, Где не росла трава с тех пор, Он был земельным прокурором Навечно принят под надзор…
Промчались годы, словно выстрел… И в память тех далеких дней Двенадцатая часть убийства Лежит на совести моей.
1964
«МНЕ ПОМНИТСЯ РУДНИК БУТУГЫЧАГ…»
В. ФилинуМне помнится Рудник Бутугычаг И горе У товарищей в очах.
Скупая радость, Щедрая беда И голубая Звонкая руда.
Я помню тех, Кто навсегда зачах В долине, Где рудник Бутугычаг.
И вот узнал я Нынче из газет, Что там давно Ни зон, ни вышек нет.
Что по хребту До самой высоты Растут большие Белые цветы…
О, самородки Незабытых дней В пустых отвалах Памяти моей!
Я вас ищу, Я вновь спешу туда, Где голубая Пыльная руда.
Привет тебе, Заброшенный рудник, Что к серой сопке В тишине приник!
Я помню твой Густой неровный гул. Ты жизнь мою тогда Перевернул.
Привет тебе, Судьбы моей рычаг, Серебряный рудник Бутугычаг!
1964
Я БЫЛ НАЗНАЧЕН БРИГАДИРОМ
Я был назначен бригадиром. А бригадир — и царь и бог. Я не был мелочным придирой, Но кое-что понять не мог.Я опьянен был этой властью. Я молод был тогда и глуп… Скрипели сосны, словно снасти, Стучали кирки в мерзлый грунт.
Ребята вкалывали рьяно, Грузили тачки через край. А я ходил над котлованом, Покрикивал: — Давай! Давай!..
И может, стал бы я мерзавцем, Когда б один из тех ребят Ко мне по трапу не поднялся, Голубоглаз и угловат.
— Не дешеви! — сказал он внятно, В мои глаза смотря в упор, И под полой его бушлата Блеснул Отточенный Топор!
Не от угрозы оробел я, — Там жизнь всегда на волоске. В конце концов, дошло б до дела — Забурник был в моей руке.
Но стало страшно оттого мне, Что это был товарищ мой. Я и сегодня ясно помню Суровый взгляд его прямой.
Друзья мои! В лихие сроки Вы были сильными людьми. Спасибо вам за те уроки, Уроки гнева И любви.
1964
ПОЭТ
Его приговорили к высшей мере. А он писал, А он писал стихи. Еще кассационных две недели, И нет минут для прочей чепухи.Врач говорил, Что он, наверно, спятил. Он до утра по камере шагал. И старый, Видно, добрый надзиратель, Закрыв окошко, тяжело вздыхал…
Уже заря последняя алела… Окрасил строки горестный рассвет. А он просил, чтоб их пришили к делу, Чтоб сохранить.
Он был большой поэт. Он знал, что мы отыщем, Не забудем, Услышим те прощальные шаги. И с болью в сердце прочитают люди Его совсем не громкие стихи…
И мы живем, Живем на свете белом, Его строка заветная жива: «Пишите честно — Как перед расстрелом. Жизнь оправдает Честные слова…»
1964
ЭПОХА
Что говорить. Конечно, это плохо, Что жить пришлось от жизни далеко. А где-то рядом гулко шла эпоха. Без нас ей было очень нелегко.Одетые в казенные бушлаты, Гадали мы за стенами тюрьмы: Она ли перед нами виновата, А может, больше виноваты мы?..
Но вот опять веселая столица Горит над нами звездами огней. И все, конечно, может повториться. Но мы теперь во много раз умней.
Мне говорят: «Поэт, поглубже мысли! И тень, И свет эпохи передай!» И под своим расплывчатым «осмысли» Упрямо понимают «оправдай».
Я не могу оправдывать утраты, И есть одна Особенная боль: Мы сами были в чем-то виноваты, Мы сами где-то Проиграли Бой.
1964
«ПОЛЫННЫЙ БЕРЕГ, МОСТИК ШАТКИЙ…»
Полынный берег, мостик шаткий. Песок холодный и сухой. И вьются ласточки-касатки Над покосившейся стрехой.Россия… Выжженная болью В моей простреленной груди. Твоих плетней сырые колья Весной пытаются цвести.
И я такой же — гнутый, битый, Прошедший много горьких вех, Твоей изрубленной ракиты Упрямо выживший побег.
1965
«ВСПОМИНАЮТСЯ ЧЕРНЫЕ ДНИ…»
Вспоминаются черные дни. Вспоминаются белые ночи. И дорога в те дали — короче, Удивительно близко они.Вспоминается мутный залив. На воде нефтяные разводы. И кричат, И кричат пароходы, Груз печали на плечи взвалив.
Снова видится дым вдалеке. Снова ветер упругий и жесткий. И тяжелые желтые блестки На моей загрубевшей руке.
Я вернулся домой без гроша… Только в памяти билось и пело И березы дрожащее тело, И костра золотая душа.
Я и нынче тебя не забыл. Это с той нависающей тропки, Словно даль с голубеющей сопки, Жизнь открылась До самых глубин.
Магадан, Магадан, Магадан! Давний символ беды и ненастья. Может быть, не на горе — На счастье Ты однажды судьбою мне дан?..
1966
ПАМЯТИ ДРУГА
В. Радкевичу
1
Ушел навсегда… А не верю, не верю! Все кажется мне, Что исполнится срок — И вдруг распахнутся Веселые двери, И ты, как бывало, Шагнешь на порог…Мой друг беспокойный! Наивный и мудрый, Подкошенный давней Нежданной бедой, Ушедший однажды В зеленое утро, Холодной двустволкой Взмахнув за спиной.
Я думаю даже, Что это не слабость — Уйти, Если нет ни надежды, Ни сил. Оставив друзьям Невеселую радость, Что рядом когда-то Ты все-таки жил…
А солнце над лесом Взорвется и брызнет Лучами на мир, Что прозрачен и бел… Прости меня, друг мой, За то, что при жизни Стихов я тебе Посвятить не успел.
Вольны мы спускаться Любою тропою. Но я не пойму До конца своих дней, Как смог унести ты В могилу с собою Так много святого Из жизни моей.
2
Холодное сонное желтое утро. Летят паутинки в сентябрьскую высь. И с первых минут пробуждается смутно Упругой струною звенящая мысль.Тебя вспоминать на рассвете не буду. Уйду на озера, восход торопя. Я все переплачу И все позабуду, И в сердце как будто не будет тебя.
Останется только щемящая странность От мокрой лозы на песчаном бугре. Поющая тонкая боль, Что осталась В березовом свете на стылой заре.
1966
ПРАВДА
Кто додумался правду На части делить И от имени правды Неправду творить?Это тело живое — Не сладкий пирог, Чтобы резать и брать Подходящий кусок.
Только полная правда Жива и права. А неполная правда — Пустые слова.
1966
«ГОЛУБЕЕТ ОСЕННЕЕ ПОЛЕ…»
Памяти Б. БатуеваГолубеет осеннее поле, И чернеет ветла за рекой. Не уйти от навязчивой боли Даже в этот прозрачный покой.
Потемнела, поблекла округа — Словно чувствует поле, что я Вспоминаю погибшего друга, И душа холодеет моя.
И кусты на опушке озябли, И осинник до нитки промок. И летит над холодною зябью Еле видимый горький дымок.
1970
ДОРОГА
Ю. КиселевуВсе меньше друзей Остается на свете. Все дальше огни, Что когда-то зажег… Погода напомнила Осень в Тайшете И первый на шпалах Колючий снежок.
Погода напомнила Слезы на веках. Затронула в сердце Больную струну… Давно уж береза На тех лесосеках Сменила Спаленную нами сосну.
И тонкие стебли Пылающих маков Под насыпью ветер Качает в тиши. Прогоны лежнёвок И стены бараков Давно уже сгнили В таежной глуши.
Дорога, дорога… Последние силы Злодейка цинга Отнимала весной. И свежим песочком Желтели могилы На черных полянах За речкой Чуной.
Зеленые склоны Да серые скалы. Деревья и сопки, Куда ни взгляни. Сухие смоленые Черные шпалы — Как те незабытые Горькие дни.
Дорога, дорога По хвойному лесу. Холодная глина И звонкая сталь… Кому-то стучать Молотком по железу. Кому-то лететь В забайкальскую даль.
Дорога, дорога. Стальные колеса. Суровая веха В тревожной судьбе. Кому-то навеки Лежать у откоса. Кому-то всю жизнь Вспоминать о тебе.
1973
«СОЛОВЕЦКАЯ ЧАЙКА ВСЕГДА ГОЛОДНА…»
Соловецкая чайка Всегда голодна. Замирает над пеною Жалобный крик. И свинцовая Горькая катит волна На далекий туманный Пустой материк.А на белом песке — Золотая лоза. Золотая густая Лоза-шелюга. И соленые брызги Бросает в глаза, И холодной водой Обдает берега.
И обветренным Мокрым куском янтаря Над безбрежием черных Дымящихся вод, Над холодными стенами Монастыря Золотистое солнце В тумане встает…
Только зыбкие тени Развеянных дум. Только горькая, стылая, Злая вода. Ничего не решил Протопоп Аввакум. Все осталось как было. И будет всегда.
Только серые камни Лежат не дыша. Только мохом покрылся Кирпичный карниз. Только белая чайка — Больная душа — Замирает, кружится И падает вниз.
1973
КОЛЫМСКАЯ ПЕСНЯ
Я поеду один К тем заснеженным скалам, Где когда-то давно Под конвоем ходил. Я поеду один, Чтоб ты снова меня не искала, На реку Колыму Я поеду один.Я поеду туда Не в тюремном вагоне И не в трюме глухом, Не в стальных кандалах, Я туда полечу, Словно лебедь в алмазной короне, — На сверкающем «Ту» В золотых облаках.
Четверть века прошло, А природа все та же — Полутемный распадок За сопкой кривой. Лишь чего-то слегка Не хватает в знакомом пейзаже — Это там, на горе, Не стоит часовой.
Я увижу рудник За истлевшим бараком, Где привольно растет Голубая лоза. И душа, как тогда, Переполнится болью и мраком И с небес упадет — Как дождинка — слеза.
Я поеду туда Не в тюремном вагоне И не в трюме глухом, Не в стальных кандалах. Я туда полечу, Словно лебедь в алмазной короне, — На сверкающем «Ту» В золотых облаках…
1974
ИЗ БОЛЬНИЧНОЙ ТЕТРАДИ
Ничего не могу и не значу. Словно хрустнуло что-то во мне. От судьбы получаю впридачу Психбольницу — К моей Колыме.Отчужденные, странные лица. Настроение — хоть удушись. Что поделать — такая больница И такая «веселая» жизнь.
Ничего, постепенно привыкну. Ну а если начнут донимать, Оглушительным голосом крикну: —Расшиби вашу в Сталина мать!
Впрочем, дудки! Привяжут к кровати. С этим делом давно я знаком. Санитар в грязно-белом халате Приголубит в живот кулаком.
Шум и выкрики как на вокзале. Целый день — матюки, сквозняки. Вон уже одного привязали, Притянули в четыре руки.
Вот он мечется в белой горячке — Изможденный алкаш-инвалид: — Расстреляйте, убейте, упрячьте! Тридцать лет мое сердце болит!
У меня боевые награды, Золотые мои ордена… Ну, стреляйте, стреляйте же, гады! Только дайте глоточек вина…
Не касайся меня, пропадлина!.. Я великой Победе помог. Я ногами дошел до Берлина И приехал оттуда без ног!..
— Ну-ка, батя, кончай горлопанить! Это, батя, тебе не война!.. — Отключите, пожалуйста, память Или дайте глоточек вина!..
Рядом койка другого больного. Отрешенно за всей суетой Наблюдает глазами святого Вор-карманник по кличке Святой.
В сорок пятом начал с «малолетки». Он Гулага безропотный сын. Он прилежно глотает таблетки: Френолон, терален, тизерцин.
Только нет, к сожалению, средства, Чтобы жить, никого не коря, Чтоб забыть беспризорное детство, Пересылки, суды, лагеря…
Гаснут дали в проеме оконном… Психбольница, она — как тюрьма. И слегка призабытым жаргоном Примерещилась вдруг Колыма…
…От жестокого времени спрячу Эти строки в худую суму. Ничего не могу и не значу И не нужен уже никому.
Лишь какой-то товарищ неблизкий Вдруг попросит, прогнав мелюзгу: — Толик, сделай чифир по-колымски!.. Это я еще, точно, смогу.
Все смогу! Постепенно привыкну. Не умолкнут мои соловьи. Оглушительным голосом крикну: — Ни хрена, дорогие мои!..
1975
КАЛИНА
На русском Севере — Калина красная, Края лесистые, Края озерные. А вот у нас в степи Калина — разная, И по логам растет Калина черная.Калина черная На снежной замети — Как будто пулями Все изрешечено. Как будто горечью Далекой памяти Земля отмечена, Навек отмечена.
Окопы старые Закрыты пашнями. Осколки острые Давно поржавели. Но память полнится Друзьями павшими, И сны тревожные Нас не оставили.
И сердцу видится Доныне страшная Войной пробитая Дорога торная. И кровью алою — Калина красная. И горькой памятью — Калина черная.
Калина красная Дроздами склевана. Калина черная Растет — качается. И память горькая, Печаль суровая Все не кончается, Все не кончается…
1976
«ЖИЗНЬ! НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ…»
Жизнь! Нечаянная радость. Счастье, выпавшее мне. Зорь вечерняя прохладность, Белый иней на стерне.И война, и лютый голод. И тайга — сибирский бор. И колючий, жгучий холод Ледяных гранитных гор.
Всяко было, трудно было На земле твоих дорог. Было так, что уходила И сама ты из-под ног.
Как бы ни было тревожно, Говорил себе: держись! Ведь иначе невозможно, Потому что это — жизнь.
Все приму, что мчится мимо По дорогам бытия… Жаль, что ты неповторима, Жизнь прекрасная моя.
1976
«КРЕЩЕНИЕ. СОЛНЦЕ ИГРАЕТ…»
В. М. РаевскойКрещение. Солнце играет. И нету беды оттого, Что жизнь постепенно сгорает — Такое вокруг торжество!
И елок пушистые шпили, И дымная прорубь во льду… Меня в эту пору крестили В далеком тридцатом году.
Была золотая погодка, Такой же играющий свет. И крестною матерью — тетка, Девчонка пятнадцати лет.
И жребий наметился точный Под сенью невидимых крыл — Святой Анатолий Восточный Изгнанник и мученик был.
Далекий заоблачный житель, Со мной разделивший тропу, Таинственный ангел-хранитель, Спасибо тебе за судьбу!
За годы терзаний и болей Не раз я себя хоронил… Спасибо тебе, Анатолий, — Ты вправду меня сохранил.
1976
«ЧЕРНЫЙ ВОРОН, БЕЛЫЙ СНЕГ…»
Б. ОкуджавеЧерный ворон, белый снег. Наша русская картина. И горит в снегу рябина Ярче прочих дальних вех.
Черный ельник, белый дым. Наша русская тревога. И звенит, звенит дорога Над безмолвием седым.
Черный ворон, белый снег. Белый сон на снежной трассе. Рождество. Работать — грех. Но стихи — работа разве?
Не работа — боль души. Наше русское смятенье. Очарованное пенье — Словно ветром — в камыши.
Словно в жизни только смех, Только яркая рябина, Только вечная картина: Черный ворон, белый снег.
1978
«МОЙ БЕДНЫЙ МОЗГ, МОЙ ХРУПКИЙ РАЗУМ…»
Мой бедный мозг, мой хрупкий разум, Как много ты всего хранишь! И все больнее с каждым разом Тревожно вслушиваться в тишь.В глухую тишь безмолвной думы, Что не отступит никогда, Где, странны, пестры и угрюмы, Живут ушедшие года.
Там все по-прежнему, как было. И майский полдень, и пурга. И друга черная могила, И жесткое лицо врага…
Там жизнь моя войной разбита На дальнем-дальнем рубеже… И даже то, что позабыто, Живет невидимо в душе.
Живет, как вербы у дороги, Как синь покинутых полей, Как ветер боли и тревоги Над бедной родиной моей.
1980
«МАРТА, МАРТА! ВЕСЕННЕЕ ИМЯ…»
Марта, Марта! Весеннее имя. Золотые сережки берез. Сопки стали совсем голубыми. Сушит землю последний мороз.И гудит вдалеке лесосека. Стонет пихта, и стонет сосна… Середина двадцатого века. Середина Сибири. Весна.
По сухим по березовым шпалам Мы идем у стальной колеи. Синим дымом, подснежником талым Светят тихие очи твои.
Истекает тревожное время Наших кратких свиданий в лесу. Эти очи и эти мгновенья Я в холодный барак унесу…
Улетели, ушли, отзвучали Дни надежды и годы потерь. Было много тоски и печали, Было мало счастливых путей.
Только я не жалею об этом. Все по правилам было тогда — Как положено русским поэтам — И любовь, и мечта, и беда.
1980
«ОБЛОЖИЛИ, КАК ВОЛКА, ФЛАЖКАМИ…»
Обложили, как волка, флажками, И загнали в холодный овраг. И зари желтоватое пламя Отразилось на черных стволах.Я, конечно, совсем не беспечен. Жалко жизни и песни в былом. Но удел мой прекрасен и вечен — Все равно я пойду напролом.
Вон и егерь застыл в карауле. Вот и горечь последних минут. Что мне пули? Обычные пули. Эти пули меня не убьют.
1981
БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ
Дворянский род Раевских, герба Лебедь, выехал из Польши на Московскую службу в 1526 г. в лице Ивана Степановича Раевского. Раевские служили воеводами, стольниками, генералами, офицерами-добровольцами в балканских странах, боровшихся против османского ига.По энц. сл. Брокгауза и Ефрона, т. 51
Ян Стефанович Раевский, Дальний-дальний пращур мой! Почему кружится лебедь Над моею головой?
Ваша дерзость, Ваша ревность, Ваша ненависть к врагам. Древний род! Какая древность — Близится к пяти векам!
Стольники и воеводы… Генерал… И декабрист. У него в лихие годы — Путь и страшен, и тернист.
Генерал — герой Монмартра И герой Бородина. Декабристу вышла карта Холодна и ледяна.
Только стуже не завеять Гордый путь его прямой. Кружит, кружит белый лебедь Над иркутскою тайгой.
Даль холодная сияет. Облака — как серебро. Кружит лебедь и роняет Золотистое перо.
Трубы грозные трубили На закат и на восход. Всех Раевских перебили, И пресекся древний род —
На равнине югославской, Под Ельцом и под Москвой — На германской, На гражданской, На последней мировой.
Но сложилося веками: Коль уж нет в роду мужчин, Принимает герб и знамя Ваших дочек Старший сын.
Но не хочет всех лелеять Век двадцатый, век другой. И опять кружится лебедь Над иркутскою тайгой.
И легко мне с болью резкой Было жить в судьбе земной. Я по матери — Раевский. Этот лебедь — надо мной.
Даль холодная сияет. Облака — как серебро. Кружит лебедь и роняет Золотистое перо.
1986
ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ
Имею рану и справку.Я полностью реабилитирован. Имею раны и справки. Две пули в меня попали На дальней, глухой Колыме. Одна размозжила локоть, Другая попала в голову И прочертила по черепу Огненную черту.Б. Слуцкий
Та пуля была спасительной — Я потерял сознание. Солдаты решили: мертвый — И за ноги поволокли. Три друга мои погибли. Их положили у вахты, Чтоб зеки шли и смотрели — Нельзя бежать с Колымы.
А я, я очнулся в зоне. А в зоне добить невозможно. Меня всего лишь избили Носками кирзовых сапог. Сломали ребра и зубы. Били и в пах, и в печень. Но я все равно был счастлив — Я остался живым.
Три друга мои погибли. Больной, исхудалый священник, Хоть гнали его от вахты, Читал над ними Псалтирь. Он говорил: «Их души Скоро предстанут пред Богом. И будут они на небе, Как мученики — в раю».
А я находился в БУРе. Рука моя нарывала, И голову мне покрыла Засохшая коркой кровь. Московский врач-«отравитель» Моисей Борисович Гольдберг Спас меня от гангрены, Когда шансы равнялись нулю.
Он вынул из локтя пулю — Большую, утяжеленную, Длинную — пулеметную — Четырнадцать грамм свинца. Инструментом ему служили Обычные пассатижи, Чья-то острая финка, Наркозом — обычный спирт.
Я часто друзей вспоминаю: Ивана, Игоря, Федю. В глухой подмосковной церкви Я ставлю за них свечу. Но говорить об этом Невыносимо больно. В ответ на расспросы близких Я долгие годы молчу.
1987
Главному редактору журнала «Знамя» Г. Я. Бакланову
Письмо оставшихся в живых членов КПМ, проживающих в г. Воронеже Главному редактору журнала «Знамя» Г. Я. БаклановуДорогой Григорий Яковлевич! С большим волнением и радостью прочли мы в 7 и 8 номерах Вашего журнала автобиографическую повесть нашего товарища Анатолия Жигулина «Черные камни». О повести (особенно о первой части, опубликованной в седьмом номере, да и об окончании второй части ее — в восьмом номере журнала) мы можем говорить как свидетели и участники описываемых событий. Все в повести правильно, честно, откровенно, можно сказать даже: документально. И становление КПМ, и ее работа, и, наконец, наиболее трагическая часть общей нашей судьбы — следствие 1949—1950 гг. — описаны автором со скрупулезной точностью: избиения («поиски „пятого угла“»), пытки лишением сна, коварные, недозволенные приемы следствия — все это было. И было именно так, как это описано А. Жигулиным в повести. Абсолютно точно дан портрет Аркадия Чижова (настоящее его имя и фамилия нам, конечно, известны). В повести имеются и мелкие фактические ошибки, вполне простительные, учитывая давность описываемых событий и никак не умаляющие значение труда Анатолия Жигулина. Мы напишем автору письмо, и он их исправит[34]. Мы хотим подчеркнуть, что практически документальная повесть Анатолия Жигулина имеет не только литературную, но и важную историческую ценность. Сердечно благодарим Вас и всю редколлегию и редакцию журнала «Знамя» за повесть Анатолия Жигулина «Черные камни». Мы считаем эту публикацию важным и глубоко гражданственным шагом журнала «Знамя» и вторым своим рождением. С глубоким уважением и признательностью Юрий Киселев, Вячеслав Рудницкий, Николай Стародубцев, Василий Туголуков, Иван Широкожухов, Александр Селезнев, Евгений Миронов, Иван Сидоров, Давид Буденный.
г. Воронеж, 5 августа 1988 г.
Присоединяюсь к подписавшимся, Игорь Струков. г. Москва, 1 сентября 1988 г.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
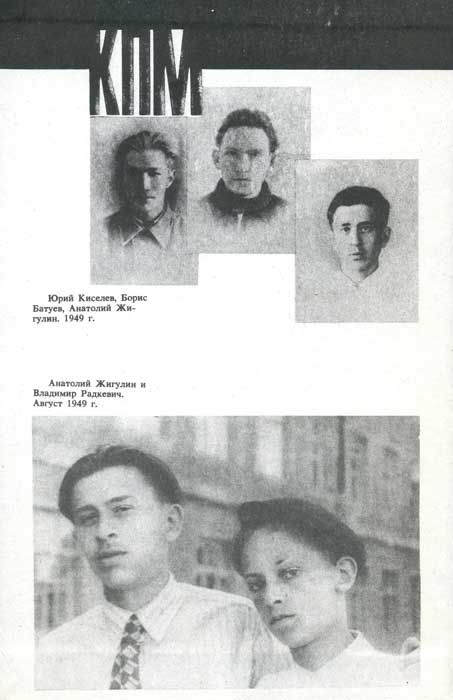
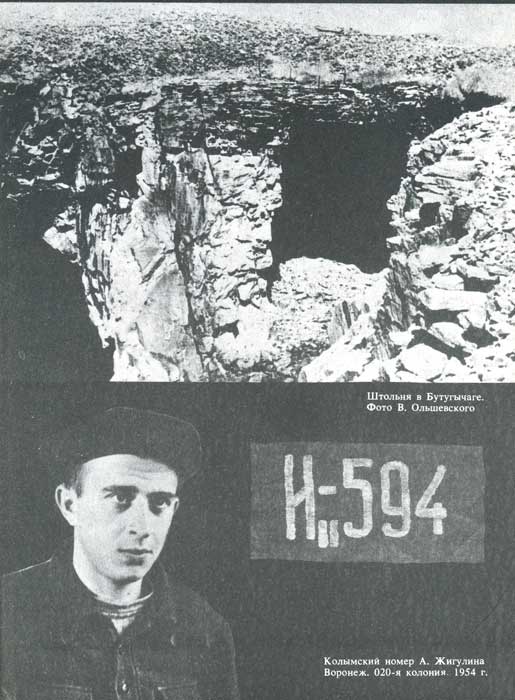
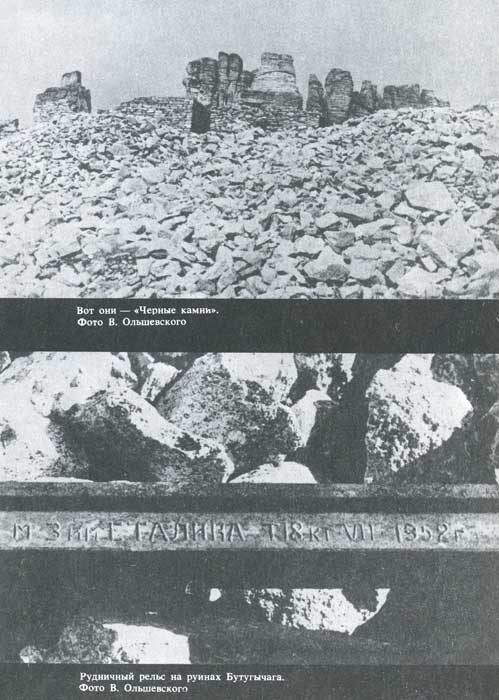
 (Опечатка в книге: последнее фото — 21 июля 1954 года.)
(Опечатка в книге: последнее фото — 21 июля 1954 года.)
Последние комментарии
6 минут 5 секунд назад
1 час 59 минут назад
2 часов 50 секунд назад
2 часов 26 минут назад
6 часов 16 минут назад
6 часов 22 минут назад