[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (91) »
Александр Стесин Рассеяние
Новое литературное обозрение
Москва
2024
Серия «Художественная словесность» Редактор серии — Д. Ларионов
В оформлении обложки использованы фотографии исторического поезда из Стокгольма в Гётеборг. 07 мая 1962 г. Фотограф: John Hylterskog / Järnvägsmuseet. 08 мая 1962 г. Фотограф: Seved Walther / Järnvägsmuseet.
© А. Стесин, 2024 © Н. Агапова, дизайн обложки, 2024 © ООО «Новое литературное обозрение», 2024
* * *
Часть первая
Глава 1. Воронеж — Москва
— Мамку-то твою как звать? — Марина. — А папку? — Миша. — Миша? — Женщина глядит с недоверием. — А по отчеству? — Исаакович. — Ах, Иса-а-а-а-акович… — Да. И мама тоже Исааковна! — Ну да, у вас там небось все Исааковичи. — И бабушка. Бабушка — Неся Исааковна. Мы ее называем Неля. А вот дедушка — не Исаакович. Дедушка Исаак Львович. Больница под Воронежем, инфекционная палата, вода, пахнущая одновременно хлоркой и дизентерией. У меня тоже дизентерия. Заразился в пансионатной столовой на папин тридцать шестой день рождения. Мне, стало быть, семь. Через полтора месяца исполнится восемь. Все мое детство летние каникулы означали отдых с родителями и большой компанией их друзей. Пярну, Геленджик, Чебаково озеро под Волгоградом. А на этот раз — никакой компании, отпуск втроем. Мама, папа и я. Предвестье того, что будет потом, на другом конце света, где тоже ни друзей, ни родни, только мы, the three of us, а дальше я вырасту, обзаведусь собственной семьей, и три превратится в два. Отпуск вдвоем, праздники вдвоем, я — далеко. Далеко и сейчас: в палате, куда не пускают, потому что мне уже семь, должен быть самостоятельным, большой уже мальчик. Соседи — мамы с грудничками, это они расспрашивают про отчество. Палата на десять человек, у всех кишечная палочка. Последнее, что помню перед затмением, — папино лицо, когда мы сидели в приемном покое. Он смотрел на меня полными страха глазами, и мне подумалось, что лицо у него зимнее, как бывало в снежном лесу, где мы с ним катались на лыжах, и все дело, видимо, в этом: вокруг лето, жара, а лицо зимнее — пылающее и бледное. Хотя пылал я, а не он. А он то и дело прикладывал руку к моему лбу: температура за сорок. Прости, папочка, что испортил тебе день рождения. С утра открыли банку красной икры, которую специально привезли с собой из Москвы. Праздничный завтрак — это обычный пансионатский завтрак плюс икра. Из столовки в нашу избушку (каждой семье отведен отдельный домик) возвращался на ватных ногах. «С утра уже был ватный», — докладывал папа санитарам скорой помощи. Зимнее лицо, а звуки все приглушенные, в ушах — тоже вата. Хуже всего пахнет от рукомойника в коридоре. Утомительный запах болезни. Сосущий, как боль в желудке. От рукомойника он распространяется по всему коридору, а оттуда проникает в палату. Так мне кажется, хоть я и понимаю, что дело не в рукомойнике: это просто запах больничной воды. «Ну, чего тут маячишь?» — раздражается медсестра. Для нее пациент — полный ноль. Ноль с кишечной палочкой. Палата — на десять человек, но каждое койко-место здесь занято сразу двоими, дизентерийным грудничком и его родительницей, с любопытством поглядывающей на жиденка в правом углу, перешептывающейся с другими мамашами: «Из Москвы, говорит… евреи… это евреи…» На третий день последнюю пустующую койку занимает двенадцатилетний парень из соседней деревни. Его подобрали на базаре: потерял сознание. Про него тоже шепчутся. «Тяжелый случай». Я не знаю, насколько тяжелый, но с его появлением мне становится легче, потому что он сразу берет на себя роль старшего друга и сиделки. Развлекает меня несмешными анекдотами и неприличными историями, которые он называет сказками. По ночам, когда я плачу и зову маму, он всегда просыпается, садится на край моей койки. «Ну чего ты ревешь, как маленький? Ты ж не маленький, ты же большой. Вот смотри, какая машинка. Мы на ней к твоей мамке поедем. Поедем? Ну вот. А ты ревешь…» Эта машинка — общего пользования. Мне строго-настрого запрещено трогать больничные игрушки, они — источник заразы. А ему, видимо, можно, для него эти игрушки опасности не представляют. И так ведь уже подхватил все что можно. Тяжелый случай. Смуглая кожа. Нет, не смуглая, просто давно не мылся. В деревне квартир с санузлами нету. Общественная баня, парилка, шайки. Я был в такой, когда гостил на даче у дяди Сени в Малаховке. Нет-нет, в такой, как у них, я точно не был. У них в деревне баня — всем баням баня. Мы туда тоже на этой машинке поедем. Ночью я стараюсь плакать тихо, чтобы его не будить, но он сразу просыпается, встает по первому всхлипу. «Ну чего ты, чего ты…» Когда меня выпишут и я расскажу маме о своем опекуне, она ответит растроганно-сентенциозно: «Знаешь, в глухих деревнях такие люди часто встречаются. Добрые, отзывчивые. Или раньше --">- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (91) »
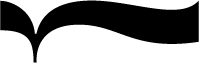
Последние комментарии
8 часов 25 минут назад
9 часов 16 минут назад
20 часов 42 минут назад
1 день 14 часов назад
2 дней 4 часов назад
2 дней 7 часов назад