[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

Манук Мнацаканян ВИСОКОСНЫЙ ГОД
МАТРИАРХАТ
Перевод А. Ханбабяна
 Мать говорила:
— До каких же пор может так продолжаться?
Сона отвечала матери:
— И как ты только не устаешь от этих разговоров? Каждый раз одно и то же…
Мать говорила:
— Ты сама мать, должна понимать такие вещи… Разве могу я молчать?
— Что ж с того? — равнодушно отвечала Сона. — От разговоров ничего не изменится.
— Не может быть, чтобы такой девушкой, как ты, никто не заинтересовался.
— Девушкой!.. — усмехнулась Сона. — А с детьми как прикажешь быть?
— Ты свое счастье найди, — в голосе матери звучали деловые нотки, — а уж за детьми я присмотрю.
— Ах, мама, мама, — улыбалась Сона, — нынче и девушки-то не могут своего счастья найти, а на меня и смотреть не станут.
— Искать надо! — продолжала настаивать мать. — Счастье, оно само не придет…
— Что же мне делать?! — взрывалась наконец Сона. — Повесить на грудь объявление, что, мол, так вот и так, муж у меня умер, осталась я одна с тремя детьми на руках, пожалейте, возьмите меня такую. Так, что ли?!
— Не знаю, не знаю… Какая у тебя жизнь? Из дому на работу, с работы домой, и так — круглый год. Нельзя же так…
— А что мне еще остается? — вздыхала Сона. — Больше у меня нет ничего в жизни.
— Вот об этом я и толкую. Искать надо.
— У меня есть только дети, работа, ты…
— А ведь ты еще так молода! — хмурилась мать.
— Молода… — горько усмехалась Сона. — Для тебя молода, это верно.
— Будет тебе! — сердилась мать. — Тридцать лет — это не возраст. Ты еще вчерашний ребенок.
— Это только для тебя я ребенок, пойми же наконец, для тебя! Для других я просто стареющая вдова…
— Ох, ослепнуть бы этим другим… Не видят они, что ли?
— В том-то и дело, что отлично все видят.
— Неужели только это и видят? — никак не могла успокоиться мать. — А красоты твоей, фигуры, осанки не видят, а?
— Ну, скажем, увидели, — Сона нервно брала сигарету, — что ж, я так и пойду из дому, прихватив детей?
— Ну, если попадется хороший человек… Почему бы и нет?
— Эх, зря только переливаем из пустого в порожнее, воду в ступе толчем.
Мать умолкла. Губы ее начинали предательски дрожать, на глазах выступали слезы.
Обычно такие разговоры начинались поздними вечерами, когда дети давно уже спали, когда смолкали улицы, когда в серванте неизвестно почему вдруг начинали позванивать хрустальные бокалы и взгляды матери и дочери случайно — а может, так хотелось матери? — встречались.
Мать говорила:
— До каких же пор может так продолжаться?
Сона отвечала матери:
— И как ты только не устаешь от этих разговоров? Каждый раз одно и то же…
Мать говорила:
— Ты сама мать, должна понимать такие вещи… Разве могу я молчать?
— Что ж с того? — равнодушно отвечала Сона. — От разговоров ничего не изменится.
— Не может быть, чтобы такой девушкой, как ты, никто не заинтересовался.
— Девушкой!.. — усмехнулась Сона. — А с детьми как прикажешь быть?
— Ты свое счастье найди, — в голосе матери звучали деловые нотки, — а уж за детьми я присмотрю.
— Ах, мама, мама, — улыбалась Сона, — нынче и девушки-то не могут своего счастья найти, а на меня и смотреть не станут.
— Искать надо! — продолжала настаивать мать. — Счастье, оно само не придет…
— Что же мне делать?! — взрывалась наконец Сона. — Повесить на грудь объявление, что, мол, так вот и так, муж у меня умер, осталась я одна с тремя детьми на руках, пожалейте, возьмите меня такую. Так, что ли?!
— Не знаю, не знаю… Какая у тебя жизнь? Из дому на работу, с работы домой, и так — круглый год. Нельзя же так…
— А что мне еще остается? — вздыхала Сона. — Больше у меня нет ничего в жизни.
— Вот об этом я и толкую. Искать надо.
— У меня есть только дети, работа, ты…
— А ведь ты еще так молода! — хмурилась мать.
— Молода… — горько усмехалась Сона. — Для тебя молода, это верно.
— Будет тебе! — сердилась мать. — Тридцать лет — это не возраст. Ты еще вчерашний ребенок.
— Это только для тебя я ребенок, пойми же наконец, для тебя! Для других я просто стареющая вдова…
— Ох, ослепнуть бы этим другим… Не видят они, что ли?
— В том-то и дело, что отлично все видят.
— Неужели только это и видят? — никак не могла успокоиться мать. — А красоты твоей, фигуры, осанки не видят, а?
— Ну, скажем, увидели, — Сона нервно брала сигарету, — что ж, я так и пойду из дому, прихватив детей?
— Ну, если попадется хороший человек… Почему бы и нет?
— Эх, зря только переливаем из пустого в порожнее, воду в ступе толчем.
Мать умолкла. Губы ее начинали предательски дрожать, на глазах выступали слезы.
Обычно такие разговоры начинались поздними вечерами, когда дети давно уже спали, когда смолкали улицы, когда в серванте неизвестно почему вдруг начинали позванивать хрустальные бокалы и взгляды матери и дочери случайно — а может, так хотелось матери? — встречались.
Инженер по технике безопасности Рубен Бадалян крепко поспорил с начальником электроцеха. Один электрик включил сварочный аппарат и, разбрасывая вокруг снопы искр, принялся резать трубу. Рубен неспешно подошел к нему, положил руку на плечо и миролюбиво сказал: — Ты же права такого не имеешь — работать со сварочным аппаратом. Зачем нарушаешь порядок? — Шел бы ты отсюда подальше… — ответил электрик. — Послушай, нельзя же так. Запрещено, понимаешь? Если что случится, кто будет отвечать? — И откуда ты только на мою голову взялся? — электрик лишь на мгновение приподнял голову и тут же вновь склонился над трубой. — Хоть бы ведро воды поставил рядом, что ли… Ведь пожар может начаться. Что тогда будет, подумал? — Выходит, не разрешаешь? Ну и не надо, мне это до лампочки! — взвился электрик. Отложив аппарат и защитную маску, он побежал жаловаться начальнику цеха. — Куда это ты вдруг сорвался? — крикнул ему вслед Рубен. — Вот ведь люди, а? Слова им не скажи… Он достал сигарету, размял, поглядел по сторонам — никак не мог решить, что ему теперь делать. Тут из своего кабинета вышел начальник электроцеха. — Ты бы лучше не совал свой нос куда не просят! — Спокойно, — ответил Рубен, — спокойно. — А мы, между прочим, не такие бездельники, как ты, нам не с руки всегда быть спокойными, — повысил голос начальник цеха. Стоявший рядом электрик фыркнул, прикрыв рот ладонью, и это рассердило Рубена. — Ты слишком много на себя не бери! Он не имеет права работать со сварочным аппаратом. И я не позволю… Начальник цеха саркастически хмыкнул. — Он, видите ли, не позволит! Иди делай свое дело, — обратился он к электрику. — Мы еще посмотрим, кто это тут не позволит! Электрик, нагло ухмыльнувшись в лицо Рубену, схватил маску и аппарат. Брызнули искры. Рубен бросился к нему и обеими ногами встал на трубу, наполовину уже разрезанную: — Не дам! — Саботируешь? — заорал начальник цеха. — Я их уламываю, прошу, кое-как удается вытянуть работу, а ты, па-а-анимаешь, саботируешь, да?! — Саботирую? — повторил Рубен и, не сдержавшись, рассмеялся. — И откуда ты только такие слова берешь? — Я тебе покажу, откуда что берется, — потянул его за рукав начцеха. — Пошли к главному! Рубен освободил руку, и они зашагали по цеху. В последний момент Рубен заметил, что электрик вновь принялся за свое, но не обернулся, чтобы не мелочиться. Главный инженер разговаривал с начальником отдела снабжения. Начцеха, видно, выглядел слишком взволнованным: когда они с Рубеном вошли в кабинет, главный инженер оборвал разговор на полуслове и с тревогой спросил: — Что-то случилось? — Ничего не случилось, просто дело в том… — начал было Рубен, но начцеха кинулся к столу главного: — Что может случиться! Ничего не может случиться! А этот путается под ногами, не дает работать! — Электрик не сдавал экзамена на сварщика и не имеет права браться за аппарат, — объяснил Рубен. — Эх, Бадалян! — оживился начальник отдела снабжения. — Если все только по правилам делать, никакую работу с места не сдвинешь. — Все ясно, — сказал главный инженер и обратился к начальнику электроцеха: — Ты иди работай. Когда монтаж кончишь? — Скоро уже. «Не имеет права»! — передразнил Рубена начцеха и, фыркнув, вышел из кабинета. — Кто будет отвечать, если что-нибудь случится? — спокойно спросил Рубен, переминаясь с ноги на ногу. — Мы будем отвечать. — Главный инженер закурил, прищурил от дыма глаза. — Я и ты. — Но ведь нельзя же так… — Запретить легко, проследил бы лучше, чтобы люди вовремя сдали экзамен, — ответил главный и обернулся к начальнику отдела снабжения: — Так что там у тебя? Рубен понял, что разговор окончен, вышел из кабинета, медленно направился через сборочный цех в свою комнатку. Включив снаружи свет, он вошел и прикрыл за собой дверь. Каморку Рубена лишь с натяжкой можно было назвать отдельным кабинетом. Здесь не было окон, а в углу торчал из стены кран. Видимо, здесь должны были храниться веники и ведра уборщиц. Эту-то каморку и переделали в кабинет по технике безопасности: поставили стол и два стула, развесили по стенам плакаты, показывающие, как оказать первую помощь пораженному током, утопающему, что делать в случае ядерного удара, и еще другие картонные и жестяные таблички, что-то запрещающие или приказывающие. Рубен присел к столу, оперся подбородком о ладонь, посидел так немного. Он уже забыл и недавний спор с начальником электроцеха, и разговор у главного и теперь находился в состоянии глубокого безразличия. Кран был неисправен, и тонкая струйка воды присоединяла свое журчание к жужжанию дросселя лампы дневного света. Откуда-то снаружи послышался девичий смех, но тут же, удалившись, смолк. Рубен очнулся, достал из ящика стола кофейник и спиртовку, принялся варить кофе. По комнатке поплыл запах сухого спирта. Рубен Бадалян считался на заводе старым работником. После окончания института его оформили мастером электроцеха, но характер у него оказался слишком мягким для такой должности. Рабочие быстро раскусили его и перестали слушаться. Начальство сперва полагало, что все это от неопытности, со временем, мол, научится. Потом стало ясно, что мастер из него никакой, и Рубена перевели в конструкторское бюро. Здесь он сделал несколько интересных рацпредложений, но их надо было оформить как полагается, для этого нужно было долго и кропотливо чертить, а чертить он не любил. Предложения так и не были внедрены, после чего заведующий конструкторским бюро и порекомендовал назначить Бадаляна инженером по технике безопасности. Назначили его на новую должность и в первый же день кличку придумали: Безопасный Рубен. Работа эта особого горения не требовала, никак не была связана с выполнением плана и не диктовала напряженного ритма, а потому нравилась Рубену. Он приходил на завод с опозданием, направлялся в свою каморку, пил кофе, если была охота — решал сложные шахматные задачи, если нет — выходил, лениво бродил по цехам, беседовал с рабочими. На перерыв обязательно шел в столовую и плотно обедал. Его там любили, а может, и жалели, во всяком случае, старались подложить кусочек пожирнее да повкуснее. Жил Рубен один, семьи у него не было. Если повар бывал не особенно занят, он непременно заводил с Рубеном разговор: — Ты бы женился, что ли. Хоть дома бы обедал. — Вот еще… Небось женатые не больно-то довольны, — пожимал плечами Рубен. После обеда он заглядывал в библиотеку, брал журнал по радиотехнике, возвращался к себе и запоем читал до конца рабочего дня. Радиотехника была страстью Рубена, он мог часами изучать какую-нибудь особенно запутанную схему, медленно водя карандашом, искать в ней изюминку, а когда, случалось, находил новое решение — не мог сдержать радости. Тогда он вскакивал со стула, закуривал, шагая по комнате взад и вперед, снова подходил к схеме и, вглядываясь в нее, постукивая карандашом по какому-нибудь узлу, приговаривал: — Молодец, Рубен-джан! И как они сами до этого не дошли, а? Другой бы на его месте, наверное, сразу бы послал это самое новое решение в редакцию журнала и с нетерпением стал бы дожидаться ответа, но Рубену такое и в голову не приходило. Он в одиночестве радовался своему успеху, пока не встречал новую, еще более сложную задачу. Зазвонил телефон. Оторвав взгляд от поверхности стола, Рубен поднял трубку: — Ну… — Послушай, а если тебе директор позвонит? А ты нукаешь! — Директор… — слабо улыбнулся Рубен. — Скажи еще — министр. — Ты отвечай хотя бы — «Безопасный Рубен слушает!». — Знаешь, ты лучше скорей выкладывай, что там у тебя, а то кофе вот-вот сбежит. — Ты чем вечером занят? — Ничем… Приходи, в шахматы сыграем. — Приду. Но не один. Сечешь? — Подожди-ка, кофе сбежит. — Рубен протянул руку, снял кофейник с огня и поставил его на черный, обгорелый — наверное, как раз из-за этого самого кофейника — край стола. — Говорю — не один буду. Девушка просто ангел. Хочу ей показать, во что ты превратил свою квартиру. А то я рассказываю, а она не верит. — Было бы чему не верить… — не без самодовольства заметил Рубен. — Да разве такому поверишь? Значит, договорились? Мы к тебе обязательно заглянем. — Хорошо, — согласился Рубен. — Только ты потом не проси меня выйти погулять. — Не буду. Выпить с собой захватить или у тебя найдется? — Найдется. — Рубен положил трубку и сказал телефону: — Хочешь принести — так неси, чего зря спрашиваешь, жмот ты этакий, сукин сын!
…Виноваты ли были в этом крики ласточек, весело носившихся в небе, теплый ли весенний вечер, властно зовущий из дому, а может, облокотившись о подоконник, Сона слишком долго смотрела из окна на гуляющих по улице красивых девушек, — как бы то ни было, ее неудержимо потянуло из дому. Решение пришло как-то сразу. Она вошла в спальню, открыла дверцу гардероба. Перед глазами стояли недавно зазеленевшие деревья, беспечные девушки-красавицы… Сона заторопилась переодеваться. — Сона! — позвала мать. Она еще раз оглядела себя в зеркале и пошла на кухню. Мать мыла посуду. На столе еще стояли грязные тарелки с остатками обеда, валялись ложки и вилки, виднелись крошки хлеба. Со двора слышны были детские крики и смех. Мать, не оборачиваясь, сказала: — Давай, пока есть горячая вода, выкупаем младшую. Сона ответила не сразу. Кукушка, выглянув из часов, прокуковала семь раз. — Я ухожу, — сказала Сона, — выкупаем завтра. — Куда это? — обернулась к ней мать. В ее взгляде мелькнуло удивление, рука повисла, и с пальцев на пол закапала мыльная вода. — В парикмахерскую, — кокетливо тряхнув головой, ответила Сона. — А что, нельзя? «Смеется надо мной», — подумала мать, но вслух сказала: — Почему же нельзя, разве я тебе когда-нибудь запрещала?.. Сона почувствовала, как ощущение весны и радости начинает покидать ее. Еще одно мгновение, и она бы просто вернулась в комнату, надела бы старенький халат и жизнь опять пошла бы давно заведенным порядком. А ей хотелось убежать из дому, убежать от самой себя. — Когда вернешься? — крикнула ей вслед мать и услышала стук захлопнувшейся двери.
Ей пришлось высидеть большую очередь в парикмахерской. Раньше, когда у нее был свой мастер, она просто звонила ему и договаривалась заранее, а потом, придя точно в назначенное время, важно проходила мимо очереди, усаживалась в кресло и вскоре выходила из парикмахерской с самой модной прической. Сейчас, дожидаясь своей очереди, она вспоминала эти деньки и печально провожала взглядом женщин, которые гордо и уверенно, не спрашивая, кто последний, проходили прямо в салон. Несколько раз она даже собиралась встать и уйти, но так и осталась сидеть. Кто знает, о чем она думала в это время, может быть, о том, что сейчас, весной, после долгого затворничества, в ней снова пробуждается женщина. Когда Сона наконец вышла из парикмахерской, уже темнело, на улице зажглись фонари. Еще сидя в удобном кресле, она придирчиво оглядела себя в зеркале и осталась довольна собой: в глазах вновь зажегся огонек, после смерти мужа, казалось, погасший навсегда. И вот теперь, медленно идя по улице, она удивлялась тому, как все вокруг привычно и обыденно. Троллейбус, как всегда, остановился, не доехав до остановки — сорвалась штанга, — и люди бежали, чтобы успеть втиснуться в него; на крыше здания напротив мелькнула безвкусная старомодная реклама, от которой, впрочем, осталась лишь половина; по улице сновали автомобили, стоял бензиновый чад, а прогуливающиеся по тротуарам девушки были не так уж и красивы. И вряд ли кому-нибудь из тех, кто шел сейчас рядом с Сона, обгонял ее, спеша и толкаясь, пришло бы в голову, что рядом идет женщина, которая не в силах была усидеть в четырех стенах и которой кажется сейчас, что все вокруг смотрят на нее, и потому походка ее независима и горда, грудь слегка выставлена вперед, взгляд неподвижен. Сона перешла улицу. У магазина минеральных вод какой-то мальчишка, совсем еще сопляк, что-то бросил ей вслед, но она не обратила на него внимания, даже слов не расслышала, и очнулась от забытья, лишь когда перед ней выросла как из-под земли цыганка, прижимающая к себе грудного малыша. — Дай бог твоим детишкам счастья и здоровья, красавица, подай, золотая, денежку. Сона остановилась как вкопанная. Сердце ее на миг замерло, а потом гулко застучало, как будто рвалось из груди. — Подай, красивая, ради твоих детей, — цыганка настойчиво протягивала руку. Ребенок у нее на руках беспокойно заворочался и запищал. Нет, теперь уже не было для Сона бесконечного неба, в котором стрелой пролетали быстрые ласточки, она уже не ощущала аромата весны. Не чувствовала тех неясных желаний, которые заставили ее выбежать из дома. Как же могло это случиться? Как могла она забыть о своих обязанностях, забыть о детях?! К чему может привести этот неожиданный порыв, это бессмысленное стремление убежать от самой себя?.. — Сейчас, подожди, — сказала Сона. Она быстро нашла в сумочке мелочь, протянула монету цыганке и, оглядевшись вокруг, поняла, что зашла довольно далеко, сама того не замечая. Сона повернулась и побежала. Совсем недавно такая гордая, привлекательная и независимая, она смешалась с уличным потоком, сразу растворившись в нем. — Что с тобой? — окаменела мать, увидев на пороге тяжело дышавшую Сона. — Где дети? — Спят уже. Сона бросилась в комнату, опустилась на колени у детской кроватки, стала исступленно целовать малышей. — Что случилось? — спрашивала мать, совершенно опешив. — Что с тобой? — Оставь меня в покое! — рыдания душили Сона. Резким движением она растрепала аккуратную прическу. — Оставь меня!
После работы Рубен зашел в магазин, взял колбасы, яиц, сыра и отправился домой. Для человека, живущего бобылем, у него была довольно удобная квартира: большая комната, просторная кухня. В комнате стояли книжный шкаф, гардероб, стол, стулья, широкая кровать и телевизор. Словом, ничего лишнего и необычного, а тем более — странного. Странно выглядели, пожалуй, только светильники в четырех углах потолка и вделанный в стену деревянный бочонок. Кухня была поделена шторами на две части. За шторами, в уютном уголке стоял большой самодельный стол с многочисленными выдвижными ящиками и ящичками. На столе был установлен маленький токарный станок. Прямо над станком на стене аккуратно висели многочисленные разнообразные инструменты. Чуть правее красовалась начерченная от руки и испещренная пометками сложная схема. Она была старательно обведена разноцветными чернилами. По всему было видно, что этот уголок за шторами — самое любимое место хозяина квартиры. Рубен приготовил яичницу, с аппетитом съел ее, положил колбасу и сыр в холодильник, а в освободившуюся бумагу завернул яичную скорлупу. Подойдя к стене, он нажал кнопку. В стене отворилась незаметная с первого взгляда дверца, откуда выдвинулась резиновая лента, напоминающая транспортер. Лента плавно двигалась к мусоропроводу. Рубен положил сверток на ленту, и мусор уплыл в дверцу, которая медленно закрылась. Он взял сигарету и только собрался закурить, как позвонили в дверь. — Ну конечно! Ты должен был прийти именно сейчас, — усмехнулся Рубен. — Небось вечером жена тебя из дому не выпустит. Он отворил. За дверью стояли высокий, худощавый, довольно симпатичный парень лет тридцати и девушка двадцати — двадцати двух лет. — А вот и наш Безопасный Рубен! — заявил с порога парень, расплывшись в улыбке. — Вардан… — начал было Рубен укоризненно, но Вардан, не дав ему досказать и слегка подталкивая свою спутницу, уже протиснулся в дверь и громко объявил: — Видишь, какого гостя я к тебе привел! — Здравствуйте, — робко сказала девушка. Она, видимо, стеснялась. — Здравствуйте, — ответил Рубен, разглядывая ее. Девушка ему понравилась: по плечам сбегали густые волосы цвета спелой пшеницы, в глазах светился озорной огонек. К тому же знакомая Вардана была хорошо сложена. — Нора, — представилась она, протянув Рубену руку. — Ты его не стесняйся, — заметил Вардан. — Совершенно безопасный человек. — Он обнял Рубена за плечи, притянул к себе, чтобы Рубен не успел обидеться. — Ну, Норочка, сейчас ты увидишь такие чудеса! — Какие там чудеса, обычное дело… — пробормотал Рубен, освобождаясь от объятий приятеля. — Норочка, когда входишь с улицы в дом, надо вымыть руки, верно? Так что ты иди умойся, — обратился Вардан к девушке. Нора неуверенно взглянула на Рубена. — Нечего его разглядывать, иди мой руки, я же ясно сказал. Первая дверь, — кивнул Вардан в сторону ванной. — Кончай выпендриваться! — нахмурился Рубен. — По-твоему, забота о гигиене — это выпендреж?! — деланно возмутился Вардан. — Иди, детка, мой руки, а я после умоюсь. Девушка пожала плечами и, растерянно улыбаясь, подошла к двери. Она заметила, что ручки на двери нет, протянула было руку, чтобы толкнуть ее, но дверь вдруг отворилась сама собой. Одновременно в ванной зажегся свет. Нора вскрикнула как ужаленная и отскочила назад. — Вот, вот! А я что говорил! — в восторге от произведенного эффекта завопил Вардан. Нора, видно, здорово испугалась. Она с досадой посмотрела на хохочущего Вардана и сдержанно улыбающегося Рубена, с обиженным видом отошла в сторону и бросила: — Да ну вас… — Постой! — схватил ее за руку Вардан. — Так не пойдет. К этому всему привыкнуть надо. — Мне ничего не надо. — Иди, иди, — Вардан потянул ее за руку и подвел к двери, которая опять послушно открылась. — Пошли-ка теперь вместе, а то ты, чего доброго, снова испугаешься… Они вошли в ванную, и дверь автоматически закрылась за ними. Послышалось удивленное воркование девушки и приглушенный бас Вардана. — Эх, Вардан, Вардан, — Рубен, улыбаясь, покачал головой. — У самого жена, дети, а он… Он наконец закурил, вошел в комнату, развалился в кресле и со вкусом затянулся. Чуть погодя Вардан с Норой вышли из ванной. — Здесь ты еще не то увидишь, — говорил Вардан девушке. — Со временем, конечно… — при этом он подмигнул Рубену. — А не выпить ли нам, ребята? Рубен, не вставая с кресла, протянул руку к стене и нажал на кнопку. Шторы затянули окна, и в комнате стало темно и очень уютно. Бочонок в стене сам собой повернулся, превратившись в бар, зазвучала музыка, и в такт ей светильники под потолком заиграли всеми цветами радуги. — Вот это да! Сказка! — не сдержавшись, восторженно сказала Нора. — Подходящих рюмок у меня нет, придется пить из чашек, — заявил Рубен. Пока хозяин доставал на кухне чашки, Вардан прижался к девушке и стал ее целовать. — Я же говорил, что здесь тебе будет хорошо, — вставил он между поцелуями. Вошел Рубен. Девушка сразу же отстранилась от Вардана, села в кресло. — Вам водки или шампанского? — спросил Рубен. — Шампанского, — ответил Вардан. — Да, не таким бы бутылкам стоять в этом баре… Ты не поверишь, все свои деньги он тратит на эту ерунду, — продолжал он, обводя комнату рукой. — Это вовсе не ерунда, — сказала Нора, и Рубену стало приятно. — Это сказка. — Сказка — это ты, — Вардан поднял чашку и на миг умолк, как бы собираясь с мыслями. — Нынче, правда, не принято говорить сентиментальных слов, — начал он, — но как прожить человеку в этом мире без романтики? Все вокруг такие деловые, такие сухие… И стоит встретить светлое пятно среди этой окружающей тебя серости, как уже тянешься к нему, хочешь все время вращаться вокруг этого светлячка, порхать, как мотылек вокруг лампы… Так выпьем же за свет моей жизни, за тебя, дорогая, — он галантно прикоснулся краем своей чашки к чашечке Норы и выпил. — А в моей жизни светлое пятно — это Рубен, — ответила Нора, взглянув при этом прямо в глаза Рубену. — Нора! — Вардан шутливо погрозил ей пальцем. — Ваше здоровье! — она мягко улыбнулась Рубену и отпила глоток. — Я сейчас, — добавила девушка и вышла в коридор. Музыка зазвучала глуше, одновременно погасли и переливы света на стенах. — Всем говоришь одно и то же, — пробормотал Рубен. — Что — одно и то же? — Да насчет сентиментальности, романтики и порхающих мотыльков. — А что мне еще говорить? — искренне удивился Вардан. — Я же не поэт, чтобы для каждой придумывать что-нибудь новое. — И как они только верят тебе… — Так ведь именно такие заумные разговоры и надо травить, чтобы не дать им прийти в себя. Учу я тебя, учу — все без толку. Вернулась Нора с какой-то коробкой в руках. — Это мармелад, — сказала она Рубену. — Любите? — Ему что! — вмешался Вардан. — Что ни дай — все съест. Сейчас мы выпьем за его здоровье. — За хозяина пьют в конце, — заметил Рубен. — Считай, что сегодня я в этом доме хозяин. — Вардан взглянул на часы. — Тебе ведь надо уходить. Ну ничего, ты иди, а мы тут с Норой похозяйничаем. — Ни в коем случае! — запротестовала Нора. — Рубен никуда не уйдет. — А я говорю — ему надо уходить. — Если он уйдет, я ни минуты здесь не останусь. — Вот тебе раз! — удивился Вардан. — Тебе что, здесь не понравилось? — Наоборот, очень понравилось. — Так в чем дело? — Именно в этом, — ответила Нора. — Дайте сигарету, пожалуйста. Рубен протянул ей пачку, дал прикурить и сказал: — Не беспокойтесь. Никуда я не уйду.
— Стало быть, желаете произвести квартирный обмен? — спросил Даниелян. — Да, — улыбнулась в ответ Сона, но ее улыбка погасла, встретившись с тусклым, безжизненным взглядом собеседника. — И если возможно, поскорее… — прошептала она. — Понятно, — уперев взгляд в лежавшие перед ним бумаги, отозвался Даниелян. Наступила тишина. За дверью послышался резкий, громкий голос секретарши, которая спорила с посетителями, дожидавшимися своей очереди. Сона глубоко и облегченно вздохнула, вспомнив, что изматывающее ожидание осталось позади. Пока Даниелян изучал ее документы, Сона краем глаза оглядела его кабинет: со вкусом выкрашенные стены, дорогая дорожка от самой двери до стола, два кондиционера в окне. Сона подумала даже, что это на случай, если один из них испортится. — Вы не замужем? Сона встрепенулась, перевела взгляд на Даниеляна. Его лицо уже не было так безжизненно и равнодушно. — Нет. — Так, — улыбнулся он. — И что же дальше? — Дальше? — Сона смутилась под его ощупывающим и оценивающим взглядом. — Ничего, вот прошу как можно скорее дать разрешение на обмен. — Дорогая, — широко улыбнулся Даниелян, — вы же не лук на базаре покупаете, вы квартиру меняете, верно? — Квартиру, — растерянно кивнула она. — Вот видите. Ваш райсовет возражений не имеет? — Нет. — А я лично возражал бы. Разве можно отпускать от себя такую красавицу на жительство в другой район! Женский инстинкт подсказал Сона, что пора немного пококетничать. — А вы разве не рады этому? — улыбнулась она. — Я же хочу перейти в ваш район. — Одной моей радости еще мало… — Что же мешает, товарищ Даниелян? — Сколько вам лет? — неожиданно спросил он. — Тридцать. — Я ведь ненамного старше вас. Можете звать меня просто Гарник. — Даниелян накрыл своей ладонью руку Сона. — Договорились? Сона отдернула руку: — Я так не привыкла. — А вот для того, чтобы привыкнуть, нам с вами надо почаще встречаться, — как бы между прочим сказал Даниелян. — Так сколько у вас человек в семье? — Я и трое детей. У нас две комнаты. И у мамы своя однокомнатная квартира. — Дети большие? — Там же все написано, — указывая на лежащие перед ним бумаги, сказала Сона. — Старшему уже восемь, одной дочке — пять, а другой — три. — А вашей матушке? — Шестьдесят семь. — Хотите обменять на трехкомнатную и жить вместе? — Да. — Вы разведены? — Нет. Муж скончался. — От болезни? — Разбился в автокатастрофе. — И давно? — Месяц назад исполнилось три года. — Младшей, наверное, могло бы и не быть… — что-то подсчитав про себя, заметил Даниелян. — Рискнули все-таки… — Ребенок ведь не виноват, что отец погиб. — Сочувствую вам, — Даниелян на минуту умолк, затем, постукивая пальцем по бумаге, продолжал: — Ваш вопрос не так-то просто решить. — Почему? — Сона была неприятно удивлена. — Мы вам сдаем три комнаты и получить хотим тоже три. Полагаю, что сложностей тут не должно быть. — Полагаете? А вот тут что написано? — он подчеркнул ногтем какую-то строку. — Сколько квадратных метров жилплощади вы сдаете? — Моя квартира тридцать четыре, да мамина двадцать, всего пятьдесят четыре квадратных метра. — А сколько получаете? — Шестьдесят пять. — Вот видите! Теперь вам понятно, в чем загвоздка? — развел руками Даниелян. — Я уже не говорю о том, что эта квартира в старом здании, потолки там высокие… — Но ведь другая сторона согласна. — Другая сторона на многое может согласиться, — сдержанно улыбнулся он. — Однако существует определенный порядок. — Вы не знаете, какой там нужен ремонт. А в нашу квартиру хоть сейчас вселяйся и живи. Даниелян закурил, затянулся, выдохнул дым и лишь тогда ответил: — Это к делу не относится и не принимается в расчет. — А что принимается? — растерялась Сона. — Так сразу и не скажешь… — Даниелян улыбнулся, и в его глазах вновь появилось оценивающее выражение. — Вы где работаете? — Руковожу группой в конструкторском бюро. — А сами похожи на актрису. Сона улыбнулась и потупилась. Она понимала, что кокетничает, но в то же время безошибочно чувствовала, что сейчас кокетство поможет делу. — Давайте договоримся так, — стукнув ладонью по столу, сказал Даниелян, переходя на деловой тон. — Бумаги ваши пусть пока останутся у меня. Вы могли бы подойти к концу рабочего дня? — В котором часу? — К шести. Сона немного подумала и ответила: — Пожалуй, смогу. — Значит, договорились. — Даниелян встал и проводил ее до дверей. Когда Сона наконец вернулась на работу, уже начался перерыв. Войдя в конструкторское бюро, она первым делом посмотрела в сторону стола, за которым сидел шеф. К счастью, начальника не было. Сона успокоилась. Одной рукой она прижимала к груди пузатый бумажный пакет, из которого выглядывали зеленые хвостики лука, в другой держала тяжелую кожаную сумку с продуктами. Сона прошла между кульманами, подошла к своему столу, положила сумку и, все еще не выпуская пакета, тяжело села, глубоко вздохнув. — Тебя спрашивали… Это сказала Лилит, сослуживица, сидящая позади Сона. Сона ничего не ответила, наклонилась, прислонила пакет к стене, достала платок, вытерла лицо и только после этого обернулась к подруге: — И что ему было нужно? — Спрашивал, куда ты ушла. — Как будто не знает! — Сона опять отвернулась, подняла сумку, положила рядом с пакетом. — Я же при тебе у него отпросилась. — Верно… — Так чего же ему еще надо? — она опять глубоко вздохнула. — Ты же знаешь его. Каждую минуту смотрел на часы и все спрашивал, куда это ты запропастилась. — Куда, куда! — взорвалась Сона. — Как увидела, что в райсовете ничего не получается, решила сходить на рынок. После работы времени не будет, надо опять в райсовет зайти. — Что купила? — поинтересовался пожилой лысый мужчина за соседним столом. — Я тоже хочу заглянуть на базар. — Он с аппетитом начал жевать бутерброд, который до этого держал в руке. — А почему ничего не получается? — спросила Лилит. — Потом скажу. Чертежи подписал? — Подписал. — Ты отдала их в копировальную? — Отдала. — Тархун, конечно, по пятьдесят копеек брала, зелень и лук тоже по пятьдесят, так ведь? — не унимался лысый. — Да, да… А когда чертежи отдадут, узнала? — Говорят, поставим на очередь… — То есть как это на очередь?! — вскипела Сона. — И вы тут так спокойно сидите? — возмущенно обернулась она к любителю бутербродов. — Я не сижу спокойно, товарищ Маркарян, — проглотив очередной кусок, стал оправдываться лысый. — Я пошел к главному — объяснил. Он вызвал копировальщиков к себе и выдал им… Сона вопросительно взглянула на Лилит. Та кивком подтвердила его слова и сказала: — Так что там у тебя насчет квартиры? — И не спрашивай! — вздохнула Сона. — Придется еще раз сегодня туда пойти, часам к шести. — А я после работы на рынок пойду, заявил лысый, убирая со стола хлебные крошки. — К концу дня там все дешевле. — Ты что-нибудь ела? — спросила Лилит. — Интересно, когда бы я успела? — пожала плечами Сона. Лилит достала из ящика своего стола кусок гаты, аккуратно завернутый в бумажку, положила перед подругой. — Ешь, это твоя доля. А он совсем озверел, приценился ко мне, — кивнула она в сторону стола, за которым сидел шеф. — Тебя-то за что? — Говорит, стоит Сона уйти, как и тебя не доищешься. — А ты выходила? — Да так, вышла в коридор поболтать и немного задержалась. — Болтушка ты у меня, — то ли в шутку, то ли всерьез вздохнула Сона. — Так ведь Србуи посылку из Парижа получила, — зашептала Лилит. — Лифчики. Мы с девочками примеряли. — Правильно и сделал, что озверел. Хоть купила что-нибудь? — Куда там! Самый большой размер — вот! — Лилит слегка развела пальцы, демонстрируя величину бюстгалтера. — А еще говорят — француженки! — Да… — Сона улыбнулась, покачивая головой. Затем, что-то вспомнив, обернулась к лысому: — Товарищ Акопян, если эта девушка и в понедельник не придет, ждать больше не будем, возьмем кого-нибудь другого. Мужчина ответил, но Сона уже не слушала его. Открылась дверь, и в комнату ввалились молодые ребята. — Ашот, — громко говорил один из них, — дело уже прошлое, но признавайся: когда последний гол забили, «вне игры» все-таки не было… — Да ты ешь, — напомнила Лилит. — Пойду сперва умоюсь, — ответила Сона и вышла из комнаты. Когда она вернулась, шеф уже сидел за своим столом. Это был скуластый худощавый мужчина лет пятидесяти в очках с толстыми стеклами. Над его столом висела фотография генерала Андраника. Сейчас фотография блестела на солнце. И было непонятно, какая связь между этим худым человеком в очках и отважным генералом. Сона хотела было незаметно проскользнуть к своему столу, но ей это не удалось. — Маркарян! — позвал шеф, не отрывая глаз от чертежа. В комнате было тихо. Все работали, склонившись над столами или стоя у кульманов. В тишине голос шефа прозвучал очень резко. Сона нехотя подошла к нему. — Принесли коэффициенты? — спросил он, по-прежнему не поднимая глаз. — Я была в райсовете… стала объяснять Сона. — И, между прочим, говорила вам, что должна туда зайти. — Чтобы завтра же все коэффициенты лежали на моем столе! — строго сказал шеф. — Учтите, я вам это говорю не между прочим. — Пусть кто-нибудь другой сходит, — нахмурилась Сона. — Вы же знаете, как я занята. — Занятой человек не станет часами рассиживаться во всяких там райсоветах. — Успокойтесь, — не уступала Сона. — Если будет нужно, я и дома поработаю. — Не знаю, не знаю, — сказал шеф. — Меня это не касается, завтра коэффициенты должны быть здесь. — Пошлите кого-нибудь другого. Там ведь только и дела, что переписать и принести. Неужели это так трудно? — Другим я не доверяю. Если цифры будут напутаны, снова придется все рассчитывать. — Очень нужно мне ваше доверие! — ответила Сона, резко повернулась и вышла из комнаты. Лилит выскользнула вслед за ней. — Чего он хотел? — Хотел слегка освежиться, — зло ответила Сона. — В каком смысле — освежиться? — Вот в таком. Человек же он в конце концов, имеет право хоть иногда отдохнуть, освежиться… — Да что ты говоришь загадками! — нетерпеливо заглядывая ей в глаза, сказала Лилит. Сона устало отвела взгляд, уставившись в одну точку. — Скажи, ты же знаешь, я никому… Сона еще немного помолчала, а потом, все с тем же отсутствующим видом, произнесла: — Когда погиб Айк… — Ну? — И месяца не прошло, вызывает меня наш начальник. Давай, говорит, вместе в командировку махнем, поедем, куда сама захочешь. Немного освежимся… — медленно, с презрительной улыбкой на губах говорила Сона. — Вай, да что ты!.. — Вот… А теперь он мне мстит. Затаил с той поры злобу. — А ты что ему ответила? — Сказала — бери свою жену и езжай, освежайся сколько вздумается. — А дальше что было? — Дальше сама видишь, он все трудные дела на меня валит. — Ну, ты работы не боишься, — ответила Лилит. — Сколько у него таких, как ты, сотрудников?.. — В том-то и дело, — помолчав, вздохнула Сона. — А он меня посылает из одного конца города в другой только для того, чтобы переписать и принести коэффициенты. Это же задание для ученика. — Пусть кто-нибудь другой поедет. — Ну, как же можно! Надо же меня погонять! Да и предлог очень уж подходящий. — Хочешь, я привезу, а ему скажем, что ты ездила? — предложила Лилит. — Не надо, я сама поеду, — сказала Сона и вошла в комнату.
Двое мужчин беседовали неподалеку от входа в райсовет. Сона вышла из такси, потупив взгляд, прошла рядом с ними и лишь потом сообразила, что один из них произнес ее фамилию. Она сперва растерялась, но, обернувшись, узнала Даниеляна. Он пожал своему собеседнику руку, простился с ним и подошел к Сона. — Ну конечно, вам-то что! Вы, наверное, уже успели забежать домой, пообедать, отдохнуть, а я… Черт со мной, так, что ли? — Извините, — растерялась Сона. — Я не домой… Пока взяла ребенка из садика, пока отвела… Опоздала, извините. — Причина уважительная, — улыбнулся Даниелян. — Значит, не обедали еще? — Какой там обед… — Тогда поехали, — сказал Даниелян и быстро зашагал к стоявшей под деревом машине. — Но ведь мы должны были выяснить… — Сона остановилась. — Вот я и говорю, поедем и все выясним, — ответил Даниелян, оборачиваясь к ней. Он открыл дверцу и галантно повел рукой: — Прошу! Сона заколебалась. — Вы лучше поторопитесь, — с улыбкой, но настойчиво сказал Даниелян. Сона подошла и села на заднее сиденье. Он захлопнул дверцу, сел за руль и завел мотор. — Куда мы едем? — Сейчас все узнаете, — Даниелян мягко тронул автомобиль с места, переключил скорость, повернул зеркальце заднего обзора так, чтобы видеть Сона. — В таких случаях я предпочитаю выехать куда-нибудь за город, найти спокойный уголок… — Что вы имеете в виду? В каких это «таких случаях»? — Сона не скрывала своего беспокойства. — Что имею в виду? — Даниелян улыбнулся. — Да просто хочу спокойно, по душам побеседовать с близким мне человеком. Заодно не грех будет перекусить слегка. — Я вовсе не голодна. — Если б я думал только о себе, то просто не стал бы вас ждать, — сухо ответил Даниелян. — Не желаете — могу отвезти вас домой. Сона, конечно, не хотела никуда ехать, но чувствовала, что отказ может привести к неприятностям с обменом, и сказала: — Только вернемся пораньше. Мне еще надо детей купать. — Это другое дело! — Даниелян нажал на акселератор, и машина пошла резвее. Что и говорить, знай Сона с самого начала, чем обернется приглашение Даниеляна зайти после работы, она бы не пришла. Но ведь и он не приглашал ее никуда, просто предложил подойти к шести часам. О том, что придется вместе обедать, Сона не могла и подумать. Женским чутьем она догадывалась, что вечером должно что-то произойти, только никак не могла понять, что именно. И сейчас, в машине, ее мучили разные вопросы: куда и зачем они едут, что задумал Даниелян, и если вопрос обмена оказался таким сложным, как же удастся его решить? От города отъехали недалеко. Даниелян остановил машину возле небольшой закусочной, расположенной поодаль от шоссе в тени ветвистых деревьев. — Минуточку! — сказал он, вышел из машины, заглянул в помещение и сразу вернулся. — Прошу вас… Даниелян уверенно прошел вперед, Сона пошла за ним. Они обошли закусочную и вошли во дворик. Здесь громоздились старые ящики с бутылками из-под пива и вина. Рядом стояла пустая собачья конура. Из крана лилась на землю струйка воды и, попетляв по земле, исчезала в траве. Через несколько шагов Сона заметила громадного страшного пса, который, даже не взглянув на них, лениво зевнул. — Здесь свободно, товарищ Даниелян, — сказала, выйдя им навстречу, краснощекая женщина в засаленном халате. — Знала бы, что вы заглянете, оставила бы вам другой кабинет… — Она смущенно улыбнулась и открыла какую-то дверь. — Прошу вас, — повторил Даниелян, пропуская Сона вперед. — Поторопись-ка, Вардуш. Сона вошла и огляделась. В маленькой комнате с единственным окном стояли лишь стол и два стула. Вынув из сумки сигареты, она села. — Вы, оказывается, курите? — оживился Даниелян. — Возьмите мои, они лучше, — он протянул ей пачку импортных сигарет. — Спасибо, я привыкла к своим, — строго ответила Сона. — Так с чего же начнем? — положив сигареты на стол и потирая руки, спросил он. — По-моему, все ясно, мне уже нечего добавить. — Дела не убегут, — улыбаясь, продолжал Даниелян. — Я говорю о еде. Жареная печенка, шашлык? Сона прикрыла глаза. В голове у нее почему-то вертелась фраза «степень гибкости». — Мне все равно… Вардуш подала закуски, марочный коньяк, минеральную воду, жареную печенку, от которой шел аппетитный запах. Большая черная муха влетела через открытую дверь в комнату и, жужжа, стала носиться над столом. По комнате распространялся аппетитный запах, и Сона, непроизвольно сглотнув, только теперь поняла, как она голодна. — Может, чего не хватает? — расставив по столу тарелки и по-прежнему смущенно улыбаясь, спросила Вардуш. — Выгони муху! — велел Даниелян. — Ах, чтоб ей пропасть, негодной! — Вардуш вытащила из кармана грязноватый лоскут, махнула несколько раз. Муха вылетела. Вардуш вышла, прикрыв за собой дверь. Сона не стала дожидаться, пока Даниелян начнет угощать ее, сама принялась за еду. Даниелян открыл коньяк и наполнил рюмки. — Вы будете пить? — удивилась Сона. — Немного. — Но вы ведь за рулем. — Я свою меру знаю. — Мой муж тоже так говорил. — Он был пьян, когда?.. — Да. — За наше знакомство! — Даниелян поднял рюмку, чокнулся с Сона и отпил глоток. Она тоже отпила немного и почувствовала, как по жилам побежало приятное тепло. Глядя в окно, она принялась есть. Верхушки тополей качались от ветерка, доносился приглушенный шелест листвы. Сона на миг забылась, прикрыв глаза, прислушивалась к шепоту деревьев. — Ваше здоровье! Она открыла глаза и вздохнула. — Не терпится вам? — спросил Даниелян. — Не терпится, верно… — грустно улыбнувшись, качнула головой. — Ну хорошо, — Даниелян вытер салфеткой рот. — Все, что я вам сейчас скажу, относится не только к вашему конкретному случаю, а ко всем подобным ситуациям. А потом уже поговорим и о вашем деле. — Я слушаю вас, — Сона отодвинула тарелку. — Значит, так. Когда меньшую площадь обменивают на большую, обычно возникает ряд вопросов. — Но число комнат ведь одинаковое… — Верно. Но есть трехкомнатные квартиры площадью не более сорока трех метров. А в вашем случае квартира намного больше — целых шестьдесят пять метров. — Ну и что? — Сона приготовилась спорить. — Видите ли, в таких случаях обменивающиеся стороны нередко вступают в сговор. Приплачивают за лишние метры. — Но у нас сговора нет. — Кто это докажет? — многозначительно улыбнулся Даниелян. — Нет, погодите, давайте на минутку забудем о нашем вопросе. Посмотрим лучше с другой точки зрения: каков состав семьи обменивающихся сторон? Государству выгодно, чтобы на большей площади проживала более многочисленная семья. — Разве семья из пяти человек считается малочисленной? — голос Сона задрожал от волнения… — Шестьдесят пять метров на пять человек — это многовато. Теперь рассмотрим возрастной фактор… — Не надо, — сказала Сона. — Можно кофе? — Вардуш! — позвал Даниелян. Вардуш вошла сразу же, как будто стояла за дверью. — Подай нам кофе. — А шашлык? Даниелян вопросительно взглянул на Сона. Она отрицательно покачала головой. — Не надо шашлыка, — сказал он. — Не получился у вас сегодня обед, — как-то по-домашнему сказала Вардуш и вышла, унося с собой грязные тарелки. — А разве не может случиться такого, чтобы обменивающиеся стороны вступили в сговор с лицом, разрешающим обмен? — спросила Сона с лукавой улыбкой. — Бывает. — Что же нужно делать в таком случае? — В таком случае находят человека, который берет на себя ответственность, и договариваются с ним. — А кто берет на себя ответственность в нашем случае? — Я. — И как же мы с вами договоримся? — Вы что, взятку мне предлагаете? — спросил Даниелян неожиданно строго. — Нет. Просто хочу понять, что вы от меня хотите. Даниелян закурил. Он помрачнел, и его мрачность подчеркивала воцарившееся в комнате тяжелое молчание. Вардуш принесла кофе. Ее медленное хождение по комнате, лай чем-то обеспокоенной собаки во дворе — все это только усугубляло неестественность положения. — А ведь вы меня еще плохо знаете, — наконец сказал Даниелян. — Нельзя же вот так просто, ни за что ни про что оскорблять человека. — Извините. Даниелян слегка отодвинулся от стола, закинул ногу за ногу и продолжал курить с прежним обиженным выражением на лице. — Чего вы ждете? — Вы же, если не ошибаюсь, должны купать детей? — А вы не будете пить кофе? — Нет! — отрезал Даниелян. Сона отодвинула от себя чашечку кофе и встала. — Вы идите пока к машине, я сейчас подойду. — сказал Даниелян и позвал: — Вардуш! На обратном пути они молчали. Сидя на заднем сиденье, Сона перебирала в памяти весь их разговор, пытаясь прийти к какому-нибудь выводу, но так ничего и не поняла. Когда Даниелян остановился у ее дома, она сказала, выходя из машины: — Так как же все это решится? — Приходите завтра в то же самое время, поговорим. — Боже мой, опять! — вздохнула она. — Если не сможете прийти, предупредите меня по телефону. — Даниелян протянул ей свою визитную карточку.
— Бадалян, тебя недавно секретарша спрашивала, — сказал начальник охраны, когда Рубен вошел в проходную завода. — Доброе утро, — ответил Рубен. — Что ей нужно? — Интересовалась, пришел ты или нет? А я сказал — не помню. Правильно сказал? — Правильно. — И то сказать, — похлопал Рубена по плечу сторож, — куда тебе спешить? — Проспал я сегодня… — Хороший человек, — заметил начальник охраны, когда Рубен ушел. — Тихий, безвредный. — Работа у него такая, вот он и безвредный, — скептически отозвался сторож. — Не скажи, — оживился начальник охраны. — Плохой человек, к какому делу его ни приставь, всегда найдет, как гадость другому сделать. Рубен прошел мимо Доски почета, где висели выцветшие фотографии передовиков, поздоровался с директорским шофером, который, стоя в тени деревьев, лениво лузгал семечки, вошел в здание конторы и поднялся на второй этаж. — Тебя Арутюнян спрашивал, — сообщила миловидная секретарша, увидев его. — Чего ему надо? — Рубен зевнул, почесывая подбородок. Секретарша тоже зевнула, да так широко, что на глазах выступили слезы. — Ах, Рубен, — сказала она, подавляя зевок, — стоит мне тебя увидеть, как сразу начинает в сон клонить. — Бывает… — улыбнулся он. — Послушай, а если у тебя дома пожар случится? Что будешь делать? Неужели даже не почешешься? — Когда случится, тогда и стану думать. — Кивнув в сторону двери главного инженера, Рубен спросил: — Есть у него кто-нибудь? — Никого, входи. Главный инженер что-то высчитывал на микрокалькуляторе. На скрип двери он приподнял голову, сказал: «Минуточку!» — и продолжал считать. Записав результат, он наконец обратил на Рубена внимание. — Звали? — Тебя?.. — Главный нахмурился, вспоминая. Потом на его лице появилось недовольное выражение, он досадливо протянул: — Э-э-э, — нажал на кнопку селектора и сказал секретарше: — Ты что же, Бадеяна от Бадаляна отличить не можешь? Я тебя кого просил найти? Бадеяна! А ты вызвала Бадаляна. Немедленно найди Бадеяна и пришли ко мне. Рубен повернулся, чтобы выйти. — Погоди, — остановил его главный. — Раз уж пришел, дам тебе задание. — Улыбнувшись, он с хитрецой посмотрел на Рубена. — Что дашь, если познакомлю тебя с одной красавицей? — Ничего не дам. — Я серьезно. — Красавица! — улыбнулся Рубен. — Бросьте вы эти свои шуточки. — Никаких шуток! Было бы время, я бы сам ею занялся, — с сожалением в голосе сказал главный. — Значит, так: пойдешь сейчас в конструкторское бюро, туда пришла по делу красивая девушка, скажешь ей, что это я тебя послал. Ясно? Поведешь ее в инструментальный цех, покажешь все, расскажешь, что будет нужно. Словом, займешь, пока вернется Манукян, даст ей какие-то там коэффициенты. Договорились? — Ладно, — пожал плечами Рубен. — Так чего ты встал, иди. Рубен хотел было еще что-то сказать, но тут зазвонил телефон. Арутюнян поднял трубку и через мгновение закричал: — Так какого черта? Вы о чем раньше думали?! Поняв, что теперь с ним не поговоришь, Рубен вышел из кабинета и отправился в конструкторское бюро. Не заметив с первого взгляда никого незнакомого, он с порога спросил: — Говорят, тут к вам какая-то красавица пришла, где она? Ему не ответили, только техник Седа фыркнула, прикрыв рот ладонью. — Что, никто не приходил? Меня к вам главный послал… — Это я. Рубен повернулся на голос и только теперь заметил Сона, которая сидела возле двери. — Мне посоветовали обратиться к Манукяну, — сказала она, пряча улыбку и протягивая бумагу. — Это вы Манукян? — Нет, пока он подойдет, я должен познакомить вас с инструментальным цехом. Мне главный поручил. Они побывали в инструментальном, где Рубен, как бы не слыша шуточек и реплик рабочих, очень толково отвечал на все вопросы Сона, а теперь сидели в его каморке и пили кофе. Отворилась дверь, и в проеме показался Вардан. Увидев Сона, он смешался, потоптался на месте и промямлил: — Выйди-ка на минутку. — Я занят, — сухо ответил Рубен и вновь повернулся к Сона: — А зачем вам такая точность обработки? Вардан хлопнул дверью, и Рубен удовлетворенно заметил: — Вот так-то! — Нам, может, такая точность не нужна, — ответила Сона. — Но какой конструктор не хочет подстраховаться? — Дело не в хотении, — с легкой улыбкой сказал Рубен. — Если каждый захочет так подстраховываться… Вардан снова открыл дверь: — Я тебя жду, между прочим! Недовольно хмыкнув, Рубен вышел из комнаты. — Ну, чего тебе? — Не мог, что ли, оставить нас часа на два одних? — Больше ты ко мне никого не води, — резко ответил Рубен и повернулся, чтобы войти к себе, но Вардан задержал его: — Постой… Ты это… если жена спросит, где я был, скажешь, что мы с тобой до двенадцати в шахматы играли. — Не впутывай ты меня в свои делишки, очень прошу, не впутывай. — Погоди… Если не скажешь, быть скандалу. — Ну ладно, скажу. — Постой, а кто эта девушка? — Да тебе-то что? — Почему она у тебя сидит? — Нужно, вот и сидит. — Слушай, зачем она тебе? Познакомь, а? — Проваливай! — Рубен сбросил с плеча руку Вардана, резко повернулся и плотно закрыл за собой дверь. — Очень вкусный у вас кофе, — сказала Сона. — Спасибо. — Вам понравился? — обрадовался Рубен. — Хочу спросить вас, только вот боюсь, обидитесь… — Не обижусь, спрашивайте. — Почему вы работаете инженером по технике безопасности? — немного смущаясь, спросила она. Рубен на мгновение смешался, но потом ответил: — Кто-то ведь должен… Работа как работа. — Вообще-то в лицо не хвалят, но вы так основательно все мне объяснили… — Ну уж, основательно, — Рубен смущенно потупился. — Так, разбираюсь немного… — Не знаю, — заметила Сона, почувствовав, что ей нравится смущение Рубена, — по-моему, вы могли бы найти себе более подходящую работу. — Я, знаете, с людьми не могу работать, — еще более смутился он. — Почему? — Меня не слушаются, — улыбнулся Рубен. «Ребенок, — подумала Сона. — Настоящий ребенок. Такому нужно быть опорой, опекать его, ухаживать за ним…» — А почему вас не слушаются? — она обращалась к нему так, как говорят с детьми. — Откуда мне знать? — пожал он плечами. — Я кричать не люблю. Сона покачала головой и окинула взглядом каморку Рубена. — И как вы можете здесь работать, в этом закутке?.. — Привык, знаете ли, не обращаю внимания, — махнул рукой Рубен. — Вы вполне могли бы работать конструктором. Работа хорошая, тихая, знай себе свой кульман да карандаш. — Я пробовал, ничего не получилось. — Правда, пробовали? — Не люблю я чертить. Там ведь нужно без помарок, аккуратно… Не по мне это дело. Помолчали. Сона хотела спросить: «А что же тогда вам по душе? Так вот сидеть целыми днями без дела?» — но постеснялась. — Можно от вас позвонить? — спросила она. — Конечно. Если в город, наберите сперва девятку. Сона набрала номер и сказала: — Товарищ Саркисян, я с утра на заводе. Заведующий конструкторским бюро запер все бумаги в сейф, а сам ушел. — Она послушала с минуту, а потом не без злорадства ответила: — Ну, я не отвечаю за их порядки, — и повесила трубку. Кто-то снаружи выключил свет в комнате. Рубен вскочил как ужаленный. — Ах, чтоб тебе!.. — пробормотал он и выскочил за дверь. Зажег свет, вернулся, все еще недовольно бормоча. — Может, Манукян уже вернулся, — сказал он, помолчав, и позвонил в конструкторское бюро. Но заведующего еще не было. — Хотите, я сам перепишу коэффициенты, позвоню вам и продиктую? — предложил он Сона. — Чтоб вам долго не ждать. Сона сама не поняла, как у нее сорвалось с языка: — Вы хотите, чтобы я ушла? — Нет, что вы! Сона показалось, что Рубен сказал правду, что ему действительно этого не хочется. Поэтому она почувствовала себя неловко и поспешила как бы оправдаться: — Я к тому говорю, что вы, наверное, заняты, я вам мешаю… — Занят! — усмехнулся Рубен. — Да я только и делаю, что ищу кого-нибудь, с кем можно было бы поболтать, убить время, пока день пройдет. Сона посмотрела на часы, подумала и сказала: — Хорошо, если вам действительно нетрудно, узнайте и позвоните. — Она записала номера служебного и домашнего телефонов и протянула листок Рубену.
В маленьком подслеповатом окне закусочной виднелись заснеженные вершины гор. Сейчас, на закате, казалось, что они медленно подступают все ближе и ближе. Небо над горами было чистое и голубое, и оттуда веяло первозданной прохладой иных, неведомых миров. «Подняться бы туда, взобраться на самую вершину и закричать, — думала Сона. — Этот крик унес бы с собой все заботы и неприятности. И ни о чем больше не надо было бы думать…» — А я плевал на все это, понимаете, плевал! — горячо продолжал Даниелян. — Мне сейчас совсем другое нужно, слышите? Сона медленно повернула голову, посмотрела на Даниеляна отсутствующим взглядом, чуть прикрыла глаза и с тоской подумала: «О чем это он?» Даниелян опрокинул рюмку, вытер пот со лба и сказал: — Раньше меня деньги, может, и заинтересовали бы. А теперь мне уважение требуется, любовь… — Просто у вас есть деньги, вот они вас и не интересуют, — ответила Сона. — Верно, есть. — Интересно, откуда? — Дед в наследство оставил, — улыбнулся он. — Ах, дед! Вы что, внуком приходитесь самому Манташеву[1]? — с иронией сказала Сона. — Манташев! — насмешливо покачал он головой. — Что Манташев! Мой дед в свое время сам скидывал этих манташевых, чтобы нам хорошо жилось. — Ну и как вам теперь живется? — Слава богу, грех жаловаться. — Как вы все похожи друг на друга, — прикрыв глаза, с горечью покачала она головой, — как похожи… — Кто — мы? — Чиновники. — Не понял… — В бюро по обмену тоже был один такой. То же самое мне говорил. — Что именно? — Говорил: плевать я хотел на деньги, мне, говорит, любовь нужна. Я ведь все равно деньги на любовь потрачу, так не лучше ли сразу… — Вот оно что! — в глазах Даниеляна вспыхнул недобрый огонек. — И что же он в конце концов получил? Деньги или любовь? Сона посмотрела прямо ему в глаза и прошептала: — Кто вас только придумал? И когда это вы успели так разжиреть?.. Кто вложил в ваши руки сажу, которой вы теперь мараете наши лица?.. — ее подбородок задрожал, в глазах показались слезы. — Успокойтесь, — Даниелян сразу стал серьезен. — Не надо… От порыва ветра с треском распахнулась дверь. Во дворе Вардуш взяла с кузова грузовика ящик с пивом, тяжело потащила его к крану, положила под воду, бодро побежала назад. Даниелян прикрыл дверь и подошел к Сона, дотронулся до ее плеча. — Успокойтесь… — Как? Как мне успокоиться?! — голос ее сорвался. — Третий месяц водите меня за нос! — Сона поднесла платок к глазам, не сумев взять себя в руки, зарыдала: — Разве я виновата, что нет у меня мужа? Выходит, со мной всякий может любовь крутить? Даниелян налил в стакан минеральной воды, протянул Сона: — Успокойтесь. Сона оттолкнула его руку: — Я устала, устала от всего!.. — Нельзя так распускать нервы, — сказал Даниелян. — Тебе детей растить надо. — Надо… — Сона вытерла слезы. Закурила, другим тоном сказала: — Поговорим о деле. — Поговорим, — ответил Даниелян, чуть помолчав. — Твоей матери около семидесяти. — Да. — Не сегодня завтра есть шанс потерять ее квартиру. — Возможно. — Та-а-ак, — протянул Даниелян. — Значит, в случае… — он запнулся, — в этом случае квартира достанется государству. — Скажем, так. — Не скажем, а именно так и обстоит дело. — Ну и что? — А то, что твои расчеты совершенно понятны. У тебя две дочери и сын. Со временем выдашь дочек замуж, а потом женишь сына и опять разменяешь квартиру. Двухкомнатную отдашь сыну, а себе оставишь однокомнатную. Верно? Уже сегодня ты думаешь об их будущем… — У детей нет отца, кому же думать о них, как не мне? — прервала его Сона. Кивнув, Даниелян продолжал: — Производя обмен, вы фактически не хотите терять однокомнатную квартиру. — А вы бы сами не обменяли в такой ситуации? — Обменял бы. — Так о чем речь? — Мы можем не разрешить этот обмен. Тому есть причины. — Но ведь можете и разрешить, верно? — Можем, — улыбнулся Даниелян. — И тогда мы с тобой станем друзьями. Поверь, так будет лучше. — А если я не хочу становиться вашим… другом? — Никто не может заставить меня разрешить этот обмен, — в голосе Даниеляна промелькнула официальная нотка. — А кто может заставить меня стать вашей любовницей? — вспыхнула Сона. — Никто. Ты не спеши, обдумай все хорошенько… Знаешь, как трудно бывает после одного отказа снова дать делу ход? — Скольким вы давали этот совет? — Ну, это уже слишком! Я не давал вам права оскорблять меня! — неожиданно рассердился Даниелян. — А я вам разве давала такое право? Вардуш принесла кофе. Когда она открыла дверь, в комнатку донеслись звуки музыки из общего зала. На подносе, рядом с кофе, красовалась бутылка дорогого коньяка. Наклонившись к Даниеляну, Вардуш что-то прошептала ему на ухо. — Убери! — прошипел он. Вардуш уже поставила на стол чашки с кофе и теперь, не зная, что делать, с бутылкой в руках выжидательно смотрела на Даниеляна. — Скажи — неохота ему. Иди! Вардуш вышла. Когда дверь за ней закрылась, Сона вдруг захохотала. Все повторяла сквозь смех: «Неохота!» — и продолжала хохотать. Даниелян грохнул кулаком по столу. Упал и разбился стакан. — Я бы тебя как розу в саду холил, ублажал… — скрипнув зубами, сказал он. Смех Сона сменился слезами. Закрыв руками лицо, она сотрясалась от плача и повторяла: — Да что же это такое?.. Даниелян вышел из комнаты. Небо было усеяно звездами. Ветер с гор поигрывал листьями тополей. Подставив спину ветру, Даниелян вынул сигарету, не спеша закурил и вернулся в комнату. Сона сидела в той же позе, но уже не плакала. — Хорошая ты девушка, — сказал Даниелян, садясь, — вот только нервы у тебя никуда не годятся. — Пойдемте, — Сона встала. Когда подъехали к дому, она спросила: — Объясните же мне наконец, чем все это кончится? — Есть кое-какие обстоятельства, — ответил Даниелян, — я выясню и позвоню. Сона вышла из машины и быстро пошла к подъезду. Гарник Даниелян с сожалением посмотрел ей вслед. Высокая, с пышными бедрами и длинными ногами, Сона была очень привлекательна. Покачивая головой, он подумал: «Такое добро — и зря пропадает». Вспомнив, как безутешно плакала Сона, он ощутил укол совести, но тотчас успокоил себя: «Все равно… Такая, как ты, и не захочет, а кому-нибудь да достанется. А я бы тебя как розу холил, ублажал…» Он приехал домой, завел машину в гараж. Когда стал запирать его, разглядел в свете фонаря, что кто-то измазал ворота масляной краской. Чуть отошел, осмотрел двери соседних гаражей. Нет, ворота вымазали только ему. — Тьфу! — плюнул Даниелян и горько усмехнулся. — Ну и народ, на все готовы от зависти… Кому я поперек дороги встал, кому жить не даю, спрашивается? Насупившись, он вошел в дом. Жена Даниеляна, толстая пресная женщина лет под сорок, накручивала волосы на бигуди перед зеркалом. Увидев мужа, она спросила: — Устал? — Кто испакостил ворота гаража? Сын Даниеляна, который в это время, развалясь на тахте, смотрел телевизор, понял, что вопрос относится к нему. Не отрывая взгляда от экрана, он лениво ответил: — Не знаю. — А что ты вообще знаешь? Сын ничего не ответил, только недовольно поморщился. — Ты что морду кривишь, когда с тобой отец разговаривает?! — со злостью спросил Даниелян. — Да чего ты ко мне пристал! — Сопляк! — шагнул к нему отец. — Я кучу денег раздал, чтобы тебя в институт протолкнуть, а ты… Почему не занимаешься? Тебе бы только бездельничать! — Это верно, не хочет он учиться, — вздохнула мать. — Ты что, надеешься, что я снова стану деньги швырять, чтобы тебя, оболтуса, не вышибли? Как бы не так! В армию пойдешь! Там из тебя сделают человека! — Упаси господи! — испуганно воскликнула жена. — Деньги! Одни деньги на уме! — завопил фальцетом сын, вскакивая с тахты. — Лучше не давал бы, чем теперь попрекать! Плевал я на эти деньги! — Ах ты негодяй! — не сдержавшись, Даниелян дал сыну затрещину. — За всю жизнь копейки сам не заработал, а туда же — плюешь… Сын бросился вон из дому, крепко хлопнув дверью. — Самвел! — крикнула ему вдогонку мать, но сын уже убежал. Она обернулась к мужу: — Ушел… Увидишь теперь, когда вернется… — И за этим я должен следить?! — заорал Даниелян в ярости. — Когда вернется! Это ты должна знать! — Ну вот, теперь ко мне цепляешься, — с горечью сказала жена. — А к кому мне цепляться? Весь день дома сидишь, палец о палец не ударишь, так хоть бы щенка воспитывала! — Разве мало у меня дел? Не сижу сложа руки… — А то нет? Может, ты на базар ходишь? Или в магазин? Даже хлеб и тот шофер приносит. Вот работала бы, как другие, с утра до вечера, да еще хозяйство, весь дом на тебе… — Зачем мне работать, когда у меня такой муж, как ты? — ответила жена с иронией. И вдруг взорвалась: — Сам заставляешь меня сидеть дома, и сам же упрекаешь! Мне перед людьми за свой диплом стыдно! — Доведете вы меня! — не слушая жену, продолжал Даниелян. — Ведь если со мной что случится, милостыню просить будете! — Будешь обедать? — помолчав, уже спокойно спросила жена. — Не хочу… аппетит пропал. — Даниелян присел на тахту и закрыл глаза. Вспомнил Сона. «Эх, если бы можно было забыть обо всем, не думать ни о деньгах, ни о должности, — размышлял он устало. — Уйти бы от этих и жениться на Сона…» Дети подбежали к Сона, обняли ее. Она присела, поцеловала их, прижала к себе и застыла на мгновение. — Сестричка поплакала немного, потом заснула, — сообщила дочка. — А сами вы почему до сих пор не спите? — Без тебя? — надув губы, сказала дочь. — А меня Карен побил… — Только не хныкать! — строго ответила Сона и спросила у стоящей в сторонке матери: — Они ели? — Ели. Пообедай и ты, я подогрела. — Не хочу, — сказала Сона. — Идите спать. — Она отложила сумку, открыла гардероб, переоделась за дверцей. Мать безошибочно почувствовала, что Сона сегодня не в духе. — Ты сегодня поздновато, — заметила она. — Ты же знаешь, куда я ходила. Из детской послышался шум. Бабушка открыла дверь и сердито прикрикнула: — Вам же было сказано — сейчас же спать! — Пусть сперва мама расскажет нам сказку, — попросил Карен. — Мама устала, спите. — Что там у вас? — спросила Сона. — Расскажи сказку! — А ну быстро залезайте в постельки — тогда расскажу. Дети разделись и сразу же улеглись. Сона потушила свет, присела прямо на ковер на полу, прислушалась к ровному дыханию младшей дочери, которая давно уже спала, осторожно приласкала ее, уткнулась лицом в ее волосы. От волос малышки исходил особый, теплый и родной запах, он заставил Сона забыть обо всем на свете. Ах, если бы было возможно вот так всегда вдыхать этот аромат… — Начинай же, — нетерпеливо потребовал сын. Сона очнулась, отодвинулась от спящей дочери. — Сейчас, сейчас… — Только расскажи другую сказку! — потребовала средняя. Сона задумалась. Карен не выдержал: — Начинай! — Жил-был один маленький ребенок… — Мальчик или девочка? — немедленно спросил сын. — Девочка! — сказала дочь. — Девочка, — подтвердила Сона. — И была эта девочка очень веселая, любила петь и смеяться. — А как смеяться — заливисто? — спросила дочка. — Не мешай! — рассердился сын. — Вот, значит, так и жила эта девочка, играла, пела, смеялась и постепенно выросла. А когда ей исполнился двадцать один год, она стала мамой, у нее родилось трое детишек. — Неинтересная сказка, — заявил мальчик. — Но злые люди хотели сделать так, чтобы мама не могла ласкать и целовать своих малышей. Они стали обижать ее. И однажды, когда обидели очень сильно, мама поднялась на самую высокую гору и стала кричать… — А почему она стала кричать? — поинтересовалась дочка. — Просто так. Покричала и немного успокоилась. А на том и сказка кончилась. — Это и не сказка вовсе! — обиженно заявил Карен. — Расскажи другую. — Другой я не знаю, — не сразу ответила Сона. — Завтра выучу и расскажу. — Только обязательно интересную, — сказал сын. — Очень интересную! — Ладно, будет вам интересная сказка. А теперь спать! — Мам, — вспомнила дочка, — а нас новой песенке научили! — И она, фальшивя, тихонько запела:
Рубен явился на свидание в новом костюме, с модным галстуком и в начищенных штиблетах, и это не понравилось Сона. — Заставила я вас помучиться… — сказала она. — Ничего подобного. Хорошо, что вы не стали дожидаться заведующего, он вернулся поздно. — Вы, наверное, куда-то собирались? — сказала Сона, еще раз оглядев его с головы до ног. — Нет, — смущенно покачал головой Рубен. — А мне вот нужно идти. Возьму только коэффициенты… — Жаль. — Что жаль? — Я думал, мы немного побудем вместе… — Конечно, — горько улыбнулась Сона, — если женщина сама назначает свидание, мужчина может подумать что угодно… Рубен не нашелся что ответить. Беспомощно улыбаясь, он наконец проговорил: — Выходит, это мне надо было назначить свидание? — Вы принесли коэффициенты? Он достал из кармана сложенный лист и молча протянул ей. — Спасибо. Я пошла. — Уже? — Да, уже. — Поговорили бы немного… — Ищете, с кем можно поговорить? — вспомнила она. — На работе это еще понятно. А здесь… О чем нам с вами говорить? — Не знаю, — огорчился Рубен, — может, все-таки посидим где-нибудь. — Хорошо, — неожиданно согласилась она. — Посидим, подышим немного воздухом, и я пойду. Они молча вошли в скверик, сели на скамейку. — Говорите, я вас слушаю, — сказала Сона. «Она властная, и еще какая!» — подумал он и робко ответил: — О чем говорить? — Вот видите! — усмехнулась она. — Даже говорить не о чем. — Хотите, я уйду? — не вытерпел Рубен. — Я посижу еще немного, потом вы сможете уйти, — сказала она и подумала: «Ребенок обижается…» Над их головами спокойно шелестели листвой деревья, в небе полная луна золотила своими лучами края редких облаков. Сона было приятно обиженное молчание Рубена. — Вот и до луны уже добрались, все испортили, — сказал он наконец. — Луну испортили? — Ну да. Как подумаешь, что на ней уже побывали люди, все вокруг кажется таким серым и обыденным. — У вас что, внизу забот мало? О луне думаете! — Не знаю… — пожал он плечами. — Разве бывает семья без забот? — А у меня нет семьи, — улыбнулся Рубен. — Вы разведены? — Никогда не был женат. — Ну и ну! Сона неожиданно охватило смятение. «Спокойно! — приказала она себе. — Спокойно!» Она встала: — Я пойду. — Ваш муж, наверное, очень ревнив. — Да, очень. — А дети у вас есть? — Есть. — Сколько их у вас? — Трое. — Вы, конечно, шутите. — Вовсе нет. Так и быть, скажу вам правду, которую вы желаете услышать. Нет у меня ни мужа, ни детей. Гуляю в свое удовольствие. — Не похоже. — Не похоже? — кокетливо повела головой Сона. — Так почему же вы не хотите, чтобы я ушла? Луна выглянула из-за облаков. Облитые ее серебристым светом, верхушки тополей мерно покачивались в вышине, о чем-то шепчась друг с другом и бросая вокруг отражения лунных бликов. И в скверике, со всех сторон окруженном городским асфальтом, сами собой рождались невнятные языческие шепоты и шорохи. Не успев набрать силу, стать внятными, они терялись и гасли в городском шуме. — Почему вы молчите? — спросила Сона. — Не знаю, — вздохнул Рубен. — Вам грустно? — Немного… — Это пройдет, — утешила она его и встала. — Посидели бы еще немного… — Рубен недовольно поднялся вслед за ней и с просьбой в голосе сказал: — Разве нельзя не разговаривать? Неужели обязательно нужно говорить? — Не обязательно. До свидания. Сона пошла по дорожке. Сперва она шла медленно, потом ускорила шаги. Рубен хотел было догнать ее, но что-то удержало его, и он вновь опустился на скамейку. — Захотела бы — сама бы предложила проводить ее, — сказал он вслух сам себе. Рубен закурил, посидел немного, но вскоре явственно почувствовал неловкость. Он догадался, что виной тому — новый костюм и неразношенные штиблеты. — Эх, ты! — с укором проговорил он, опять обращаясь к себе. — Разулся, не дойдя до воды! Рубен тяжело поднялся и побрел домой. Настроение пропало. Он лениво переоделся, включил телевизор, стукнул кулаком по его корпусу, отрегулировав таким образом изображение, и завалился в кресло. Показывали соревнования по баскетболу. Зазвонил телефон. Рубен сразу поднял трубку. — Звоню тебе, звоню, а тебя дома нет, — услышал он. — К чему бы это, интересно? Это был голос Варсик. Она преподавала в школе английский и давно уже была разведена. За два года связи с ней Рубен успел раз десять поссориться и вновь сойтись с этой разбитной и настырной женщиной. Собственно, настырность и отталкивала его от Варсик. — Конечно, пока не выяснишь, где я был, не сможешь заснуть, — ответил он. — Не видишь разве, я уже все глаза по тебе проплакала. — Варсик рассмеялась каким-то кудахтающим смехом. — Мне бы твои заботы. — Что тебя заботит, милый? — ее голос стал нежен. — Хочешь, я приду? — Нет. — Может, ты болен? — Устал, хочу спать. — Я позвоню утром, разбужу тебя, ладно? Рубен знал — если он ответит «нет», разговор обязательно затянется. Поэтому он сказал: — Позвони. Спокойной ночи, — и повесил трубку. Минуту помедлив, он вновь поднял трубку и набрал номер. — Слушаю. — Сона… — Да. Слушаю вас. — Это Рубен. — Почему вы звоните? — Очень прошу, скажите мне правду… Вы действительно не замужем? В трубке послышался вздох: — Действительно. — Вы ведь никуда не должны были идти. Вы сразу, как мы расстались, пошли домой. — Да, я сразу пришла домой. — Можно я буду вам иногда звонить? — Зачем? — Просто так… — Рубен вспотел от волнения и по привычке почесал подбородок. — По-дружески. — Какие мы друзья, даже совсем не знаем друг друга. — Так узнаем, — храбро сказал Рубен. — За одну встречу человека ведь не узнаешь. — Узнать, чтобы потом пожалеть об этом… Нет, лучше пусть все остается как есть. — Знаете, Сона, как мне приятно говорить с вами… — А не вы ли недавно сказали: «Разве обязательно говорить?» — Я. — Сейчас мы с вами даже дольше проговорили, чем недавно в саду. Так что спокойной ночи. — Сона повесила трубку.
В комнате было тихо, только иногда слышался нежный шорох скользящих по ватману линеек. Несмотря на то что табличка на стене грозно требовала не курить, заведующий курил, склонившись над чертежом. Время от времени он недовольно покачивал головой. Сона что-то высчитывала на микрокалькуляторе, записывая результат на бумажку, и вновь начинала считать, иногда утирая пот со лба. Зазвонил телефон. Не отрываясь от чертежа, заведующий поднял трубку, ответил: «Сейчас» — и положил ее на стол. «Маркарян!» — сказал он, продолжая заниматься своим делом. Углубившись в расчеты, Сона не услышала его и очнулась лишь тогда, когда Лилит хлопнула ее по спине: — Тебя к телефону. Сона подошла и, взяв трубку, повернулась спиной к шефу. — Слушаю. — Это Даниелян. — Кто? — Даниелян. Из райсовета. Быстро же вы забыли! — Слушаю вас. — Нам надо встретиться. — Когда? — Сейчас. — Сейчас не могу, много работы. — Дело не терпит. Ты объясни, где находится твое учреждение, я сам к тебе подъеду. — Подождите минутку, — ответила Сона, вздохнула, чтобы унять волнение, но это ей не удалось. Она старалась понять, что это за такое срочное дело. Она чувствовала, что шеф прислушивается к разговору, и от этого ей было еще более неловко. — Почему ты молчишь? — Чуть выше крытого рынка, — сказала Сона, понизив голос, но сообразила, что скрытничать бесполезно, и тотчас поправилась — громко объяснила, как приехать к их бюро, придав при этом своему голосу нотку официальности. — Понял, — ответил Даниелян. — Буду через десять минут. Положив трубку, Сона хотела было отойти, но шеф задержал ее. — Нельзя же так! — недовольно сказал он. — Почему вот в этом узле не использована пластмасса?! — Он очертил карандашом участок лежащего перед ним чертежа. Сона пригляделась к чертежу, потом посмотрела на Лилит и укоризненно покачала головой. — Так как же, товарищ Маркарян? — шеф поднял очки на лоб и заморгал, выжидая. — Погодите! — вдруг вспомнила Сона. — Техническими условиями здесь предусмотрено использование бронзы. — Не может быть. — Это узел «А-2»? — спросила Лилит. — «А-2», — подтвердила Сона. — Верно, бронза! — Лилит уже встала и собиралась вынуть из шкафа соответствующие бумаги, но шеф сказал: — Не надо, не неси, — и, наклонившись над столом, стер свою пометку. Сона по-детски показала язык его макушке и вернулась за свой стол. В другой раз она, наверное, крупно поспорила бы с начальником из-за того, что он зря черкал по чертежу, но сейчас уже забыла обиду. Ее волновал только один вопрос, какое у Даниеляна может быть к ней дело? «Верно, решился вопрос квартиры, вот он и спешит порадовать меня», — подумала она, и на душе у нее стало легко и радостно. Сона даже почувствовала нечто вроде признательности. Не выдержав, она поспешила на улицу. У входа ее остановил старик вахтер: — Где пропуск? — Днями будешь баклуши бить, так никто не поинтересуется, а попробуй выйти на пять минут — сразу разрешение требуют! — Мое дело сторожить. Остальное — дело ваше. — Дома дверь захлопнулась, а ключи у меня, — начала выдумывать Сона. — Отдам своим ключи и сразу вернусь. — Это можно. — Вахтер закурил, расправил пожелтевшие от табака усы. — Скажи, дочка, а отчего это вы целыми днями баклуши бьете? — Кто хочет работать, тот работает, а кто не хочет — не заставишь, — ответила Сона и быстро вышла из здания. — Эх-хе-хе… — покачал головой ей вслед старик, — бедное наше государство, скольких ему бездельников кормить приходится… Даниелян уже ждал. Он не сразу узнал ее: Сона была в белом рабочем халате, на лице ее играла непривычная улыбка. Он не сумел скрыть своей радости: — Как идет тебе халат! Ты в нем прямо как доктор. — Чувствую, вы принесли мне хорошую весть! — метнулась ему навстречу Сона. — Хорошую. — Он кивнул и с самым серьезным видом вытащил из кармана какую-то бумагу. — Разрешение на обмен?! — заблестели ее глаза. — Разрешение потом. Это путевка. — Какая еще путевка? — В санаторий, на Черное море. — В санаторий… — у Сона опустились руки. — Отдохнешь там. Тебе надо отдохнуть. — А дети? — Мать присмотрит за ними. Вернешься — тогда и решим твой вопрос. — Ничего не понимаю… — Сона вздохнула, от ее радостного настроения не осталось и следа. — Что ж тут непонятного? — терпеливо улыбнулся Даниелян. — Путевка. Другие из-за таких убиваются. Поезжай, отдохни. Сона испытывала двойственное чувство. С одной стороны, ей было приятно сознавать, что о ней кто-то заботится, но с другой — мучила мысль, что совершенно посторонний человек вмешивается в ее жизнь. — Вот пусть и едут, кто убивается. Мне чужая путевка не нужна. — Это не чужая. Взята на твое имя. — Даниелян развернул лист, показал ее фамилию. — Вот, пожалуйста. — Разве это было так спешно? — спросила она с горькой улыбкой. — Я завтра уезжаю в командировку. — Завтра? — Да. Должен был поехать сам председатель, но он в последний момент отказался. — Куда едете? — В Минск и Киев. На десять дней. — Я вам сейчас ничего не могу сказать. Мне надо посоветоваться с мамой. — Посоветуйся, конечно. — Я сейчас поеду на море, а каково будет детям в летнюю жару? — Не беспокойся, и их куда-нибудь отправим вместе с твоей матерью. Скажем, можно будет устроить в Ехегнадзор, Дилижан или Мартуни. — Ну и дела… А если я все же не смогу поехать, что делать с этим?.. — спросила Сона, постепенно приходя в себя. — Порви, — ответил он. — Вы ставите меня в неловкое положение. По какому праву я возьму эту путевку? — Прав у тебя больше, чем у кого-нибудь другого. — Ну нет, какой это будет отдых?.. Я на море, а детишки здесь. Да и вопрос с квартирой не решен. — Считай, что уже решен. — Предположим, я буду так считать. Но захочет ли ждать другая сторона? — Но ведь их обмен с тобой тоже должен разрешить я, — хитро улыбаясь, сказал Даниелян. Сона взглянула на проставленное в путевке число. — С первого июня… Если я решу поехать, мы больше не увидимся с вами? — А сегодняшний вечер? — все с той же хитрой улыбочкой спросил Даниелян. Его улыбка не понравилась Сона. — Сегодня не могу. У нас собрание, — сказала она, не подумав. — Жаль. «Нет, так нельзя, — сказала она себе. — Если все же решу не ехать, надо вернуть ему путевку». — Позвоните вечером. Может, собрание кончится рано. — Когда позвонить? — Часов в восемь. — Договорились, — быстро ответил он, сел в машину и рванул ее с места. Сона, сунув путевку в карман халата, пошла обратно. «За кого он меня принимает, в конце концов? — думала она, стараясь собраться с мыслями. — Что ты делаешь? Почему пачкаешься во всей этой грязи? Вернешь путевку — и все! Кончено!» На перерыве в столовой Вардан подошел с тарелками на подносе к столику, за которым сидел Рубен. Шутя, спросил: — Не возражаете, товарищ начальник? В столовой было людно и шумно. Слышался звон тарелок, звяканье ложек, ровный гул голосов. Надо всем этим висел крепкий запах борща. Особенно шумели в одном углу, где ребята из сборочного цеха, сдвинув два стола, сидели веселой компанией. Они, видно, отмечали что-то: передавали из рук в руки бутылку из-под минеральной воды, смеялись и шутили. — Водку пьют! — покачал головой Рубен. — А ведь они на конвейере. Не дай бог, случится что-нибудь. Вардан посмотрел в сторону веселящейся компании и, с усилием проглотив кусок, равнодушно ответил: — Неужели и за это тебе отвечать? Выяснят, что был выпивши, вот и все. — Да ведь жалко их. — Они сами себя не жалеют, а тебе что за дело? Ты бы лучше меня пожалел, — проговорил Вардан, наклонившись над тарелкой и глядя на Рубена снизу вверх. — Тебя-то чего жалеть? Работа у тебя спокойная, знай себе свой карандаш да линейку… — А сердце? — многозначительно улыбнулся Вардан. — Ну, так никакое сердце не выдержит, — рассмеялся Рубен. — Ведь ты его каждый день у другой оставляешь. — Москва — Ереван — Бейрут, международный рейс! Стюардесса! Понимаешь? — воодушевившись его смехом, перешел к делу Вардан. — Куда тебя занесло! — развел руками Рубен. — Вот это размах! — Делом надо заниматься, а не мямлить… А что, если я приведу ее сегодня к тебе, покажу твой «дом техники»? — «Дом техники»… — улыбнулся Рубен. — Скажешь тоже… — Разве нет? — еще более воодушевился Вардан. — Она, можно сказать, весь мир облетала, а такого нигде не видела. — Перестань. — Хочешь, намекну, чтобы привела с собой подружку? — Не хочу. — Ты подумай. Это ведь не обычные девчонки, их специально отбирают. Туда ведь попадают только самые красивые. Иностранными языками владеют. — Интересно знать, зачем тебе еще и иностранный язык? — усмехнулся Рубен. — Тьфу! — кисло поморщился Вардан. — Понятно… Если человек ничего не желает видеть вокруг себя и интересуется одними только безделками… Какой с тебя спрос! — Мне эти безделки нравятся! — обиделся Рубен. — И потом, мне, по-моему, от тебя ничего не надо, это ты меня просишь… — Ну ладно, ладно! — махнул рукой Вардан. Некоторое время они сидели молча. Потом Вардан вдруг вспомнил: — Слушай, та девушка, вся такая светлая… кто она? — Какая девушка? — С которой ты у себя в закутке кофе пил. — Сона! — вырвалось у Рубена. — Кто она? — Так… По делу приходила. — Пришла на завод по делу и сразу попала в твою келью? — Главный сказал, чтобы я провел ее по инструментальному цеху. — А ты? Просто показал цех, и все? — Она не из этих твоих… — Нет, ты мне скажи — и все? — И все. — Ну вот, пожалуйста! — возмущенно развел руками Вардан. — А что прикажешь делать? Разливаться вроде тебя о романтике и сентиментальности? — Сентиментальность — это, брат, не твоего ума дело. У каждого мужчины свой подход. — Вардан посмотрел на Рубена, подумал, что тот не понял его, и продолжил свою мысль: — Вот, скажем, мои штаны тебе не подойдут, правда? Ты ими два раза обернешься. Так и разговоры насчет сентиментальности тебе не подойдут. Понял? — Я-то понял, а они понимают? — Кто — они? — Те, кому ты все это говоришь. — Да они с самого начала все понимают. Иначе зачем им ходить ко мне? — Тогда к чему лишние разговоры? — Что же ты предлагаешь? Сидеть набрав в рот воды? Надо говорить им красивые слова, чтобы убить время, пока до дела дойдет. — А разве нельзя просто молчать? — сказал Рубен. — Неужели надо обязательно что-то говорить? — Так как же, а? — Что? — не понял Рубен. — Сказать, чтобы подружку привела? — Нет. — Ты в неловкое положение человека ставишь! — заволновался Вардан. — Как же мне теперь быть? — Он забыл даже выпить мацун, оставил на столе непочатую бутылку и ушел. — Будто я в долг у тебя взял и не отдаю! — бросил ему вслед Рубен. «Умеет же наступить человеку на горло, сукин сын!»
Мать почувствовала, что Сона сегодня не в настроении. Обычно во время обеда, кормя детей, Сона внимательно следила за тем, чтобы они ели, и очень сердилась, если малыши капризничали. А сегодня она машинально подносила ложку ко рту младшей дочери и даже не смотрела, ест она или нет, — просто ждала с отсутствующим выражением на лице, невидяще глядя широко открытыми глазами. — Оставь, я сама покормлю, — не выдержала мать. Сона положила ложку, вышла из кухни в столовую, села вкресло. В открытом окне голубело небо, время от времени прорезаемое черными молниями гоняющихся друг за другом ласточек. Вдали, у самого горизонта, набухала, впитывая в себя багровый сок солнца, большая туча. «Красив мир…» — подумала Сона, прикрыв глаза, и вдруг вообразила себя на пляже, с распущенными волосами, под нескромными взглядами мужчин. Зазвонил телефон. Сона встрепенулась, подняла трубку. — Слушаю, — сказала она, — я вас слушаю. Ответа не было. Сона опустила трубку на рычаг и вновь села в кресло. — Кто звонил? — поинтересовалась мать из кухни. Сона молча пожала плечами и выглянула в окно. — Что с тобой, доченька? Мать подошла к ней, погрузила пальцы в копну ее волос, приласкала, как в детстве. Неожиданно Сона обняла мать и зарыдала. — Что с тобой? Мать хотела было отстраниться, заглянуть ей в глаза, но Сона, крепко обняв ее и уткнувшись лицом в грудь, продолжала безутешно рыдать. — Мама, мамочка! — послышался детский крик, и подбежавшие через мгновение сын и дочь обняли ее и тоже расплакались. — Дети… при детях!.. Мать трясла Сона за плечи, чтобы она пришла в себя. — Ничего, ничего… — Сона отстранилась и, вся в слезах, стала целовать малышей. — Почему ты плачешь? — спросила сквозь слезы дочь. — Я не плачу, — утерев слезы, ответила Сона с улыбкой. — Разве не видишь, я смеюсь. — А слезки? Слезки? — не унималась дочь. — От радости тоже плачут, — ответила ей бабушка. — А обманывать нельзя! — наставительно и мрачно сказал Карен. — Возьмите с собой сестричку и пойдите поиграйте, — сказала Сона. — Если хотите, чтобы я не плакала, идите играть. Дети, не сказав ни слова, вышли из комнаты. Сона пожалела их и крикнула вдогонку слова, которым они всегда больше всего радовались: — Если хотите, идите во двор. — Мы не хотим во двор, — донесся из-за двери голос сына, и Сона поняла, что они не ушли играть. Бабушка увела их на балкон, вернулась в комнату и закрыла за собой дверь. — Что с тобой происходит, дочка? Сона молчала. — Я ведь мать тебе, не чужой человек! Сона не отзывалась. — И сестры у тебя нет, не с кем поделиться, отвести душу… Сона помедлила, вздохнула и сказала: — Он хочет, чтобы я стала его любовницей. — Твой начальник? Будь он проклят, негодяй! — Не начальник, Даниелян. — Кто это? — Он в райсовете работает, от него зависит разрешение на обмен. — Господи, есть же люди… — схватившись за голову, запричитала мать. — Сегодня кто-то звонил, спрашивал твой служебный номер. Не он ли? — Он. — Что ему нужно? — Видите ли, обо мне заботится. Достал путевку. — Сона встала, взяла сумку, вынула путевку. — Вот полюбуйся. — Не в силах сдержать слезы и криво улыбаясь, она стала читать: — «Маркарян Сона Аршавировна, санаторий „Улыбка“ города Сочи с нетерпением ожидает Вас. У нас Вы сможете вылечить болезни нервной системы, дыхательных путей, легко выраженные сердечно-сосудистые заболевания, ожирение…» Ясно? Видишь, как они о своих любовницах заботятся, посылают отдохнуть, освежиться… — Чтоб они провалились! — вздохнула мать. — Такие вот дела. — Сколько стоит путевка? — Двести рублей. Для них дешевле не годится, мелко будет. Помолчали. С улицы донесся резкий запах — опрыскивали деревья. Мать встала, закрыла окно. — Если хочешь знать, отдохнуть тебе необходимо, — подумав, сказала она. — Ну что ты так на меня смотришь? Вспомни, когда ты в последний раз отдыхала? То-то. Сперва дети были маленькие, потом смерть Айка… — Оставить тебя с детьми, а самой уехать? — С детьми в санаторий не пускают. — По-твоему, я должна взять эту путевку?! — Уплати за нее, пусть отстанет. Тебе надо отдохнуть. — Нет, не возьму. А настанет жара — поедем вместе в Цахкадзор. — Это не отдых, — покачала головой мать. — В прошлом году ты весь отпуск стирала, гладила да бегала на рынок. Весь дом на тебе держится, тебе необходимо отдохнуть. Сона было ясно — если вернуть Даниеляну путевку, можно навсегда распрощаться с надеждой на обмен. Это тоже мучило ее. — Не знаю… — вздохнула она. — Я совсем голову потеряла. — Для меня самое главное — твое здоровье, — уговаривала мать. — Ты ведь, пока снотворного не примешь, не можешь заснуть. Думаешь, я не замечаю, как ты каждый раз перед сном таблетки глотаешь? — Так что мне делать теперь? Брать? — Бери. — Но ведь стыдно это… — Уплати ему. Ничего стыдного нет, если деньги отдашь. — Как ты тут одна с детьми управишься? — Не беспокойся. Главное — чтобы ты как следует отдохнула. — Мать немного помолчала и добавила: — Родственнички… Да разве это родственники?! Разве они думают о том, что у них внуки есть, что нам вдвоем трудно с детьми, что хоть в такое время надо бы взять кого-нибудь из детей к себе… — О них ни слова! — отрезала Сона. Зазвонил телефон. Она подняла трубку: — Слушаю. — Это Рубен. Здравствуйте… — Здравствуйте. — Я недавно вам звонил, но не нашелся что сказать и повесил трубку… — Интересный вы человек, — печально улыбнулась она. — Я сегодня о вас думал… весь день. — Только сегодня? — в ней неожиданно заговорило женское кокетство. Помолчав, он спросил: — Что вы делаете сегодня вечером? — Вечером? — она по-девичьи стрельнула глазами. — О, сегодня вечером у меня назначено сразу пять свиданий. — Целых пять? — Ага. Приглашение на концерт Мендельсона, в оперу — на «Евгения Онегина», а в театре сегодня «Отелло». Послушайте, вы, кстати, не ревнивы? — С ума сошла! — не выдержала мать. — И еще я приглашена на банкет в ресторан «Ани». Это уже сколько получилось? — Четыре. — Так, а что там было пятое… — Она вспомнила о Даниеляне и осеклась. — Я понял, вы шутите. Прошу вас, давайте встретимся. — Не могу. — Скажите правду, очень прошу — вы действительно не можете или просто не хотите? — Не могу.
Даниелян по обыкновению оставил Сона в машине, а сам вышел, обогнул закусочную и вошел во дворик. Однако на этот раз он там задержался. Наконец позвал ее: — Пошли. Сона вышла из машины. Даниелян хотел было взять ее под руку, но Сона слегка отстранилась, прошла чуть вперед. — Погоди, — остановил ее Даниелян. — Не спеши, наше место сегодня занято, — сообщил он многозначительно. — Тогда не пойдем. — Нельзя не пойти, — почему-то понизил он голос. — Пригласили… — Кто пригласил? — Руководство. — Да какое мне дело до вашего руководства? — Не надо так. Посидим минут десять и выйдем. Я уже сказал Вардуш, чтобы она накрыла нам столик там, — он кивнул в сторону общего зала. — Не хочу. Лучше я подожду вас здесь. — Не ставь меня в неловкое положение, — сказал Даниелян. — Прошу тебя. Они вошли во двор. Выйдя им навстречу, Вардуш виновато взглянула на Даниеляна и развела руками: мол, что я могла поделать! Даниелян понимающе кивнул, кашлянул и, открывая дверь, спросил: — Можно? — Войдите! — ответил мужской бас. В комнате за столом сидели двое: усталый на вид мужчина с пьяными глазами и красивая женщина намного моложе его. Сона сразу заметила под глазами женщины синие круги. — Прошу вас, — хрипло сказал мужчина. — Познакомьтесь, пожалуйста, Артем Никитич, — сказал Даниелян. Артем Никитич посмотрел на Сона. Их глаза на миг встретились, потом он стал бесцеремонно осматривать ее, ощупывая взглядом. Сона стало не по себе, будто ее раздевали. Она хотела что-нибудь сказать, осадить его, но не нашлась. Может быть, если б Артем Никитич подал ей руку, она смогла бы достойно ответить ему. Но он и не думал подавать руки, а только сказал с какой-то барственной интонацией: — Глядишь, помаленьку и познакомимся. Садитесь. Они сели — Сона мрачная и молчаливая, а Даниелян с глуповатой улыбкой на лице. Сона мельком оглядела стол. Ничего особенного здесь не было — тот же шашлык, та же, что и всегда, жареная печенка, обычные закуски, марочный коньяк. Впрочем, на столе стояла вазочка с тремя розами. — Слушай, ты, — обратился к Даниеляну Артем Никитич. — Я так и не понял, кто ты такой: Гарник или гарнук?[2] — Довольный своей шуткой, он широко осклабился. — Как вам будет угодно, Артем Никитич! С лица Даниеляна не сходила глуповатая, счастливо-благодарная улыбка, и это рассердило Сона. И вовсе не желание защитить Даниеляна заставило ее резко ответить Артему Никитичу — Сона, которая и без того сидела как на иголках, остро почувствовала, что, унижая Даниеляна, Артем Никитич унизил и ее. — Он — Гарник Арташесович, — сухо сказала она. — Какой, однако, защитник у него, вы только посмотрите… — поднимая бокал, пробормотал Артем Никитич. — Видишь, — сказал своей спутнице, — учись. — Разве я плохо защищаю тебя, Тема? — склонив голову ему на плечо, отозвалась женщина. — И нет чтобы спросить: от кого защищать? — пробормотал Артем Никитич, не обращая на нее внимания, и обратился к Даниеляну: — Что ж, тебе слово, Гар-ник Ар-таше-со-вич! Скажи что-нибудь! — Что мне сказать, Артем Никитич? — смешался Даниелян, в волнении утирая пот со лба. — Я скажу то, что всегда говорил. За ваше здоровье, Артем Никитич! За ваше здоровье, Елена Габриеловна! Дай бог Артему Никитичу всего наилучшего… Одному богу известно, сколькому я в жизни научился у Артема Никитича. Верно говорят в народе: сделай человеку добро и забудь, бог все равно приметит. — Эх ты, — нахмурился Артем Никитич. — А ты, оказывается, совсем не изменился! Здесь женщины, а ты… Все тем же подхалимом остался. — Нет! — покачал головой Даниелян все с той же улыбкой. — Я ведь от всего сердца, я правду… — Лучше выпьем за здоровье нашей гостьи, — в упор глядя на Сона, перебил его Артем Никитич. — Как вас зовут? — Сона, — ответил вместо Сона Даниелян. — За здоровье Сона, — поднял бокал Артем Никитич. — Спасибо, — ответила она. — Я не пью. — Обиделась, — покачал головой Артем Никитич. — Как же, задели ее кавалера! — Он мне не кавалер, знай, Тема! — с дерзкой улыбкой ответила Сона и вышла из комнаты, резко захлопнув дверь. Свежий ветер ударил ей в лицо. Но не успела она облегченно вздохнуть, как, обеспокоенный громким стуком двери, громадный пес вскочил и зарычал на нее. В тусклом свете лампы пес был очень страшен. Сона оцепенела, захлестнувшая ее волна возмущения сразу сменилась ужасом. Она даже не знала, сколько стояла так, застыв от страха, и пришла в себя, лишь когда Даниелян взял ее за руку: — Ну разве можно так?.. Сона высвободила руку, вздохнула и ответила: — Не выношу наглецов! — Ладно. Все, кончено. Пошли. — Не желаю я видеть их. — Да не к ним! Пойдем в общий зал. — Собака! — вдруг вспомнила Сона. — Что собака? Ах, эта… Ерунда, она себе дрыхнет, на нас и не глядит. — Лучше уедем отсюда. Мне неприятно… — Не станет же Артем Никитич заходить в общий зал! — отозвался Даниелян. Сона чуть помедлила, пожала плечами: — А мне все равно, зайдет он или нет. Они пошли в общий зал. — Вообще-то, он Арутюн Мкртичевич, — с ухмылкой сообщил Даниелян, склоняясь к Сона, — а вот видишь, стал Артемом Никитичем. — Почему вы так унижались перед ним? — Ну, — замялся Даниелян, — как сказать… ведь речь идет о карьере… — А как же достоинство? Даниелян не расслышал или сделал вид, что не слышит. Во всяком случае, он ничего на это не ответил. Вардуш, конечно, уже знала, что они вышли из комнатки, и ждала их у входа в зал. Завидев Даниеляна, она подошла к нему, что-то шепнула на ухо, а вслух сказала: — Вон ваш столик, в углу. Музыканты, устроившие себе небольшой перерыв, вернулись на эстраду и снова заиграли. Играли они хорошо. Музыка на какое-то время отвлекла Сона от невеселых мыслей. Она сидела, прикрыв глаза, и слегка покачивала головой в такт мелодии. «Нет, любимый, нет…» — нежно и печально пела девушка на эстраде. Даниелян тоже, видимо, ушел в песню, его мысли были где-то далеко. Чуть отодвинувшись от стола, он курил и молчал. «Глаза у него тоскливые, как у побитой собаки», — подумала Сона. Она даже пожалела его. Вот кончится песня, думала Сона, улажу вопрос с путевкой и уйду отсюда… — Вот ты говоришь — достоинство, — заговорил наконец Даниелян. — А ты хоть знаешь, кто такой Артем Никитич? — И не желаю знать. — Не желаешь… — печально вздохнув, покачал он головой. — Ну, конечно… Помню, я уже институт заканчивал, а костюма еще не имел. Веришь ли, чтобы сфотографироваться для виньетки, пришлось надеть костюм приятеля. Бывает, гляжу я теперь на эту фотографию и самому противно делается. Там, понимаешь, пиджак вроде как отдельно от меня существует, галстук тоже сам по себе. Будто насильно нас соединили. Кончил я институт, стал инженером. Девятьсот рублей получал старыми деньгами. Триста давал за комнату, которую снимал. Ты бы видела эту комнату… Как-то приехал отец из деревни навестить меня — так даже ужаснулся. Прослезился старик. Сынок, говорит, у нашей собаки и то конура лучше. Бросай, говорит, все, вместе домой вернемся… — Даниелян отпил глоток коньяка, закурил новую сигарету и продолжал: — Вот когда стали застраивать город и ломать старые домишки, тогда-то и пошли мои дела на поправку. Я тогда частниками занимался. — Не рассказывайте, прошу вас! — Не буду, — грустно улыбнулся он. — Ты только помни: никто никогда не упустит того, что заработано тяжкими трудами. А думаешь, это твое «Тема» дешево мне обойдется? — Он оскорбил меня, я и ответила. Высокий лысый мужчина за соседним столиком, узнав Даниеляна, окликнул его, встал со стаканом в руке и явно намеревался подойти, но Даниелян, не говоря ни слова, просто помотал пальцем и, вновь повернувшись к Сона, сказал: — Больше месяца не увижу тебя… Сильно буду тосковать. — Я еще не знаю, поеду ли. — Отчего не поехать. Отдохнешь и вернешься. Все будет хорошо. Сона вынула путевку из сумки, положила на стол. — Вот путевка. А что касается обмена… Поступайте как знаете, дело ваше… — Что это значит? — То, что я не могу стать вашей любовницей. Даниелян опустил глаза, закурил, потеребил волосы и лишь тогда ответил: — Возьми путевку. Мне ничего другого не надо. — Я возьму, только если вы возьмете деньги. — Сона достала из сумки конверт и протянула Даниеляну: — Вот, здесь двести рублей. На его лице промелькнуло что-то вроде улыбки: — Это много. Я заплатил тридцать процентов. Сона распечатала конверт, отсчитала шесть десяток, положила деньги перед Даниеляном. Даниелян поискал глазами официанта, подозвал его и, показывая на лежащие на столе деньги, сказал: — Отдай им, пусть снова сыграют «Нет, любимый, нет…». — Все отдать?! — Все. Официант взял деньги и ушел. — Кого вы хотите удивить? — спросила Сона, закурив и отводя сердитый взгляд от сигаретного дыма. «Хамство, — подумала она. — Обыкновенное хамство». В дальнем конце закусочной послышался шум, раздались крики. Кто-то, грохнув кулаком по столу, громко заспорил с собутыльниками, нарываясь на скандал. Буфетчик спокойно вышел из-за стойки, подошел к буяну, схватил его за шиворот и молча выкинул за дверь. Потом брезгливо потер руки и пошел обратно. — Завтра я уезжаю, — подавленно сказал Даниелян. — Ты бы хоть слово сказала на прощанье. — Он протянул руку, чтобы дотронуться до ее плеча, но Сона отстранилась. — Хоть слово, жестокая… — Я уже все сказала. — А я бы после командировки прямо к тебе заехал. Провели бы вместе у моря несколько дней… — Это наша последняя встреча. — Жаль. Я ведь с тобой совсем другим человеком делаюсь, как ты этого не понимаешь?..
— Завтра воскресенье, — сказала мать, — дети будут дома. Давай-ка я прямо сегодня возьму их с собой к сестре, чтобы они тебе не мешали, а ты спокойно занимайся своими делами. — Разве можно навещать больного человека с такой оравой? Лучше оставь их и иди одна. — Так ведь сестра сама хочет их видеть. Все просит: приведи детишек, соскучилась я по ним… — От их криков и возни и здоровый заболеет, — неуверенно сказала Сона. — Тебе ведь надо готовиться в дорогу, — настаивала мать. — Погладить, уложить вещи. — Ты так говоришь, будто я завтра еду! — Нельзя все откладывать на последний день. Лучше не спорь, а одевай детей. Сона понимала ее. Мать очень хочет, чтобы Сона поехала в санаторий, вот и заставляет ее собираться заранее. От этого на сердце у старушки будет спокойнее. Ведь уложенный чемодан, билет на самолет, путевка на руках означают, что ты уже наполовину в дороге. Сона одела детей, вышла с ними и с матерью на улицу, остановила такси, усадила их и вернулась домой. Войдя в квартиру, она на миг потерялась от царящей здесь непривычной тишины. Нет, видно, никогда она не привыкнет к одиночеству. Разве сможет она быть одна в санатории? Сона пожалела даже, что не оставила с собой дома кого-нибудь из малышей. Она включила на кухне утюг, принесла платья, сбрызнула их водой. Потом вспомнила о купальнике. Сколько лет ей не доводилось надевать его! Надо бы примерить: а вдруг не подойдет? Она нашла купальник, переоделась, по привычке прячась за дверцей гардероба, хотя в доме никого не было, и подошла к зеркалу. Она понравилась самой себе, улыбнулась отражению и вслух сказала: «А что, еще вроде бы ничего! Не особенно еще растолстела…» Потом распустила волосы по плечам, как будто уже была на пляже, и накрасила губы. Наверное, еще долго бы длилось это чуть печальное разглядывание своего собственного отражения, если бы не зазвонил телефон. Сона в купальнике пошла в гостиную и подняла трубку. Звонил Рубен. — Я вас слушаю, Рубен. Рубен молчал. Сона слышала в трубке его дыхание. Ей казалось даже, что до нее доходит тепло его губ. Сона вздрогнула всем телом и сказала: — Интересно, долго вы еще будете молчать? — Когда вы говорите «слушаю», я сразу забываю все, что хотел сказать. Сона улыбнулась и показала трубке язык. — Что же мне говорить? — Не знаю… — Интересный вы человек! — Да? Наша секретарша говорит, что как увидит меня, так ее сразу в сон начинает клонить. — Ваша секретарша, наверное, просто старая дева. — Наоборот, — ответил Рубен и рассмеялся. — Надо же, старая дева… В его смехе было что-то чистое, мальчишеское. — Значит, просто избалованная бабенка. — Да пусть себе говорит, если ей это нравится… — Почему вы разрешаете разговаривать с собой в подобном тоне? Почувствовала ли Сона, что будто защищает Рубена от кого-то неизвестного? — Сона… — Слушаю. — Не говорите «слушаю». — А что же мне говорить? — она кокетливо повела головой. — Скажите просто: «Что?» — Что? И это прозвучало в ее устах тоскливо и вместе с тем притягательно. — Давайте встретимся. Очень прошу… — Погодите-ка минутку, кажется, в дверь звонят. Она отложила трубку. В дверь никто не звонил. Сона пошла на кухню, постояла там, посмотрела на горящую красную лампочку на утюге, задумчиво выключила его, быстро вернулась в комнату, подняла трубку: — Встретимся. — Правда?! — радостно воскликнул Рубен, и от его голоса, зазвеневшего от восторга, у нее забилось сердце. — Правда. — Когда? — Через полчаса. — Около цветочного магазина? — Да. — Я раньше приду. И буду ждать, на сколько бы вы ни опоздали.
…Лежа с открытыми глазами в темной комнате, Сона старалась собраться с мыслями, понять и объяснить случившееся. Когда они, сидя на скамейке, обнялись, когда их дыхание смешалось, он на мгновение прервал поцелуй и прошептал: «Пойдем ко мне». А до этого, еще в самом начале, он сказал: «Я так скучаю по тебе…» — «Почему?» — «Это ведь не арифметика, разве объяснишь…» А потом… Рука Рубена коснулась ее руки, и она не отстранилась, ей передался ток его крови, ее бросило в дрожь, и все в ней перевернулось. Именно тогда Рубен обнял ее и стал целовать. Она тоже обняла его, уткнулась лицом в его волосы. Сейчас в постели ей показалось, что она слышит запах его волос. А может, все это только сон, может, ничего и не было? Сона протянула руку, пошарила рядом с собой. Мать с детьми была у своей сестры. Сона стало совестно. Дома у Рубена, в его постели, она даже и не вспомнила о детях. Какая же сила заставила ее, Сона, которая всегда жила для детей, забыть обо всем? Весна… При чем тут весна? Сона вспомнила спокойную улыбку Рубена, вздохнула и почувствовала, что в ней вновь рождается желание ощутить его тело рядом с собой. — Сегодня наш день! — громко сказала она, встала с постели и босая, в одной сорочке подошла к телефону. Рубен сразу взял трубку, как будто ждал звонка. — Ты не спишь? — Разве можно заснуть, Сона-джан! — Приходи ко мне. — Сейчас? Прямо сейчас? — Сейчас. Приходи скорей. Сона повесила трубку, постояла посреди комнаты с закрытыми глазами, пошла в спальню, надела халат, зажгла свет, причесалась и стала беспокойно ходить по комнате, не находя себе места. Пошла на кухню, не зажигая света, села на табурет и закурила. «Чем все это кончится? — сказала она себе. — Сегодня наш день, а завтра?» Может, завтра она пожалеет обо всем этом. Может, завтра все происшедшее покажется ей постыдным и бессмысленным… Не усидев на кухне, она пошла в комнату. По дороге заметила, что дверь в пустую детскую открыта. Она закрыла дверь, повинуясь смутному чувству: то ли постеснялась детей, то ли не хотела, чтобы Рубен узнал о них. Сона опять бесцельно походила по комнате, не выдержала, пошла в коридор, стала у входной двери и прислушалась. В подъезде было тихо. Она снова пошла на кухню, взяла свой окурок, громко сказала: — Тебе не семнадцать! Возьми себя в руки! Коротко прозвенел звонок.
Знакомый, но давно забытый аромат… Он исходил от постели. То был аромат солнца. Когда же он впервые узнал его? Бабушка выносила на солнце подушки и одеяла, и они впитывали в себя этот аромат. Рубен уже проснулся, но ему казалось, что он все еще спит, и он с наслаждением, не спеша вдыхал этот забытый аромат детства. Он протянул руку, стараясь нащупать сигареты. Сигарет не было. Рука повисла в воздухе и медленно опустилась. Рубен открыл глаза. В комнате — синий полумрак. На окнах висели голубые занавески, слегка раздуваемые ветерком. За окном щебетали птицы. — Сона, — прошептал он, повернув голову. Сона рядом не было. Донесся аппетитный запах жарящегося мяса, послышалось журчание воды. Рубен сел на кровати и вдруг уловил какое-то движение напротив себя. Он было растерялся, но тут же понял, что это его отражение в зеркале. — Дубовая ты голова! — весело сказал он отражению. — Вот это дом, даже зеркала висят. Это настоящий дом, не то что твоя неуютная конура! — Что ты сказал? — Сона стояла в дверях и с печальной улыбкой наблюдала за ним. Рубен застеснялся, быстро натянул на себя одеяло. — Что это ты бормочешь, а? — Как родник. Как чистый, прозрачный ключ… — Какой родник? — Улыбка у тебя. Чистая, как родник. — Ты, верно, стихи писал когда-то, — пошутила Сона. — Никогда. Только читал. Сона подошла, обняла Рубена, прижала его голову к своей груди, потом скользнула вниз, села рядом с ним, прижалась к нему и прошептала: — В доме мужчиной запахло… — Это сон, — тоже шепотом ответил Рубен. — Сон… — Чистый, голубой сон. — Рубен крепко обнял Сона. — Сона… — шептал он. Сона слышала и ощущала его дыхание, голова ее закружилась, сон стал теплым, потом горячим… Она отпрянула: — Скоро наши вернутся. — Подожди… — Нет, скоро они придут. — Кто? — Мама и дети. — Дети? Какие дети? — Мои дети. Я говорила, а ты не верил. Рубен потянулся, чтобы снова обнять ее, но Сона увернулась, достала из шкафа фотографии детей, подошла к Рубену, стала объяснять: — Это Карен, это Анна, а маленькая — это моя Лилит. Рубен взял фотографии, Сона отвела от них взгляд и стала наблюдать за Рубеном. На его лице расплылась добрая улыбка. — Какие они у тебя хорошие! — Хорошие… — ответила Сона. В глазах ее блеснули слезы, но она заставила себя улыбнуться. — Вот такие дела… Она спрятала снимки. — Ты будешь купаться? — А? — почесал Рубен подбородок. — Не слишком ли много мне чести? — Ничего не слишком, не выдумывай! — деловито распоряжалась Сона. — Иди быстрей ванна уже готова. Рубен вошел в ванную, откуда слышался шум воды. Вода ли была холодной или по другой какой причине, но Рубен, моясь, временами вскрикивал, и каждый раз Сона, с улыбкой покачивая головой, повторяла: «Ребенок, настоящий ребенок…» Она убрала постель, положила одежду Рубена на стул, перенесла стул к двери ванной, вернулась за носками и туфлями, положила их рядом и сказала: — Я принесла твою одежду. — Здорово! — крикнул Рубен. — Я сейчас. — Так накрывать на стол? — Да! Сона готовила завтрак и не увидела, как Рубен вошел на кухню. Он стоял и смотрел на Сона, не в силах отвести от нее взгляда. — Сона… — Искупался? — Сона оглянулась и внимательно, будто впервые его видела, оглядела Рубена. Карие глаза, чуть поредевшие, седоватые у висков волосы, небольшой нос, ямочка на подбородке… — Ты успела даже постирать и выгладить сорочку, носки… — За мужчиной уход нужен, — с деланной строгостью ответила она. — Ясно? — Я уже успел сделать с десяток открытий. — Интересно! — кокетливо покачала головой Сона. — Вода в кране слишком холодная… — Это раз. — От одеяла и подушки пахнет солнцем… — Это два. Садись. — И это твое «садись». — Спустись с небес на землю и ешь. — Сона поставила на стол тарелку. — А я, может, не хочу спускаться с небес. Я знаю, нынче сентиментальность не в моде, но как прожить без нее человеку в нашем суровом мире? Вокруг столько скуки, серости… И когда встречаешь светлое пятно на фоне обыденности, хочется все порхать вокруг него, кружить непрерывно, как мотылек вокруг лампы… Сона подошла, обняла Рубена. — И я хочу порхать вокруг тебя, — нежно вздохнула она. — Не бойся, дети не будут нам мешать. Я буду ходить к тебе в гости. Примешь меня? — шептала Сона. — А когда наших не будет дома, ты придешь ко мне, хорошо? — Она слегка отвела голову, солнечный луч блеснул в ее глазах, отразившись от невольно набежавших слез, и ресницы заиграли радугой. — Да, милый? — шептала Сона, прижимаясь к Рубену. — Да, да, да… — шептал он, целуя ее губы, глаза, щеки. Сона отодвинулась. — Ешь. — Позвони, скажи, пусть они придут позже. Или лучше пойдем ко мне, — теплое дыхание Рубена обволакивало Сона. Но она сдержалась: — Нет, тебе надо идти. Они вот-вот вернутся. — Который час? — Девять. Целых тринадцать часов мы вместе. Ешь. — Сона-джан, Сона-джан, Сона-джан… — Дети скоро придут, неудобно… — Твои дети хорошие. — Хорошие. Ты ешь. — Я сейчас съем тебя… Тебя, тебя, тебя! — Рубен крепко обнял Сона. — Прошу тебя, ешь и уходи. Я сейчас как на иголках. — А я по утрам вообще не ем. Я только кофе пью. — Жаль, времени нет… — вздохнула Сона. — А то бы я приготовила кофе. — Когда мы встретимся? — Я позвоню. Или ты позвонишь. — Не смотри так, я уже ухожу. — Думаешь, я хочу, чтобы ты ушел? — Только поцелую тебя — и пойду. Они вновь обнялись. У дверей Сона приложила палец к губам: «Тише!» Она открыла дверь, посмотрела, нет ли кого в подъезде, и выпустила Рубена. Легко, по-мальчишески перепрыгивая через ступеньки, Рубен сбежал по лестнице и вышел на улицу. Домой идти не хотелось. Восторг кружил голову, Рубену казалось, что он не идет, а парит над землей. В голове теснились мысли, бессвязные, но приятные. Образ Сона стоял перед ним, и, думая о ней, Рубен шептал: «Сона-джан, Сона-джан, Сона-джан…» Проходя мимо кафе, он сказал про себя, обращаясь к Сона: «Зайду выпью кофе. Считай, что это ты мне его сварила». Рубен вошел, взял кофе, сел за столик. От железного стола и стула исходила приятная утренняя прохлада. Птицы на ветвях оживленно передавали друг другу короткие, как телеграммы, и такие же важные птичьи новости. Ветви деревьев чуть покачивались от слабого ветерка, пропуская, как сквозь сито, солнечные лучи, и от этого казалось, что идет золотой дождик. Рубен невольно улыбнулся своим мыслям, и, наверное, поэтому к нему подошел старик с чашкой кофе в руках, сел за столик и сказал: — Доброе утро. — Доброе, доброе, — улыбнулся Рубен в ответ. Старичок аккуратно развернул газету, водрузил на нос очки и стал читать, изредка прихлебывая кофе. Потом как бы между прочим, не отрывая глаз от газеты, спросил: — Что ты думаешь о Стресснере? — Что? — О Стресснере, спрашиваю, что думаешь? — А кто это такой? — Ну как же! Парагвай! Стресснер! — возбужденно объяснил старик, помахав рукой для убедительности. — Ну и что? — Кто там победит, как считаешь? — Я… я не знаю, — пожал плечами Рубен. — Вам бы только пить да с девками гулять! — махнул рукой старик. — У вас, молодых, одно на уме… А вот газеты читать времени не хватает, нет, не хватает! — Читаем, не волнуйтесь, — буркнул Рубен. — Как же, читаете, видим, как вы читаете… Простых вещей вот не знаешь. Ты, например, кем работаешь, а? — с иронией спросил старичок. — Я? — Ты. — Директором завода! — чуть помолчав для внушительности, отрезал Рубен. — Это другое дело… — старичок с уважением посмотрел на него, аккуратно сложил газету, отложил ее в сторону, прокашлялся, явно желая завязать разговор, но Рубен успел опередить его. — Вот так-то! — важно сказал он и встал из-за стола.
Мать вернулась домой растерянная, не в духе. С ней были только Карен и Анна, а младшей, Лилит, не было. Сона заволновалась. — У тети Рузан все лицо скривилось, — с порога сообщил Карен. — Что? — не сразу поняла Сона. — Как это — скривилось? Мать утвердительно кивнула и пошла в комнату. — А бабушка оставила Лилит у тети, — сказал Карен. Сона облегченно вздохнула и пошла за матерью. Мать неподвижно сидела в кресле. — Что случилось? — Инсульт у нее. — Когда это случилось? Мать не ответила. То ли думала о чем-то, то ли просто не было настроения разговаривать. Подбородок у нее задрожал, она поднесла платок к глазам. — Когда? Скажи, когда? — Она уже давно говорила, что ей не по себе, — сказала мать. — Да… — И в этом состоянии еще и ходила… — Неужели не понимал никто? — Да кому там понимать?! — вскипела мать. — Кому? Муж день-деньской на работе, сыновья все отдельно живут. Кому было понимать? — Разве она ни на что не жаловалась? — Говорю же, все твердила, что ей не по себе. Да и то сказать: кому из нас нынче по себе?.. — Что же теперь будет? — Ох, откуда мне знать? — вздохнула мать. — Далеко зашло… — А ты что там делала? — Сыновей позвала. Они доктора привели, он и сказал, что у Рузан кровоизлияние. Правой рукой и ногой почти двигать не может. И рот искривился. — Может, в больницу надо? — Она об этом и слышать не хочет, — махнула мать рукой. — Только плачет и все приговаривает: лучше, мол, дома помирать, чем в таком виде в больницу ложиться. — Мать опять прослезилась. — Ума не приложу, что же теперь будет! — Пройдет, — сказала Сона. — Со временем пройдет. — Врач сказал: узнали бы о болезни пораньше, она бы удар легче перенесла. — Теперь уже не поможешь. — За что нам такое наказание? — сквозь слезы стонала мать. — Я ей сто раз говорила: пожалей себя, в твоем возрасте нельзя с утра до ночи на работе пропадать. Сама еле ходила, а еще и чужие уроки взяла, заменяла… — Она ведь на пенсию собиралась, так что это понятно, — заметила Сона. — Не молодая она ведь, чтобы такой груз на себя взваливать! — Ну, все так делают. — Все… Лучше плюнуть на эти лишние десять — двадцать рублей, чем так здоровьем рисковать. Пусть уж пенсия будет меньше. Не умрет небось с голоду! — Бедная тетя… — Видно, чуяло ее сердце, — сказала мать. — Не зря вчера просила, чтобы я детей к ней отвела. Повидать хотела. — Что же теперь будет? — Не знаю. Двигаться ей нельзя. Сыновья сказали, что лечение берут на себя. Но ведь за ней уход нужен, ее умывать надо, судно за ней выносить, стряпать, менять белье… Кто все это сделает, невестки? — Невестки, как же, — усмехнулась Сона. — Эх, нет у нее дочки… — Ничего, как-нибудь справимся. — Вот и я говорю. Пока ты не уехала, я с Лилит побуду у нее. А уедешь — не знаю, как и быть. Пусть сыновья что-нибудь придумают, пусть невестки по очереди дежурят. Сона задумалась, но не столько о тете, сколько о Рубене. — Никуда я не поеду, — вдруг сказала она. — Как так? — Вчера я вернула путевку. — Почему?! — всплеснула руками мать. — В кои-то веки повезло! — Его путевка мне не нужна. — Эх-хе-хе… — вздохнула мать, покачав головой. А я уже сказала сестре, что ты поедешь на курорт. Она, бедняжка, так обрадовалась. — Мать помолчала, с сомнением глядя на дочь. — Или, может, ты узнала, что она больна, и потому вернула путевку? — Ничего я не знала. Вернула — и все. Дети ели? — Ели. Пусть они дома посидят, а я снова туда пойду. — А ты сама ела? — Нет. Я лучше кофе выпью. — Хоть спала? — Так, немного. Я звонила тебе… — Я поздно пришла домой. — Ты уложи платьице и белье для Лилит, выбери пару игрушек, пока я сварю кофе, — сказала мать и пошла на кухню. Чуть позже, когда они сидели на кухне, мать спросила: — У нас кто-то был? — Был, — отвела глаза Сона. — Мужчина? Сона не ответила. — Что ты молчишь? — Я потом скажу. — Неужели этот негодяй? — Нет. Ты его не знаешь. — Ах, да! — как будто успокоилась мать. — Верно, тот, что все звонит тебе… Сона кивнула. Мать поняла, что она смущена, и переменила тему разговора: — Ты бы только видела, что твой негодник у тетки творил! — Карен? — Кто же еще? К чему ни притронется — все сломает, все портит. Хоть бы понимал, что в доме больной человек… Ему говори не говори — все одно, не слушает. — Надо было отшлепать. — Как выйдет из дому — будто подменяют его. Шалит, никого не слушается. — Карен, — позвала Сона. — Карен! — Не надо, — сказала мать, — не надо, не зови его. — Она не утерпела и опять спросила: — А кто он такой? Кем работает? — Инженер. — Простой инженер? — Да. — Сколько он там может заработать?.. — Будто все уже выяснили, осталось только насчет зарплаты спросить! — улыбнулась Сона. — А если не выяснили, почему он приходил? Гляди, дочка… — Приходил — и все, — потупилась Сона. — Может, он такой же, как твой этот, шептун. — Какой еще шептун? — Сама знаешь, в тихом омуте… Такие нашептывают, сбивают женщину с толку, охмуряют, а потом — ищи-свищи! Нет, сейчас Сона не была взрослой женщиной, матерью троих детей, хозяйкой дома. Она напоминала согрешившую семнадцатилетнюю девчонку, которая стыдится и боится взглянуть матери в глаза. — Кто он, откуда? — Не знаю. — Как же так можно?! Надо выяснить. — Предположим, выяснили, а дальше что? — тихо сказала Сона, опустив голову. — Если он человек серьезный, я не против, выходи за него. — Я о замужестве не думаю. — Не понимаю, — беспокойно шевельнулась мать. — О чем же ты думаешь? Сона пожала плечами. — Сколько ему лет? — Тридцать семь. — Может, он разведен? — Нет. Говорит, что нет. — Сказать все можно. Надо это проверить. — Мать отодвинула кофе, помолчала и сказала: — Если он приличный человек, почему же до сих пор ни на ком не женился? — Не знаю. — Все не знаю да не знаю… А что ты знаешь? Казалось, еще минуту назад все вокруг было полно Рубеном, его голосом, его дыханием… Куда все это делось? Сона прикрыла глаза и глубоко вздохнула, стараясь уловить знакомый запах. — Как бы он не оказался вроде твоего прежнего, — сказала мать. — А что прежний? — Господи, прости! — вздохнула мать. — Правда, об умерших плохо не говорят, но как ты жила с ним, бедная моя… — Жила как жила, — глубоко вздохнула Сона. — Жила! Да разве это была жизнь! Являлся домой пьяный, приходил поздно, кричал, грубил, деньги из кармана доставал и швырял тебе в лицо: подавись, мол, вся твоя месячная зарплата здесь, я за день столько зарабатываю! Думаешь, я ничего не знаю? Все знаю. А ведь тебе еще и завидовали, будь они неладны! — Завидовали, верно, — горько усмехнулась Сона. — Хоть бы знали, чему завидуют. Как же — муж, машина, деньги! — Да провались они, эти деньги, эта машина… — Правильно, доченька. Теперь ведь среди тех, кто при деньгах, редко порядочного человека встретишь, разве что один из тысячи. Так, говоришь, он инженер? — Инженер. — Насчет детей что говорит? — Сказал, хорошие дети. — Он что, видел их? — Я фото показывала. — Что ж, хорошо, коли так… Если по сердцу он тебе, дочка — выходи за него. — Да ведь у нас об этом ни слова не было. Я его намерений не знаю. — Если хочешь знать, он каждый день богу свечку должен ставить за то, что ему такая, как ты, женщина встретилась, такие дети… Малыши мои ненаглядные!.. — А я, я разве не должна поставить свечку? — голос Сона задрожал, на глаза навернулись слезы.
Под вечер заморосил дождь. Пробуя чем-то занять себя, Рубен сидел на кухне и разбирал сложную схему. Но у него на сей раз ничего не получалось. Карандаш, скользящий по головоломно сплетенным линиям, иногда замирал, как бы натыкаясь на невидимое препятствие, и начинал топтаться на месте, описывая бессмысленные круги, как колесо буксующей машины. В это время Рубен даже не смотрел на схему. Все его мысли были о Сона. Взгляд блуждал по кухне, ни на чем не задерживаясь. Сона сказала: «Если смогу пристроить детишек, хоть на часок к тебе забегу». — «Бессердечная, — ответил он, — мы ведь уже четвертый день не виделись. Я не могу больше так». — «Я тоже», — ответила она. «Пойду, помолюсь, чтобы твоя тетя скорее выздоровела». — «Ей плохо, — ответила Сона. — Ей очень плохо». — «Разве нельзя просто оставить их одних? Только на часок, ведь они у тебя уже взрослые». — «Больше никогда не говори такого», — ответила она. «Я скучаю, очень скучаю…» — «Я тоже…» Рубен раздраженно отбросил карандаш и, не находя себе места, принялся бесцельно кружить по кухне. Подошел к окну, вгляделся в вечерний сумрак, сказал в сердцах: — И что только льет и льет этот дождь! Зазвонил телефон. Рубен в два прыжка оказался у аппарата и схватил трубку. Но звонила Варсик. — Если я тебе не позвоню, ты и не вспомнишь обо мне! — Ну и что? — недовольно вздохнул он. — Раньше ты со мной не так говорил. — Варсик, — начал было он, но Варсик перебила: — А не ты ли приходил, часами торчал под окнами школы, ждал меня, даже наши учителя смеялись? — Варсик… — Да ты бога должен благодарить за то, что такая девушка, как я, вообще разговаривает с тобой. Подумаешь, инженер по технике безопасности! — Да погоди ты, Варсик… — Я сама во всем виновата! Разве с таким болваном о чем-нибудь договоришься? — А ты и не договаривайся! — крикнул Рубен. Он бросил трубку и закурил. Опять зазвонил телефон. — Ну что за человек! — крикнул Рубен телефону. — Ни капли самолюбия! — Он с отвращением посмотрел на аппарат, не желая поднимать трубку, но звонки были настойчивые. Рубен схватил трубку и крикнул: — Ну, что тебе еще?! — С детьми все уладилось. Через полчаса буду у тебя. — Сона!.. — Ты понял, о чем я? — Повтори. — Говорю, зайду к тебе через полчаса. — Приходи скорее! — Иду. Сона идет! Рубен посмотрел на часы. Было ровно семь. «Что же мне теперь делать?» — подумал он погляделся по сторонам. В комнате было чисто, только в углу на стуле валялась одежда. Рубен повесил ее в гардероб, задумался и нажал кнопку в стене. Бочонок послушно повернулся, превратившись в бар. Там стояли початая бутылка водки и бутылка вина, больше ничего. Рубен представил себе марочный коньяк, шоколад, кофе… — Быстро! — скомандовал он сам себе и выбежал из дому. В ближайшем гастрономе марочного коньяка не было. — Мне вот так надо! — обращаясь к продавцу, провел ладонью под подбородком Рубен. — Очень тебя прошу, помоги! — Да ведь правда нету. Шоколад вот есть, пожалуйста, а порядочного коньяка нет. — Где же достать бутылку? — спросил Рубен, расплачиваясь за шоколад. — Разве что в ресторане. Рубену действительно удалось купить в ресторане марочный коньяк. Он сел в такси, примчался домой, разместил в баре коньяк и шоколад, вытащил вино и водку, отнес на кухню, немного успокоился, остановился и спросил себя: «А из чего, собственно, вы намереваетесь пить?» Выйдя из квартиры, он постучался в соседскую дверь. — Кто там? — спросил низкий мужской голос. — Это я, — ответил Рубен, — ваш сосед. Долго гремели многочисленные замки и запоры, наконец дверь приоткрылась. Сосед, волосатый, богатырского сложения мужчина, внимательно осмотрел Рубена в щелку и лишь после этого распахнул дверь. — Я напротив вас живу, — промямлил Рубен, — вы, наверное, встречали меня в подъезде… — Приходилось. — Вот, гостей жду. Мне бы пару рюмок, две кофейные чашки и еще что-нибудь, во что можно положить шоколад. Как гости уйдут — я сразу верну все, не сомневайтесь. — Это можно. — Мужчина широко зевнул и почесал волосатый живот. — Заходи. — Он прошел вперед, шаркая шлепанцами. — Хозяйки дома нет, — сообщил он, не оборачиваясь, — а сам я, понимаешь, в этом хозяйстве не особенно разбираюсь. Так что уж сам смотри, что тебе нужно. Рубен стоял перед роскошным сервантом, глаза у него разбегались. Чего тут только не было: хрусталь, серебро, фарфор… — Выбирай, не стесняйся, — предложил сосед. — Бери что надо. Рубен осторожно взял с полки две рюмки и серебряную вазочку для шоколада. — Сразу, пожалуй, все не унесу, еще разобью ненароком что-нибудь. — Да ладно… Вот, сложи все сюда и неси. Вот так, — сказал сосед, когда Рубен по его совету положил рюмки и вазочку… — Может, выпьем? — не дожидаясь ответа, сосед пошел в кухню, достал початую бутылку коньяка. Рубен заметил, что коньяк был той же марки, что и взятый им из ресторана. Хозяин снял с полки первую подвернувшуюся рюмку, налил до краев и протянул Рубену. Себе он налил полрюмки. — Четыре года на одной лестничной площадке живем, а до сих пор как следует не познакомились… — смущенно сказал Рубен. — Ага! — отозвался хозяин равнодушно. — Привет! — и опрокинул рюмку. Рубен тоже выпил и почувствовал, как по телу стало разливаться приятное тепло. Он подождал дляприличия, думая, что сосед еще что-нибудь добавит, но тот молчал. — Я пойду, — сказал Рубен, помявшись. — Давай. — Верну все, что брал, утром, чтобы поздно не беспокоить. — Ладно. Рубен вернулся к себе, аккуратно расставил рюмки, разломал плитку на кусочки, наполнил шоколадом вазочку, отошел и со стороны придирчиво осмотрел стол. Красиво. Пожалуй, только музыки не хватает. Он нажал на кнопку, медленно опустились занавески, и в комнате стало темнее. Рубен включил встроенный в бар магнитофон. Зазвучал низкий голос Фрэнка Синатры. По стенам побежали разноцветные блики. Наверное, Синатра пел о любви, о дожде, который беззвучно моросил за окном, о Рубене, который стоял полузакрыв глаза и ждал Сона, о том, как Сона войдет в комнату и Рубен обнимет ее прямо у двери, возьмет на руки, поцелует… Раздался звонок в дверь. Рубен вскочил, бросился открывать. Впереди, у порога, стояли мальчик и девочка, позади — Сона. Она молча смотрела на него. В коридоре приглушенно звучал голос Синатры. — Заходите, — пришел он в себя. — Вытрите ноги, — тихо подсказала детям Сона. Не успели они войти, как мальчик радостно крикнул «Бах!» — и под носом у Рубена с треском раскрылся зонтик, обдав его дождевыми брызгами. От неожиданности Рубен отпрянул к стене, больно стукнувшись спиной. — Карен! — сердито прикрикнула на сына Сона. — Карен! Карен швырнул зонт на пол и побежал в комнату, девочка бросилась за ним. — Ты извини… — замялась Сона. — Он у меня такой шалун! Рубен криво улыбнулся, закивал головой, попытался рукавом стереть брызги с лица. Сона вынула из сумки платок, помогла ему. — Сона, — прижав ее ладонь к своему лицу, прошептал Рубен, — Сона… Голос Фрэнка Синатры захрипел, стал глохнуть и пропал. Рубен медленно повернулся, осторожно заглянул в комнату. Карен всей пятерней лупил по клавишам магнитофона. — Карен! — крикнула Сона, бросилась в комнату, ухватила сына за ухо и вывела его на середину. — Что это такое! Ты как себя ведешь?! — от волнения ее грудь учащенно вздымалась. Видно было, что лишь присутствие Рубена сдерживает ее, иначе она просто отлупила бы шалуна. — Оставь его, — тихо сказал Рубен. Сона лишь сердито взглянула на него, как бы говоря: «не вмешивайся!» — Ты же сама говорила, что это хороший дядя, — опустив голову, тихо пробормотал мальчик. — Что ж с того, что хороший? Выходит, у него и безобразничать можно?! — Ну ничего, ничего… — Рубен вынул магнитофон из бара и попытался его исправить, однако не вышло. — Испортил?! — не могла успокоиться Сона. — Испортил, да? — Не беда, испортил — починим, — пробормотал Рубен, разглядывая магнитофон. — Что нам стоит… — Да спрячь ты его, ради бога, спрячь! Ты моих еще не знаешь. Рубен нажал на кнопку, и бочонок послушно повернулся, скрывая бар. Музыка умолкла, лампочки однообразно светились тусклым красным светом. Оставив сына, Сона подошла к Рубену. — Они не захотели остаться у подруги, — виновато прошептала она. — Ни за что не хотели… — Ясно, — ответил Рубен с обидой и огорчением. — Ничего тебе не ясно, — все так же шепотом продолжала она. — Они плакать стали, как же я могла оставить детей в чужом доме? — Понял. — Не надо так! — Сона отошла и уселась на диван. Дочка, которой, видно, наскучило наблюдать за братом, обиженно стоявшим в углу, подошла к столу, потянулась к вазочке, взяла кусок шоколада и при этом задела кофейную чашку. Чашка упала и разбилась. От испуга девчушка пустилась в рев. — Что ты наделала! — всплеснула руками Сона. — Ну ничего, доченька, ничего… Мы сейчас уйдем. Мама купит новую чашку, ты только не плачь… Рубен принес из кухни веник и совок, чтобы подмести осколки, но Сона занялась этим сама. — Зажги свет, ничего не видно, — попросила она. Карен незаметно поднял с пола осколок чашки, повертел его и сунул к себе в карман. Пока Сона подметала, Рубен, не зная, что делать, растерянно топтался рядом, бросая на детей опасливые взгляды. Он явно беспокоился, как бы они еще что-нибудь не натворили. — Убери-ка со стола, — сказала Сона. — Но кофе… — заикнулся было он. — Включи телевизор, пусть смотрят. Они по нему с ума сходят. Ну, хватит! — прикрикнула она на дочку, которая продолжала всхлипывать. — Что было, то прошло. Идите лучше телевизор смотреть. Рубен включил телевизор и привычно стукнул кулаком по корпусу. Появилось изображение. Это понравилось Карену, он подбежал и изо всех сил тоже стукнул по телевизору кулачком. Потом взял стул и чинно уселся перед экраном. — Иди сядь рядом с братиком, — сказала Сона дочке. Когда дети наконец уселись, а Рубен примостился рядом с Сона в кресле, она внимательно взглянула на него своими усталыми и печальными глазами и сказала: — Вот, не захотели оставаться, и все тут. Видно, чувствовали что-то. — Наверно, — улыбнулся Рубен. — Подумала — хоть с ними, а зайду на полчасика. Хотя бы увидимся… — И правильно сделала, — прошептал Рубен. — Не вытерпела, — тихо проговорила она. — Ты не сердись. — Я не сержусь, — ответил Рубен и взял ее ладонь в свою. — Помнишь, ты говорил, что у меня хорошие дети! Видишь, что они натворили… — Ничего. — Дом вверх тормашками перевернули. — Сона! — Рубен сжал ей руку. — Что?.. Вот вернется мать домой, легче станет… — Придешь ко мне? — Приду. — И до утра останешься? — Посмотрим. Дети, сидя перед телевизором, стали толкаться. Вдруг Анна вскрикнула. — Что случилось? — Сона вскочила с дивана и подбежала к ней. — Ты чем это порезалась?! — Вот этим, — Карен показал матери осколок чашки. — Я не виноват, она сама отнять хотела! Рубен подошел к Карену, нахмурившись и сжав губы, посмотрел ему в глаза и неожиданно влепил оплеуху. Резко повернулся, пошел в кухню за йодом и ватой. — Глубоко порезалась? — Нет, — сдержанно ответила Сона, видно, обидевшись за сына. — Погоди-ка… Рубен смочил вату йодом, осторожно приложил к пальчику. Девочка заревела еще пуще. Рубен нежно подул на ранку. — До свадьбы заживет, — сказал он. — Подуй теперь сама. Дуй, не бойся! Анна послушно подула. — Молодчина! — обрадовался Рубен. — А теперь дай опять я. Анна перестала плакать и протянула ему пальчик. Рубен подул. — Вот видишь, и не больно вовсе. А теперь ты! Девочке понравилась эта игра. Улыбаясь сквозь слезы, она старательно дула на ранку. Рубен снова приложил вату и сказал: — Придержи другим пальчиком. Только смотри, не отпускай и никому не разрешай дуть. — Не разрешу. — Молодчина! — радостно повторил Рубен и краем глаза посмотрел на Карена. Мальчик молча съежился в кресле. — А ты эти свои штучки брось! Где стекло? Карен протянул ему осколок. — Так. — Рубен обернулся к Сона. — Сядем. — Поздно уже, мы пойдем. — Посидим немного… — его голос опять смягчился. Они сели, Рубен вновь осторожно взял ее руку в свою. Сона сделала слабую попытку освободиться, но так и оставила руку в его ладони. — Я не должна была приходить к тебе сегодня, — тихо сказала она, — не надо было приходить с детьми…
Сона взяла из рук Рубена сладко спящую дочку, вошла в подъезд. Она, наверное, стеснялась соседей и не хотела, чтобы Рубен поднимался к ней с ребенком на руках. Небо после дождя просветлело, кое-где уже сверкали звезды. Было холодно, Рубен почувствовал это, когда расслабил руки, напрягшиеся под тяжестью девочки, и тепло ее тельца стало постепенно улетучиваться. На миг Рубену показалось, что он опустошен. Он потер затекшую руку и, пожалев мельком о том, что отпустил такси, зашагал по мокрому асфальту. Проходя мимо кафе, Рубен вспомнил о разбитой чашке. Ему стало не по себе и расхотелось возвращаться домой. Рубен вошел в кафе, взял чашечку кофе и рюмку коньяку, присел за свободный столик в углу. «Сиди, пей кофе и постарайся спокойно все обдумать», — сказал он себе, но вскоре понял, что это просто невозможно, шум в кафе мешал сосредоточиться и остаться наедине с собой. В общем гвалте выделялись резкие голоса, идущие от компании шестнадцати-семнадцатилетних подростков, которые сидели неподалеку от его столика. Они громко шутили и смеялись, стараясь привлечь к себе внимание сидящих рядом девушек. Одна из них гадала на кофейной гуще, это-то и было причиной их смеха. Один из подростков, высокий худой парень с нагловатым взглядом, поставил перед девушкой пустую кофейную чашку. — По очереди, — заявил он. — Сперва женщина, потом мужчина, женщина — мужчина… Идет? Его компания заржала. Девушка молча усмехнулась. — Лучше мы ей взятку дадим, тогда она наши чашки сперва посмотрит, — сострил кто-то, — времени у нас мало! Вновь раздался взрыв хохота. «Вот бы встать сейчас и врезать им», — подумал Рубен, оглядев подростков мрачным взглядом, но понял, что это вряд ли удастся. «Ну и поколение пошло… Тьфу!» Вообще-то он любил подолгу смаковать кофе с коньяком, но теперь единым духом опрокинул рюмку и сказал присевшему рядом с ним мужчине: — Неужели у них родителей нет? Незнакомец, человек лет за сорок с открытым лицом, сперва не понял: — У кого нет? — Да у этих вот, — Рубен кивнул в сторону подростков. — Дети, что с них взять! — Об этом я и говорю. Что же из них получится, кем они вырастут? — Мы тоже молодыми были… И ничего, людьми стали. — Ну-ну… — недовольно протянул Рубен. — У вас дети есть? — спросил мужчина. Рубен понял: если он сейчас скажет правду, все его сентенции потеряют для незнакомца всякую ценность. — Иметь детей — это еще не все, — дипломатично заявил он. — Воспитывать надо уметь… — Но все же, есть у вас дети? — Предположим, есть. Что из того? — Девочка, мальчик? — И девочка, и мальчик. — Кто старше? — Сын. — Сколько ему? Рубен задумался, стараясь вспомнить, сколько лет Карену. Вспомнил, что восемь, но тут же подумал, что не имеет к Карену никакого отношения, и ответил: — Десять. — То-то и оно! — значительно поднял палец незнакомец. — Вот когда вырастет, тогда и поговорим. — О чем? — не понял Рубен. — Так ведь и родитель сам вместе с ребенком растет, — добродушно улыбнулся мужчина. — Растет и приспосабливается к возрасту своих детей. Ты пойми… — он встал. — Последи, чтобы никто не сел, я сейчас. Высокий парень приставал к девушкам с предложением выпить. Он поставил на стол бутылку дешевого вина и заявил: — Если не выпьете, обижусь и не стану с вами больше водиться. — Его друзья загоготали. Рубен сердито отвернулся. В кафе висел запах прокисшего вина и плавали облака сигаретного дыма. Это тоже вызывало отвращение. Рубен собрался уходить, но вспомнил, что незнакомец просил последить за местом. Скоро мужчина вернулся, неся две рюмки коньяку. — Одна тебе, другая мне, — сказал он, ставя рюмки на стол. Выпьем сперва за наших детей, а потом я тебе кое-что скажу. Рубен молча чокнулся с ним и отпил, а незнакомец выпил до дна, закурил и, придвинувшись к Рубену, сказал: — Говоришь, воспитывать их надо? А вот ответь, как ты своего сына воспитываешь? Если бы не неожиданное угощение, Рубен, наверное, встал бы и ушел, но теперь уже неудобно было уйти просто так. — Каждый воспитывает по-своему, — ответил он. — И как же воспитываешь ты? — Ну… он ведь в школу ходит. — В школу все ходят. — Учит уроки. — Что еще? — Играет. — Это ясно, — сказал незнакомец. — Но твое-то воспитание в чем заключается? — Я с ним в шахматы играю! — догадался Рубен. — Да? Это другое дело! — кивнул мужчина. — Это хорошо. — Еще он электронные схемы собирает, — воодушевился Рубен. — Правда, не очень сложные. — Разбирается, значит, в этом? — Я помогаю, если что… — Все это хорошо, — заметил незнакомец. — Ты просто молодец. — У него ведь и распорядок дня есть. Все по режиму. — Небось ты ему составил и на стенку повесил? — Точно. — Неужели не нарушает? — Пусть только попробует! — Бьешь? — Разок только стукнул, да и то слегка. Рубен вдруг понял, что в кафе стало гораздо тише. Подростки ушли, девушек за соседним столиком тоже не было. — Значит, ты сумел себя правильно поставить, — помолчав, сказал незнакомец. — Тебя не боятся, а уважают. — А как же! — сказал Рубен. — Значит, и жена тебе попалась понимающая. Не сует свой нос, куда не просят… — Точно, — ответил Рубен, замечая, что собеседник съеживается на глазах, будто уменьшаясь в размерах, как улитка, старается уйти в себя. — Не выпить ли нам еще по одной? — Нет, — ответил Рубен, — многовато будет, пожалуй. Мужчина посмотрел на него, кивнул и сказал: — А я вот сижу и жду, пока в кино сеанс кончится. Дочка в кино пошла, а я ее домой отвести должен. Спрашивается — зачем девочке в такой час ходить в кино?! — Случается… — Если бы меня слушали, ничего такого не случилось бы! — стукнув по столу кулаком, заявил незнакомец. — Разве обязан я после работы, устав, как собака, являться сюда и ждать, вместо того чтобы отдыхать дома?! — А ты бы попозже пришел, к концу сеанса, — посоветовал Рубен. — Да разве я знал, что фильм двухсерийный! — Незнакомец снова посмотрел на часы. — Вот еще целый час ждать. — Я, пожалуй, пойду, — Рубен встал. — Иди… — вздохнул мужчина. — Ты себя правильно поставил. Имеешь право уйти.
Главный инженер вызвал к себе Рубена. — Бадалян, — сказал он, — вот ты сидишь себе без дела, а у них там ни черта не получается. Помог бы. — Чем помочь? — Уже два дня, как термическая печь стала. План горит. — В чем там дело? — Электроника барахлит. — Что ж тут особенного? — улыбнулся Рубен. — Установка импортная, вот они никак и не разберутся. — А что, законы электричества тоже импортные? — усмехнулся Рубен. — Ты мне голову не морочь! — прервал его главный. — Пойди лучше в цех и разберись. — В его голосе слышались и просьба, и приказ. Рубен вышел из здания управления и, вместо того чтобы идти в термический цех, направился в свою каморку. — Не справляются! — бормотал он, вынимая кофейник. — Да ты спроси: хотели ли справиться? Отмахнуться ведь легче… Он поставил кофейник на спиртовку и развернул газету. В газете была шахматная задача: мат в четыре хода. Рубен взял карандаш и принялся изучать позицию, время от времени поглядывая на кофейник. Потом позвонил в цех. — Пришлите мне схему регулятора. — У нас ее нет, схема в электроцехе. — А разве электрики не работают сейчас с печью? — Да они пришли, покопались и ушли. — Ладно… — Рубен позвонил в электроцех. — Это Рубен, — представился он. — Безопасный Рубен? — Думай как тебе угодно… Пришли мне схему. — Пришел бы сам, — ответил начальник цеха. — Может, времени не хватает? — добавил он с издевкой. — A у вас чего не хватает, что до сих пор разобраться не можете? — нашелся Рубен. — Или вы там, может, саботируете, а? — Что?! — Саботаж, помнишь? И откуда только эти слова берутся?.. — Если хочешь помочь — помоги, а зря болтать нечего. — Реле проверили? — Проверили. — Контакты прочистили? — Да. — Так я и поверил. Спиртом небось только глотки себе прочищаете. — Говорю тебе, прочистили. — Тогда пришли мне схему. — С каких это пор ты стал тут распоряжаться? — А вот представь себе! — Рубен снял кофейник со спиртовки. — Хочешь — присылай схему, хочешь — нет, дело твое. — Он повесил трубку и громко сказал: — Безопасный Рубен… Распустил я вас. Когда электрик принес схему, Рубен спокойно попивал кофе. — Ну-ка, ну-ка, — довольный собой, Рубен расстелил схему на столе, взял карандаш и, насвистывая, начал проверять узел за узлом, иногда приговаривая про себя: — Ну, конечно… — Мне можно уйти? — спросил электрик. Рубен посмотрел на него, помолчал и, показывая пальцем на какой-то узел, сказал: — Вот в чем загвоздка. — Это каждому понятно, — заметил электрик. — Так, стало быть, это ясно? — Ясно, товарищ Бадалян, куда уж ясней, — иронично отозвался электрик. — А раз ясно, почему у вас ничего не выходит? — Не получается — и все тут! — снисходительно улыбнулся электрик. Рубен допил кофе и сказал: — Пошли! Он шел впереди со схемой в руке, а электрик шагал за ним. Прошли через сборочный цех. Увидев Рубена, технолог обрадовался и уже собирался подойти, поболтать, но Рубен не остановился. — Времени нет! — бросил он на ходу и скрылся. — Пришел, Безопасный Рубен пришел! — обрадовались все в электроцехе. — Хватит вам! — Рубен хотел придать лицу строгое выражение, но вместо этого улыбнулся. Это воодушевило рабочих. — Регулятор-то хоронить пора, — пошутил один из них. — Совсем кончился. Так уж и быть, похороны за мой счет. — Поминки тоже? — подхватил другой. — Э, нет! Поминки за счет того, кто его в гроб вогнал! — Включите регулятор и дайте тестер, — прервал их Рубен. — Хочет узнать, хорошо ли пропотел покойник перед смертью!.. Никто не заметил, как вошел начальник цеха. Видя, что все болтаются без дела и только зубоскалят, он гаркнул: — Ма-а-алчать! Сразу же воцарилось молчание. Начцеха огляделся, остановил взгляд на богатырской фигуре электрика и набросился на него: — Ты почему здесь? Кто за подстанцией следить будет? — Да что с ней станется? — проворчал электрик. — Если бы не надо было дежурить — твою должность упразднили бы! Пока он кричал, все улизнули. А когда ушел и дежурный монтер, в цехе остались только Рубен, электрик и начальник цеха. Электрик, присев на корточки, старался снять с мотора подшипник. — Мы тут, па-а-анимаешь, мучаемся, дисциплину, па-а-анимаешь, наводим, а ты с ними базаришь! — накинулся начцеха на Рубена. — Надо уметь правильно поставить себя, — спокойно заметил Рубен. — Что?! — Они не бояться должны тебя, а уважать. — По-твоему, меня не уважают? — Сможешь своими руками отремонтировать регулятор — будут уважать. Сидящий к ним спиной электрик фыркнул. — Этому регулятору на свалку пора, — махнул рукой начцеха. — Сколько лет без замены… — Зачем же тогда меня позвали? — лукаво улыбнулся Рубен. — Просто каприз главного. Я ему объясняю, что ничего не получится, а он, па-а-анимаешь, свое гнет. — А если получится? — Палец на отсечение дам! — Принеси-ка тестер, паяльник и садись рядом. — Брось, у меня и без тебя масса дел. — А это разве не дело? — Да чего зря мучиться… — Включи регулятор и тащи паяльник и тестер, — решительно распорядился Рубен. Пока начцеха ходил за паяльником и тестером, Рубен, заложив руки в карманы и насвистывая, бродил по цеху, изучая развешенные на стенках картинки и фотографии. Здесь рядом с Бриджит Бардо, ансамблями «Бони М» и «АББА» висела фотография чьих-то пятерых детей. — Чьи это дети? — спросил он, остановившись. — Минаса, — не оборачиваясь, сообщил электрик. — Я приказываю снять, а они снова наклеивают! — заметил вернувшийся начальник цеха. — Ничего, — ответил Рубен, — раз наклеивают, значит, это им нужно. — Он взял тестер. Начальник цеха наблюдал за показаниями прибора. Рубен сравнивал их со схемой и делал поправки. Вдруг он стукнул себя кулаком по лбу: — Черт, как я сразу не догадался! Это надо было проверить с самого начала! — Что? — в глазах начцеха мелькнула надежда. — Ртутный регулятор. Новый у тебя есть? — Есть. — Неси. Рубен отпаял старый регулятор, измерил сопротивление, покачал головой: — Ну конечно… — Ну? — спросил, вернувшись, начцеха. — Иди отрубай себе палец. — Я серьезно! — Видишь, треснул, вся ртуть испарилась, сопротивление и возросло, — подбрасывая в руке испорченный регулятор, ответил Рубен. — Кто бы мог подумать! — Вот, оказывается, где собака зарыта! — торжествующе улыбнулся Рубен. Он припаял новый регулятор и сказал: — Можно устанавливать. Если и теперь не заработает, я сам отрублю себе палец. — Ну и голова у тебя, Бадалян! — восторженно стукнул его по плечу начцеха. — С такой головой я бы давно уже директором стал, а может, кем и повыше…
С завода Рубен вышел в хорошем настроении. Незадолго до конца рабочего дня он позвонил в термический цех: — Ну как, работает печь? — Как часы! Теперь, как бы в награду самому себе за хорошую работу, он хотел увидеть Сона. Правда, еще рановато, но ничего, он постоит перед ее бюро, подождет. И хотя времени было много, Рубен не утерпел, взял такси. «То-то она удивится, — думал он по дороге, улыбаясь своим мыслям. — Интересно, что она скажет, когда увидит меня?» Но Сона не удивилась. Увидев Рубена, она замедлила шаг, но тут же вновь заспешила, бросив ему: — Пошли, времени нет! — Куда? — Я еще должна зайти на рынок, потом успеть взять Анну из садика, а Карена из школы. Хорошо, что ты пришел. — Она улыбнулась. Ей стало по-женски приятно, но это чувство почти сразу уступило место обычным заботам. — Пока мамы с нами нет, я оставляю Карена в продленке. Наверное, на нас все смотрят… Не оборачивайся. — Не беги так, — попросил Рубен. — Хочешь, я пойду на рынок, а ты зайдешь за детьми? — Давай лучше так — ты пойди за Кареном, приведи его домой. А я на рынок и в детский сад, это рядом. — Ладно. — Знаешь, где школа имени Крупской? — Знаю. Не беги. — Скажешь сторожу, чтобы позвал Карена из второго класса продленки. — Привести его сразу к вам домой? — Да, к нам. И сам поднимись, вместе пообедаем. Рубен уже повернулся, чтобы уходить, но Сона взяла его за руку и после паузы сказала: — Прошу тебя, будь с ним поласковее. Рубен ничего не ответил, только потер по привычке подбородок и ушел. Войдя в школьный коридор, он сразу обратился к сторожу: — Продленка, второй класс, Карен… — Как фамилия? — Не знаю, — растерялся Рубен. — Как же так? — нахмурился сторож. — Да вот, мать просила привести ребенка из школы… — замялся Рубен. — А ты кто ему будешь? — продолжал сомневаться сторож. — Я? Не знаю… — еще более смутился Рубен. — Мать попросила… — А не знаешь, так зачем приходить? — недовольно сказал сторож. — Пойди позови Карена из продленки, — велел он одному из бегавших по коридору школьников и вновь обратился к Рубену: — Ты не думай, я же не дурак. Чувствую, отец ты ему будешь… — Что? Почему это? — А так. Сперва растет малышня без отцов, а потом вы являетесь в школу, угощаете ребенка горстью семечек и уходите. Вот, мол, какой я заботливый родитель… Скажешь, нет? — Нет, — ответил Рубен. — Я не отец. — Ну, понятно, какой ты отец, если о своем сыне не заботишься! Иди жди во дворе, — строго приказал сторож и отвернулся. Рубен растерянно потоптался на месте, отирая пот со лба. — Иди, иди, — не глядя на него, повторил сторож. — Сейчас его позовут. Рубен вышел из вестибюля, встал у дверей. Он печально смотрел на бегающих по двору детей, ища среди них тех, кто, по выражению сторожа, «семечки грыз», но таких вроде бы не было. В это время к сторожу подошли сразу три мальчика. — Кто звал Карена? Рубен не успел еще прийти в себя, как один из мальчиков подбежал к нему: — А где мама? — Мама пошла на рынок. Оттуда зайдет в садик за Анной и придет домой. — А мы? — А мы пойдем домой. Карен взял Рубена за руку. Рубену приятно было идти и молчать, ощущая тепло маленькой ладони. Он подумал, что, наверное, Карен всегда так ходит — взяв Сона за руку. — Что сегодня получил? — Ничего. — Карен забежал вперед и, заглядывая ему в лицо, сообщил: — А я сегодня всех в нашем классе победил! — Вот это да! — Ага! Вот так, — он откинул руку и, выставив вперед плечо, заскакал на одной ноге, толкая плечом воображаемого противника. Потом вновь взял Рубена за руку: — Чей папа самый сильный — называется. Это игра такая. — Знаю. — У меня, правда, папы нет, но я все равно всех победил. Значит, мой папа самый сильный! Правда? Глаза у мальчика были большие, чистые и искренние. Он сегодня и в самом деле победил всех в классе. — Карен, ты не обиделся на меня за то, что я тебя тогда стукнул? — выговорил, смущаясь, Рубен. — И вовсе не больно было! — улыбнулся Карен. — У папы Артура «Волга» есть, но он все равно слабак. Я его разок только стукнул, так он покатился, нюни распустил, как девчонка. — Молодец. — Ага! — обрадовался Карен, воодушевленный поддержкой. — Это ему за то, что он мне на голову плюнул. А еще у него знаешь, что есть? — Что? — Чем считают. Скажем, надо к четырем прибавить пять. Сперва нажимает на четверку, потом на плюс, потом на пятерку и «равно», а наверху сразу девятка пишется. Такая маленькая штучка, — Карен показал какая. — Никому не дает, жадюга. — А хочешь, я тебе такую штуку подарю, какой ни у кого нет? — неожиданно предложил Рубен. — А что это? — Сейчас узнаешь, — Рубен подошел к краю тротуара, поднял руку, остановил первую попавшуюся машину. — Это из магазина? — Нет, — загадочно покачал головой Рубен. — Из моего дома. — Мама рассердится. — Почему? — Она сказала, что ноги нашей больше в твоем доме не будет. — Что ж так? — Она сказала: необузданные вы негодники. — Кто это — вы? — Мы, я и Анна. — Это верно, шалить вы любите, — вздохнул Рубен. — И не жалко вам маму? — Нет. Бабушку жалко. Водитель улыбнулся в усы, но Рубен этого не заметил. — Только бабушку? — спросил он. — Ага. Потому что у тети Рузан все лицо перекосилось. Я деньги собрал, купил ей и бабушке мороженое, а мама не отнесла им. Мы сами съели. — Мороженое любишь? — Очень! Входя с Кареном в квартиру, Рубен погрозил ему пальцем: — Смотри, не трогай ничего! — Ладно, — ответил Карен и остался стоять в прихожей. — Сейчас домой поедем, — подмигнул ему Рубен, вошел в комнату и скоро вернулся, неся два непонятных устройства. — Что это? — не утерпел Карен, когда они спускались по лестнице. — Скоро узнаешь, — загадочно улыбнулся Рубен. Выйдя на улицу, он купил два эскимо и сказал Карену: — Пошли, съедим их в саду. Они вошли в скверик и уселись на скамейку. Карен с удовольствием облизывал мороженое, но думал в это время о тех странных штуковинах, которые были в руках Рубена. Он уставился на них, наконец не выдержал: — Для чего это? Рубен нажал на кнопку и вытянул маленькую антенну. Послышался шорох, какой-то свист, шум. — Это тебе. Будешь говорить — поднеси ко рту. — Ладно. — Теперь стань вон у того дерева. Держа в одной руке мороженое, а другой сжимая подарок Рубена, Карен послушно подошел к дереву. Неожиданно из странной штуки послышался кашель и раздался голос Рубена: — Карен, Карен, ты слышишь меня? Карен сразу подбежал к нему. — Ты мне отсюда сказал: «Карен, слышишь?» — объявил он. Глаза мальчугана сияли от восторга. — Ну да. Теперь ты поднеси эту штуку ко рту и ответь: слышу. Карен побежал обратно и встал под деревом. — Ага! Слышу! — послышался возбужденный голос Карена. — Съел мороженое? — Съел! — А бумажка где? — Выбросил. — Так нельзя. Подбери и брось в урну. Рубену было видно, как Карен подобрал бумажку и осмотрелся по сторонам. — У цветочного магазина есть урна. Отнеси туда. Карен бросился к цветочному магазину и скрылся из глаз. — Уже бросил! — послышался его голос. — Какие в магазине цветы продают? — Розы, гвоздики… а как эти называются, не знаю. — Что это? — неожиданно раздался женский голос. — А ну-ка, дай сюда! Откуда взял? Это, наверное, военная штука! — вмешался другой, уже мужской голос. Оказывается, вокруг Карена моментально столпились частники, продающие возле магазина свои цветы, и несколько покупателей. Кто-то уже схватил ребенка за руку, пытаясь отнять аппарат. — Пусти! — закричал Карен. — Немедленно отпустить ребенка! Всем отойти! — категорическим тоном приказала странная штуковина. Когда Рубен подоспел к месту происшествия, все уже с опаской отошли, оставив Карена в центре большого круга. — Ну чего вы ребенка окружили? — укоризненно сказал Рубен, беря у Карена из рук аппарат и выключая его. — Что это? Что такое? — послышалось со всех сторон. — Приемо-передающее устройство. — А где такие продают? — Нигде. Я сам сделал. — Вот бы и нам такое, а? Мы бы дали такую кому-нибудь из наших и послали стоять на стреме: только милиционер поблизости появится, он нам сразу об этом и передаст. А мы смылись с цветами, — сказал кто-то из частников, и все рассмеялись. — Может, продашь? — Нет, — ответил Рубен и, купив букетик гвоздик, обратился к Карену: — Пошли!
Рубен почувствовал сквозь сон прикосновение Сона и проснулся. Он открыл глаза, потянулся, улыбнулся, протянул к ней руки, но Сона отстранилась. Она кивнула в сторону детской, приложила палец к губам и бесшумно пошла на кухню. — Доброе утро! — сказал Рубен шепотом, входя в кухню вслед за ней. — Доброе утро! — прошептала она, наливая ему кофе. — Пей кофе и уходи. Рубен сел, закурил, отпил глоток. Уставив взгляд в одну точку, он сказал: — Знаешь, о чем я сейчас думаю? — О чем? — Женщина — опора дома. А мужчина — его крыша… — В нашем доме тебя всегда тянет пофилософствовать, — глядя ему в глаза, прошептала Сона. — Я просто с ума сошла. Правда. Кто бы мог подумать, что я стану принимать у себя гостя, когда дети дома! — Я не гость. — Рубен вроде бы обиделся. — А кто же ты? — улыбнулась в ответ Сона, ласково запуская пальцы в его шевелюру. — Не знаю… — «Не знаю»… — передразнила она. Потом вышла на балкон, положила в авоську бутылки из-под молока. — Допивай кофе и вставай, вместе сходим в магазин, — прошептала Сона. — Хочу, пока дети спят, хоть молока принести. — Я бы и сам купил, — ответил Рубен, допивая кофе. — Неудобно… С чего это ты должен покупать нам молоко? — Спать у тебя, обедать у тебя — это, выходит, удобно, а принести детям молока и мацун — неудобно? — поднялся Рубен. — Давай сюда свои бутылки. — Нет, — прошептала она. — Не стоит. Дети ведь поймут, что ты ночевал у нас. — Ну и пусть. — Тебе этого не понять, — вздохнула она. — Я быстро обернусь, — ответил Рубен. — Они и не проснутся. — А если все-таки проснутся? — Где тут мое радио? — Рубен, явно что-то придумав, оживился. — Дети с собой взяли под подушками у себя оставили. — Принеси. Сона принесла оба аппарата. — Спят? — Пока спят. — Один аппарат останется у тебя, — он включил радио и положил в карман ее халата. — Прежде чем войти, я спрошу, не проснулись ли они. — А если к тому времени проснутся? — Оставлю молоко у двери и уйду. — Умница! — Не балуй меня, — смущенно и в то же время шутливо сказал Рубен, взял сумку и вышел из дому. У магазина столпился народ. Машина с молоком подъехала к самым дверям, загородив кузовом вход, и теперь ее разгружали, гремя ящиками. — Кто последний? — А вон тот высокий мужчина, — ответила Рубену пожилая женщина. — А почему он впереди всех встал? — Откуда мне знать. Спросил, вроде тебя, кто последний, а сам вперед пошел. — Отойдите! — шумел грузчик в темном халате. — Невозможно работать! Каждый день одно и то же, толпятся, мешают… — Он ловко зацепил крюком ящик и потащил его в магазин. Рубен понял, что ждать придется долго. Он отошел в сторону, включил аппарат, хотел что-то сказать, но услышал детский плач. — Ну что ты плачешь! — послышался в аппарате голос Сона. — Он обманщик! Врун! — Голос Карена… — Нет, не обманщик! — это уже Сона. — А почему аппарат унес? Говорил, что мне подарил, а сам унес! — Да принесет он твой аппарат, не плачь! — А почему унес? — Испортилась ваша игрушка. Сами вы испортили, а он взял, чтобы починить. — Я не портила, — раздался голосок Анны. — Карен, хватит хныкать, отшлепаю! — повысила голос Сона. — Ну и бей, бей! — еще пуще заревел Карен. — Пусть он больше к нам не ходит, раз обманывает! — Карен! — Он что, папа мне, к нам ходить… — Сказала ведь — побью! — закричала Сона. — Сона, не бей ребенка! — сказал Рубен в аппарат. — Ты почему его унес?! — завопил Карен. — Быстро на зарядку! — скомандовал Рубен. — Пока вернусь, чтобы успели умыться. — Большая там очередь? — спросила Сона. — Порядочная. — Тогда лучше возвращайся. Они тут меня с ума сведут. Рубен вернулся, позвякивая пустыми бутылками, и оставил сумку на кухне. Сона с грустной улыбкой кивнула в сторону балкона, на котором делали зарядку Карен и Анна. — В жизни они этого не делали, — прошептала она. — Неправильно! — выйдя на балкон и посмотрев на их упражнения, сказал Рубен. — Если уж делать, то по-настоящему. Смотрите на меня. Начали! Раз-два-три-четыре! Раз-два-три-четыре! По-прежнему грустно улыбаясь, Сона переводила взгляд с Рубена на детей, которые старательно повторяли его движения, и ей стало ясно, что Рубен, пожалуй, никогда в жизни не делал зарядки.
К середине дня неожиданно вернулась мать и привела с собой Лилит. — Ты бы хоть позвонила… — растерянно сказала Сона, открыв дверь. — Соскучилась я, — ответила мать, целуя Сона и входя. — Сестра сказала, что сегодня ей вроде лучше. Не знаю, верить ли… А дети где? Карен и Анна были во дворе. Рубен же, стоя на балконе в одной майке, переговаривался с ними по радио. Казалось, он сейчас и сам стал ребенком — так волновался, возражал, смеялся. — Нет, нет! — кричал он в мембрану. — Выключать нельзя, так не играют! Включите и прячьтесь. Не бойтесь, я не подглядываю. Карен и Анна, окруженные дворовой детворой, перебегали с места на место, прячась от него, а Рубен, наводя антенку, искал детей… Сона смущенно стояла в коридоре. Мать вышла на балкон и, увидев Рубена, застыла от удивления. Рубен сперва не заметил ее, а когда увидел — осекся на полуслове. Он улыбнулся и пробормотал в аппарат: — Карен, бабушка пришла! Сказав это, Рубен тут же спрятался за развешанным на балконе бельем. Сона встала между матерью и Рубеном и промямлила: — Это Рубен… — Где дети? — все еще не приходя в себя от изумления, проговорила мать. — Во дворе, — Сона отвела взгляд и обратилась к Рубену: — Позови их, пусть идут домой. Рубен кашлянул и официально произнес: — Карен и Анна! Возвращайтесь домой! Как слышите меня? Сона успела принести его рубашку и шепнула: — Одевайся, — она обернулась, но матери рядом уже не было. — Какой позор! — Что теперь будет? — спросил он, быстро натягивая сорочку. — Сквозь землю хочется от стыда провалиться! Лилит выбежала на балкон и бросилась к матери. — Малышка моя ненаглядная! — Сона подняла дочку, прижала к себе, нежно поцеловала. — Совсем тебя мама забыла. Мама на тебя внимания не обращает… — Хотите кофе? — подойдя к ним, спросила мать. Сона поняла, что она смущена не меньше их. Сона взглянула на Рубена, но он растерянно молчал. — Выпьем, пожалуй, — ответила она. Прибежали Карен и Анна, бросились обнимать бабушку, стали наперебой рассказывать, и их появление разбило скованность взрослых. — Что мне делать? — шепнул Рубен. — Выпьем кофе, а там видно будет, — виновато улыбаясь, ответила Сона. Она хотела опустить дочурку на пол, но Лилит крепко прижалась к ней. — Соскучилась по тебе малышка, — заметил Рубен. — А как я по ней соскучилась, если бы ты только знал! Нет, я просто сумасшедшая. Так забыть обо всем на свете… Что я делаю! — Дай сюда, бабушке покажу! — ворвавшись на балкон, закричал Карен. — Она еще не видела… — Сейчас не время, — строго ответила Сона. — Успеется. — Я свой уже отдал бабушке. Дай твой, я с ней поговорю, — попросил мальчик Рубена. Взяв аппарат, он закричал: — Бабушка, ты слышишь меня? — Слышу, слышу, — выглянула из кухни старушка. — Нет, так не играют! — Карен принялся объяснять ей, как надо играть. — Бабушка, бабушка, ты меня слышишь? — спросил он снова. — Ну, слышу, — послышался голос бабушки. — Видишь! — глаза мальчика загорелись. — Ни у кого такого нет, даже у тех, у кого есть папа! Сона почувствовала комок в горле и отвернулась. Бабушка показалась в дверях и строго сказала: — Это еще что такое? Есть папа, нет папы… Чтобы я больше этого не слышала! — Она помолчала и, окинув Рубена с головы до ног осуждающим взглядом, сухо продолжила: — И чего только они не суют детям!.. Кофе готов. Сона и Рубен молча вошли на кухню, но там на столе ничего не было. Сона взглянула на мать, а та кивнула в сторону гостиной. Здесь все уже было готово: накрыт маленький столик, расставлены кресла. На столе стояли коньяк, конфеты, кофе, фруктовый сок со льдом. — И когда ты успела? — удивилась Сона. Мать слегка улыбнулась и, сев в кресло, молча принялась изучать Рубена. Только теперь Сона заметила, что мать успела еще и переодеться. Ей было ясно, что присутствие матери сковывает Рубена. Впрочем, ей и самой было не легче. — Коньяк, между прочим, не для красоты стоит, — нарушила она затянувшееся молчание. Рубен разлил коньяк по рюмкам. — Да… — протянула мать. — Наш Айк тоже любил кофе с коньяком. — Кто это — Айк? — спросил Рубен. Мать удивленно взглянула на Сона. — Мой муж… — опустив глаза, ответила она. — Хороший был человек, — вздохнула мать. — Честный, внимательный. А как детей обожал! Все старался пораньше с работы вернуться, побыть с ними. — Не надо! — нахмурилась Сона, но мать невозмутимо продолжала: — Утром, бывало, встанет раньше всех, пойдет в магазин, сходит на рынок, принесет все, что надо, а уж потом на работу. Да, вот уж кто настоящим мужчиной был… — Не надо! — повторила Сона. — Почему же? — отозвался Рубен. — Хорошее всегда запоминается. — Это верно! — подхватила мать. — А уж за Сона как ухаживал. Домашние заботы с ней делил, мужские дела по дому на себя брал. Не то что некоторые — только деньги домой несут. — Мама, прекрати! — строго сказала Сона. — Что ж тут такого? — неискренне удивилась мать. — Не с чужим ведь человеком говорю. — Лучше выпьем, — посмотрев на Рубена, страдальчески улыбнулась Сона. — За светлую его память! — сказал Рубен упавшим голосом и выпил до дна. — И выпивать он тоже не любил… нет, не любил! — заметила мать. — Разве что по большим праздникам пропустит рюмочку-другую, да и то не всегда. — Да, — кивнул Рубен, — выпивка до добра не доведет. — Верно! — подхватила мать. — Он ведь и поставить себя среди родственников умел. Родители — это одно, а Сона, дети, своя семья — это другое… — Видно, сильный был человек… — Сильный, — подтвердила мать. — Но и мягким мог быть, если надо. Целых пять лет мы вместе прожили, так я от него грубого слова не слышала, даже голоса ни разу не повысил. — Хороший кофе получился, — попробовала переменить тему Сона. — Детей и пальцем не трогал. Любовь их, уважение заслужил, и не какими-то там подарками… Сона не выдержала, отвернулась и закурила. — Не сердись, — сказала мать. — Не о чем больше поговорить, что ли? — Отчего же не поговорить о нем? — пожала мать плечами. — А у тебя как, родители есть? — обратилась она к Рубену. — Отец на фронте погиб, а мать в прошлом году скончалась. — Светлая им память, — вздохнула мать и, придвинувшись к Рубену, стала допытываться: — Не женился? Рубен покачал головой и, помолчав, сказал: — С моей матерью трудно было бы жене ужиться. — Это почему же, сынок? — Несдержанная она была… — почесал он подбородок. — К тому же души во мне не чаяла, я для нее был что свет в окошке. — Каждый родитель в своем ребенке души не чает, — отозвалась Сона. — Это верно, — согласился Рубен. — Вот она после смерти отца снова было замуж вышла, да отчим на меня косился, так она сразу развелась. Я этого, правда, не помню, но она мне рассказывала. — Правильно сделала! — одобрительно сказала мать. — Кому такой муж нужен! Беседа, видно, продолжалась бы еще долго, но тут в комнату вбежали Карен и Анна, а за ними плачущая Лилит. — Она хочет с нами играть! — направив антенну радиоустройства на маленькую, объяснил Карен. — Но разве она может?!
…Сона взяла с собой на свидание Лилит и пришла, приноравливая свою широкую походку к маленьким шажкам дочурки. — Хочу ее на карусели покатать, давно мы с ней не гуляли, соскучилась я, — сказала она Рубену. — А по мне не соскучилась? — Богу — богово, кесарю — кесарево! — Сона улыбнулась и кокетливым движением головы откинула со лба волосы. — Слышал такое? — Приходилось, — с едва заметным недовольством отозвался он. — А раз слышал, пошли, — и она прошла вперед, сжимая в ладони ручку дочери. — Куда? — В парк, — не оборачиваясь, ответила Сона. — Ты ведь говорила, что нам не будут мешать, — шагая за ними, пробормотал Рубен. — Обещала приходить ко мне. Слава богу, твоя мать сегодня дома… — Много чего я говорила! — Подожди, Сона… — Посмотри, какие птички! — не отвечая Рубену, заговорила она с дочкой. — Цив-цив-цив! — радостно защебетала малютка и, Протянув к ветвям руки, потребовала: — На руки! — Ах ты радость моя! — воскликнула Сона, прижимая Лилит к себе. — Маленькая моя, ненаглядная! Жизнь моя! — Тебе, наверное, тяжело, дай я понесу. Сона не расслышала или просто не подала виду, что слышит, и пошла быстрее. Уверенно, твердой походкой шла она по людной улице с дочерью на руках. В этом огромном, бурлящем, неустойчивом мире мать и дочь, казалось, олицетворяли что-то светлое, изначальное, надежное. Они не шли, они летели над землей, да так, что и не угонишься. У перекрестка Сона остановилась, поджидая Рубена, и, когда он нагнал их, сказала: — Понеси ее, пусть твои руки окрепнут, а сердце смягчится. — Руки у меня крепкие, — пробормотал Рубен. — Руки, никогда не носившие ребенка, не могут быть крепкими, — ответила Сона не то в шутку, не то всерьез, передавая ему Лилит. В парке было людно. Дети, в своих цветастых костюмчиках и платьицах похожие на бабочек, кружились на карусели, качались на качелях, поднимались в небо на чертовом колесе. Везде слышался радостный смех, крики, царило веселье. Сона казалось, что сам воздух в парке напоен ароматом чистых детских поцелуев. — Ну и шумно здесь! — опуская девочку на землю, заметил Рубен. — Это на заводе у тебя шумно, а не здесь! — неожиданно рассердилась Сона. — Иди за билетами и садись с малышкой на карусель! Рубен взял билеты, помог Лилит взойти на круг,усадил ее на скамью. Но там ей не понравилось, девочка потянулась к олененку. Рубен попытался удержать ее, и Лилит приготовилась плакать, ища глазами мать. Сона видела, как Рубен, покачав головой, пересадил ее дочь на олененка, а сам сел рядом на спину взрослого оленя и взялся за его алюминиевые рога. Карусель закружилась, дети радостно закричали. Сона не следила за Лилит, она пристально смотрела на Рубена, лицо которого вырастало перед ней при каждом обороте карусели, и провожала взглядом его спину. Она видела, как с его лица постепенно сходит стыдливо-серьезное выражение, уступая место открытой улыбке. А когда Рубен, отпустив олений рог, положил руку на плечо Лилит, Сона улыбнулась и подумала: «Его тоже надо воспитывать, как ребенка». Карусель кружилась все медленней и наконец остановилась, Рубен и Лилит сошли на землю. — Совсем голова закружилась, — улыбнулся он, — и как только дети выдерживают! — Ничего, привыкнешь, — ответила Сона. — Пошли, пусть она поиграет в песочке. — Нет, — заявил Рубен, — надо ведь еще и на качели сесть. — Что, разохотился? — Так ведь я уже на все эти качели-карусели билеты купил… — Если только из-за этого, то не стоит. Сам же говоришь, что голова закружилась. — Все равно придется учиться, — добродушно пожал он плечами. — Пошли. Чуть позже, когда Лилит, держа в руках совок и ведерко, присела на корточки у песочницы, а Сона и Рубен уселись вблизи на скамейку, Сона сказала: — Дети привыкают к тебе. Не знаю, чем все это кончится. — Я тоже привыкаю к ним. — Шалуны они у меня, очень уж непослушные, — вздохнула она. — К ним привыкнуть нелегко… — Разбаловала ты их. — Да ведь я целыми днями на работе, когда баловать-то? А дома и обед надо приготовить, и постирать, и погладить, и прибрать… Руки до них не доходят. — А твоя мама? — Что мама! В ее возрасте отдыхать надо, а не с этими сорванцами возиться. — Я думал, она у тебя строгая, а выходит, вовсе и нет, — заключил он. — Женская строгость, — усмехнулась Сона, — кто ее видел? — Она чуть помолчала и добавила: — Я тебе лучше скажу, а то на сердце нехорошо… Рубен вопросительно взглянул на нее. — Она тогда насчет Айка говорила… — Ну? — Он, мол, и внимательный был, и честный, и непьющий, все, мол, заботы со мной делил… Неправда это. — Да что ты! — Выдумала она все, — продолжала Сона. — Наоборот все было. Да и ревновал он меня все время. Если бы не дети, ушла бы я от него. — Зачем же выдумывать было, не понимаю. — А ты сам догадайся. — Сона провела каблуком черту по земле, помолчала. — Она тогда еще насчет стиральной машины намекала, мол, починить ее надо. Ты не чини, я мастера вызову. — К чему это? Завтра же я приду. — Она хочет, чтобы ты стал своим в нашем доме, делил наши заботы… Неужели непонятно? — А ты разве не хочешь этого? — Не знаю. Рано еще об этом говорить. — Рано или поздно? — Рубен помедлил. — Но Кареном так или иначе надо заняться по-настоящему, и чем раньше, тем лучше. — Кто им станет заниматься? — Я. — Инженер по технике безопасности подвергает себя опасности, — усмехнулась Сона и оживилась, вспомнив что-то. — Он мне недавно знаешь что заявил? — Что? — Можно, говорит, я всем скажу, что эти радиоустройства мне папа сделал и из Москвы в подарок прислал? — Он отца помнит? — Вспоминает, но больше фантазирует. Увидит в кино героя — воображает своим отцом, во время футбола тоже — кто гол забьет, того своим папой называет, в космос летят — космонавт его отец… Каждого, кто ему нравится, папой считает. — А обо мне он что говорит? — Ничего. Лилит принесла песок в ведерке, высыпала у ног матери и вернулась к песочнице. — Пойдем, — Сона встала со скамейки. — Ей уже спать пора.
Утром кто-то тихо постучал в дверь. Мать встала и, как была в ночной сорочке, пошла открывать: — Кто там? — Рубен. Мать приоткрыла дверь: — Что-то случилось? — Ничего, — ответил он. — Я вам мацун и молоко принес. Не звонил, чтобы детей не разбудить. — Он протянул авоську. — Лимонада не было, так я джермук взял, пусть дети пьют. Мать едва удержала смешок. — Погоди, Сона разбужу. — Не надо. Дайте только сетку, я пойду. Мать пошла на кухню, оставив Рубена на пороге. С кухни донеслось звяканье бутылок. Скоро она вернулась и, протягивая ему пустую авоську, сказала: — Стоило ли вам так беспокоиться с утра пораньше?.. — Никакого беспокойства! — Рубен вытащил из кармана листок бумаги и протянул ей: — Это распорядок дня для Карена. Прикрепите к стене, — сказал он и сбежал по лестнице. Мать надела очки и развернула бумагу. Рубен аккуратно обвел написанное красным карандашом. Мать, улыбаясь, покачала головой и принялась читать вслух: — Распорядок дня. Подъем — в семь часов. Так он тебе и встанет! Физзарядка, умывание — с семи до семи тридцати. Как же, как же… — Она усмехнулась: — У нас и так каждое утро не умывание, а целая битва, зарядки только не хватало… Так… Завтрак — с семи тридцати до семи сорока пяти. Ну, это ничего. Школа — с восьми до двенадцати. Игры — с двенадцати пятнадцати до четырнадцати. Это что же выходит, ребенку на голодный желудок играть придется? — проворчала старушка и продолжала читать, уже не обращая внимания на часы. — Чтение книг, электроника, обед, шахматы, уроки, сон… Боже мой, вот наворотил! Занятая изучением распорядка, мать не заметила, как Сона встала рядом с ней. — Ты что это читаешь? — Да вот, понаписал тут… чего только нет! — Кто написал? — Да Рубен. — А где он? — Ушел. Молоко принес, мацун и вот это, — она протянула Сона листок, перелила молоко из бутылок в кастрюлю, поставила на плиту. — Мы Карена от телевизора оттащить не можем, какой же распорядок без телевизора? Или вот шахматы: кто с ним играть будет, я, что ли? А самое главное — через неделю каникулы начинаются, тут уж не до распорядка. Сона прочла и улыбнулась: — Детей у него нет, откуда же ему знать? — Послушай, — мать мягко дотронулась до руки дочери. — Я тебе так скажу: намерения у него, видно, серьезные. — Не знаю, — пожала плечами Сона. — Иначе с чего бы он стал молоко носить и распорядок писать? — Захотел человек и сделал. Кукушка восемь раз выглянула из своего домика на часах. — Я и говорю, значит, есть у него что-то на уме, раз захотел… — Я опаздываю, — прервала ее Сона. — Буди детей. — Ты хоть узнала, есть ли у него в родне кто посолиднее, чтобы сватом к нам прислать? Человек должен быть близкий, обстоятельный… — Это меня не интересует. — Странная ты, — вздохнула мать. — Неужели тебе кажется, что мое присутствие для него ничего не значит? — Да не говорили мы об этом, мама, не говорили! — не выдержав, повысила голос Сона. — Не понимаю, о чем тогда вы говорите? — не уступала мать. — Не говорили, а он к нам ходит, не говорили, а он молоко принес, распорядок этот… О чем же вы говорили? — Оставь меня в покое! — отрезала Сона. — Хватит!
Под вечер Рубен красил окопные рамы, стоя на стремянке и насвистывая. Вдруг со двора прибежал Карен со слезами на глазах. Не захлопнув за собой входную дверь, он сразу же бросился к Рубену, изо всех сил ударил его по ногам и закричал: — Убирайся из нашего дома! Мальчик огляделся по сторонам и, не найдя ничего подходящего, снял с ноги ботинок и принялся бить Рубена ботинком: — Уходи, уходи! Рубен соскочил со стремянки, схватил его за руки, но Карен продолжал бить его ногой и все кричал: — Уходи! Тебе говорят, убирайся! — Карен! — крикнула Сона, выбегая на балкон. — Карен! — закричала с кухни бабушка. Шум привлек внимание соседей, они стали выглядывать со своих балконов. Карен бросился к матери, обнял ее и зарыдал. — Что с тобой, сынок, что случилось? — Пусть он уходит! Пусть убирается! — повторил мальчик сквозь слезы. Сона увела Карена в комнату, села в кресло и усадила сына себе на колени. В пятнах краски, шаркая шлепанцами, Рубен подошел и остановился на пороге, не понимая, что произошло. — Ты должен сказать, за что ты ударил меня, — наконец произнес он, кашлянув. Карен бросился в соседнюю комнату и вернулся с радиоаппаратами в руках. Швырнув их на стол, он сказал сквозь слезы: — Пусть забирает и уходит, не нужны мне его подарки! Сона присела перед сыном на корточки. — Скажи наконец, в чем дело? Карен, указывая пальцем на Рубена, оскорбленно ответил: — Из-за него ребята во дворе о тебе плохо говорят! — Что говорят? — Не скажу, ни за что не скажу! Взгляды бабушки и Рубена встретились. Старая женщина с укоризной смотрела на него и качала головой. Рубен скрипнул зубами, наклонил голову, как будто собирался кого-то боднуть, и выбежал из комнаты. Сперва никто не понял, куда он идет, а когда поняли, было уже поздно. С балкона Карен, Сона и мать видели, как Рубен вышел во двор, погнался за подростком лет четырнадцати, догнал его и схватил за ухо: — Еще раз посмеешь обидеть Карена — уши оборву! — Пусти! — заорал парень, извиваясь всем телом. — Это не я! Остальные ребята с опаской подошли и окружили их. — Мне неважно, кто сказал эту гадость! — Рубен крутанул подростка за ухо. — Пусти! — завопил тот, силясь освободиться, а потом умолк и съежился. Рубен оглядел всех тяжелым взглядом: — Я — папа Карена! Так все и знайте! Только попробуйте обидеть моего сына — я вам всем… — Рубен отпустил парня и уже замахнулся, чтобы закатить ему оплеуху, но передумал. — Я и отцам вашим уши оборву за то, что не умеют вас воспитывать! Подросток отбежал, потирая ухо. — Рубен! — позвала Сона с балкона. — Иди домой! — Погоди! — ответил Рубен, обводя подростков все тем же мрачным взглядом. — Поняли меня? Все поняли? — Кое-кто из ребят молча кивнул. — То-то! — бросил Рубен и, выпятив грудь, медленно пошел назад. Дома Рубен, отводя взгляд от Сона, подошел к Карену, положил руку ему на плечо и сказал: — Помни, что ты мужчина. Не всякое слово со двора можно в дом тащить. — Он закурил, вышел на балкон и хмуро продолжил красить оконные переплеты… … — Бадалян, — сказал главный инженер, — ты вроде не собирался от своей работы отказываться. В чем дело? — Устал я, — застенчиво потер Рубен подбородок. — Бездельничать устал. — Директор сказал мне, что беседовал с тобой… — Да, он вызывал меня. — И что же? — Сами ведь знаете, чего спрашивать?.. — Товарищ Саркисян, — послышался из селектора голосок секретарши, — вас по городскому телефону спрашивают. — Скажи, что я занят, — ответил главный и, задержав палец на кнопке селектора, распорядился: — Сделай нам два кофе. — Нет, ты мне подробно расскажи, — обратился он к Рубену. — Два дня назад я подал заявление с просьбой перевести меня на другую работу, — ответил Рубен и вновь умолк. — Подал, а дальше? — Вчера, еще утром, до начала работы, он вызвал меня… — С каких это пор ты стал так рано приходить на работу? — улыбнулся главный инженер. — В последнее время прихожу. Словом, вызвал он меня и говорит: давай-ка, Бадалян, назначим мы тебя заместителем главного инженера по новой технике. — Он это и раньше, кажется, предлагал. — Верно, предлагал. Я подумал, решил, что справлюсь, и согласился. — Конечно, справишься! — кивнул головой главный. — Только вот сможешь ли с людьми… — он сжал кулак, — вот так сможешь их держать? — Должен справиться. — В основном будешь иметь дело с начальниками цехов, главным механиком и энергетиком. — Знаю. — Будешь заменять меня в мое отсутствие. — Понятно. — Да… Ну и дела! — протянул главный. — До сих пор ты был Безопасным Рубеном, а тут вдруг сразу стал опасным. — У рыболова, как говорят в народе, ноги сухими не бывают, — улыбнулся Рубен. — Это верно. Ты не беспокойся, в случае чего — поможем. — Я и не беспокоюсь. Вошла секретарша с двумя чашками кофе. Поставив их на стол, она хотела выйти, но главный инженер задержал ее: — Погоди-ка. Я сказал Григоряну, чтобы он освободил для Бадаляна кабинет. Посмотри, что сделано. — Неудобно, — пробормотал Рубен. — Я и на старом месте как-нибудь посижу. — Э, нет! — покачал головой главный. — Разве тот, кто войдет в твою каморку, станет тебя бояться? И запомни: отныне работать надо безо всяких там «неудобно» и «стыдно», надо работать, исходя только из интересов дела. Уяснил? — Он вновь обернулся к секретарше: — Это первое. Второе: товарищ Бадалян скажет тебе, что из мебели нужно для его кабинета, выпишешь через общий отдел. — Главный подчеркнул слова «товарищ Бадалян», и это вызвало у секретарши легкую улыбку. — Мне можно идти? — спросила она. — Нет. С нынешнего дня кроме меня будешь подчиняться еще и товарищу Бадаляну. Теперь можешь идти. — Он подождал, пока секретарша вышла, и продолжал, придвигая к себе кофе: — Обставишь свой кабинет как надо. Это только раньше на такие вещи внимания не обращали. Сегодня и внешний вид большое значение имеет… Да ты пей кофе. Рубен пододвинул к себе чашку и вынул сигарету. — Кури, кури, — разрешил главный. — Но смотри, сам не позволяй, чтобы все набивались к тебе в кабинет и курили. Приходят, рассаживаются, дымят… Шарашкина контора… Понял? — Понял. — Но и зря кричать не следует. А если надо будет — стукни разок кулаком, вот так! — кулак главного инженера с грохотом опустился на полированную поверхность стола. От неожиданности Рубен вздрогнул. — Можно идти? — спросил он. — Проследи, чтобы в твоем кабинете обязательно повесили занавески. Сиди, куда спешишь? — Главный помолчал, оглядывая свой кабинет. — Да, и еще скажи, чтобы установили кондиционер. Захочешь — будешь включать, не захочешь — пусть так стоит, но пусть обязательно установят, это не помешает. Из кабинета главного инженера Рубен вышел не в духе. — Товарищ Бадалян, — остановила его секретарша, беря ручку и лист бумаги, — продиктуйте, что вам понадобится. — Потом скажу, — буркнул Рубен и направился в свою каморку. Здесь, как обычно, журчала струйка воды из крана и назойливо жужжал дроссель лампы дневного света. — Пятнадцать лет я тут сидел, так не то что о занавесках и кондиционерах — о простом окне никто не удосужился подумать! — вслух сказал он и хмыкнул: — Ну и дела! Зазвонил телефон. Рубен поднял трубку и узнал голос Вардана. — Ты где это пропадаешь, битый час тебе звоню! — Занят был. Дела. — Я тут кое-что слышал о тебе, это правда? — Правда. — Вот тебе и Безопасный Рубен! Высоко ты залетел. — Ты это слово «безопасный» забудь. — Обязательно, конечно! Слушай, что я тебе скажу… — Что еще? — Из Новосибирска… Понял? Их две, из Академгородка… Одна другой краше. Приведу их к тебе сегодня, а? Заодно и назначение обмоем. Что скажешь? — Ты лучше кончай свои номера, понял? — и Рубен сердито бросил трубку.
В конце октября Сона и Рубен вместе пошли в райсовет. Посетителей в приемной Даниеляна не было: видно, попали в неприемный день. Сона приоткрыла дверь: — К вам можно? Даниелян что-то писал, водрузив на нос очки. Он докончил писать и лишь тогда поднял голову. Но, увидев Сона, сразу согнал с лица сухое и официальное выражение. — Кого я вижу! — улыбнулся Даниелян, снимая очки. Он встал из-за стола, вышел навстречу Сона, протянул ей руки. — Подождите, товарищ, — сказал Даниелян Рубену, — разве вы не видите, что я сейчас занят? — А мы вместе, — ответила за Рубена Сона. — И все по тому же вопросу. — Вопрос не убежит, — пожимая ей руку, сказал Даниелян. — Товарищ, выйдите из кабинета, подождите в приемной. — Но, товарищ Даниелян, это мой муж… — Что? — Я вышла замуж. — Вот как… Поздравляю, — чуть помедлив, отозвался Даниелян, снова сел в кресло и, кашлянув, спросил: — Так что у вас за дело? — Помните, я обращалась по поводу обмена… — Помню. — Но обмену помешала разница в площади квартир. — Возможно. Сейчас точно не припомню. — Теперь мы хотели бы обменять две мои комнаты и однокомнатную квартиру мужа на ту же самую трехкомнатную, — быстро сказала Сона. — Квартира у мужа большая, так что разницы не будет. Даниелян не слушал ее. Он внимательно изучал Рубена и, сравнивая себя с ним, приходил к выводу, что он, Даниелян, намного лучше. И думал при этом: «Сахар достался собаке… Дали собаке сахар…» — Думаю, что теперь вопрос легко решится, — продолжала Сона. — Что? — Я говорю, что на этот раз препятствий вроде не должно быть. — Сона улыбнулась, вынула из сумки бумаги, положила на стол. — Вот наши документы. — Так не положено, — сухо ответил ей Даниелян. — Не могу же я лично принимать у всех и каждого документы. Дайте, как полагается, в отдел, мы их рассмотрим и дадим делу законный ход. — Он взял ручку, водрузил на нос очки и вновь склонился над бумагами, давая понять, что разговор окончен. Сона и Рубен вышли из здания райсовета. Высоко в небе плыли редкие тучи, и нельзя было понять, будет дождь или нет. Они шли молча. Наконец Сона сказала: — Не переживай. Обменяем квартиры, выделим одну комнату детям, одну нам. А балконы! Ты видел, какие там широкие балконы? Устроим там тебе кабинет, занимайся своей электроникой. — Я вообще-то человек мирный, — чуть помолчав, сказал Рубен. — Но я бы с удовольствием набил морду этому Даниеляну! 1980
ЗОВ
Перевод М. Мазманян
 Где-то совсем рядом, в расщелине между стеной и асфальтом, в зное летней ночи сверчок прял пряжу тишины, далеко от завода недовольно пыхтел под тяжестью груза паровоз. Ветер то появлялся, то исчезал, донося жалобное поскуливание собаки, которое затем переходило в густой вой, и лежащий на тахте начальник вахты Вазген Чобанян не мог ни спать, ни окончательно проснуться. Полусонный, он беспокойно ворочался с одного бока на другой. Тусклый свет не мешал Чобаняну, ему было просто лень встать, прогнать эту бездомную собаку, которая появляется вот уже вторую ночь вместе с ветром, воет вместе с ним, не дает ему спать, и Вазген Чобанян с воем в ушах спорил мысленно с беспалым Макаром из прядильного цеха: «Не твое это собачье дело, приходит товарищ Чобанян в третью смену или нет. Посмотрел бы, как я мучаюсь, чтоб сердце твое успокоилось. Может, из-за меня тебе придавило пальцы прессом, член месткома? И не стыдится — ни свет ни заря притащился сюда и — „добрый день, товарищ Чобанян“».
Держа ружье между коленями, храпел, сидя на стуле, вахтер, и его тень вздрагивала на недавно побеленной стене проходной.
— У-у-у-у… — заглушая окружающие звуки, выла собака.
— Заткнись, дура… — проворчал Вазген Чобанян и, почувствовав, что ему больше не заснуть, встал, потянулся и, зевая, толкнул вахтера. — Какое ты имеешь право спать на работе? А еще сторож называется…
Вахтер испуганно вскочил, встал перед начальником, протер глаза.
— Слышишь? — сказал Вазген Чобанян. — Опять притащилась. Включи прожектор, посмотрим, что это за чудовище.
Он вышел, встал под стеной, вглядываясь в темноту. Из-за стены показались руки вахтера, который пытался повернуть прожектор, но прожектор не поддавался ему, и пятно света, подобно эквилибристу, покачивалось на стене.
— Ну, что там случилось?
— Заело, черт, — простонал за стеной сторож. — Заржавел, проклятый.
— «Заржавел»! — поднимая голос, передразнил его начальник. — Сколько раз говорил, смажь.
— Что?..
— Что… что… Крепче крутани, ты что, не ел сегодня?
Прожектор заскрипел, угнал звезды и свет, повернулся и уперся в темноту.
— Вон… Глянь-ка, — крикнул Вазген Чобанян.
Неподалеку, в снопе света, сидел огромный волкодав и, задрав морду к небу, выл…
— Это собака чабана, — сказал начальник караула. — Опять, проклятая, не даст заснуть. Принеси-ка ружье.
Будто выполняя боевое задание, сторож побежал, топая сапогами, принес ружье, отдал Вазгену Чобаняну.
— Сейчас я ее мигом успокою, — сказал Чобанян, — цыц, проклятая… всю душу вымотала, — и пошел на цыпочках в темноту, чтобы собака не заметила его, а собака продолжала выть, и вскоре ее вой заполнил весь квартал — кое-где тонким сопрано откликнулись собаки, словно передразнивая ее.
— Не убивай, — подал вдруг голос вахтер, — лучше прогони.
Вазген Чобанян подошел, остановился в метре от собаки, тщательно прицелился и нажал на курок. Послышался сухой щелчок. Начальник разозлился, неизвестно на пса или на сторожа, крепко выругался и опустил приклад на голову пса, но промахнулся, в свете и во тьме смешались человек и собака, появились под лучами прожектора, слились в темноте, и только слышались их возня и душераздирающие вопли начальника. Затем пес отпустил свою жертву и растворился в темноте. Вахтер с криком бросился на помощь начальнику и, увидев его, замер от удивления. С его лица и рук хлестала кровь, одежда висела клочьями.
— Товарищ Чобанян, товарищ Чобанян… — повторял он.
— Товарищ Чобанян, так и разэтак твою мать! — взорвался начальник. — Чего сунул незаряженное ружье? Скотина ты этакая!
— Забыл, товарищ Чобанян, забыл…
— Осел! — в сердцах бросил начальник. — Тебе только кизяк месить! Какой ты, к черту, сторож!
— Виноват, товарищ Чобанян, виноват…
— Заткнись, болван! — заорал Чобанян. — Помоги, чего стоишь как истукан.
Волоча ружье, ругая на чем свет стоит всех ближних и дальних родичей пса, они направились к проходной.
— Ох, дела, — вскинул брови вахтер. — Нужна фасоль — приложить к ранам.
— Где ты посреди ночи фасоль раздобудешь? — ужаснувшись своих покусанных рук, закричал начальник.
— Что верно, то верно. Йод нужен.
— А йод где достанешь?..
— Что же делать? — заметался по маленькой комнате вахтер.
— Вызови «скорую помощь», — улегшись на тахту, сказал Чобанян ослабшим голосом.
— Да, «скорую помощь». — Вахтер поспешно набрал номер и закричал в трубку: — «Скорая»? Собака растерзала товарища Чобаняна, живого места не оставила. Поживее… Что?.. Пожарная команда?..
— Скотина… — простонал Вазген Чобанян, но вахтер не слышал его, и когда на том конце повесили трубку, он растерянно уставился на Чобаняна.
— Позвони «03»… «03»…
Наконец вахтеру удалось связаться со «скорой помощью», кое-как растолковать что к чему. Вспотевший и обессилевший, он свалился рядом с Чобаняном. И когда тот умылся и кровь слегка унялась, сторож начал считать:
— Лицо разодрал — раз… Руки в шести местах… Хорошо, что пальцы не прихватил, а то остался бы беспалым.
— Заткнись, все тело ноет.
— Как же ему не ныть… А сорочку-то как разодрал…
Чобанян не слушал его. Смотрел на раненые руки, в осколке зеркала изучал лицо, прикладывал платок то к рукам, то к лицу и ругался.
— И кто его сюда притащил? Так его мать…
И в чем был виноват тот, «кто притащил его сюда»?
Сын чабана поступил в педагогический институт, отец же не мог оставить сына без денег. Пригнал в город десять овец, чтобы продать. Одежду надо справить сыну, обувь, ведь не в горах же, чтобы не знать, куда деньги девать. Собака пастуха пришла в город вместе с ним и, заплутав среди многоэтажных зданий, в сутолоке машин, трамваев, улиц и людей, потеряла хозяина.
И вот в этом семисоттысячном городе, городе синхрофазотронов, нейлона и электронно-вычислительных машин, синтетического каучука и синтетических собак появилась собака чабана, огромный крепкий волкодав с буро-желтой шерстью, сверкающей под солнцем, с грустными большими глазами, тяжелыми и широкими лапами. Чабан, наверно, позабыв о еде, потеряв сон, позабыв своих овец, поступившего в институт сына, проклиная все на свете, искал своего пса, а тот в другом конце города — своего хозяина, овец, свои горы и камни. За такого пса пастухи дают овец, денег в придачу, дерутся насмерть. Такой пес становится членом их семьи, а этот бродит без дела по асфальтированным улицам, раскаленный асфальт жжет его привыкшие к травам и земле лапы, и он, скуля, бросается из стороны в сторону, ищет выхода, чтобы удрать от этого асфальта и огня, от этого нескончаемого потока людей и машин, удрать в свои горы, ищет и не находит. Улицы обманывали его, казалось, они уже вывели его из города, но снова приводили обратно. И когда темнело, пес терялся, отчаивался, садился где придется, вытягивал вверх морду, принюхивался к ветру, ловя идущие издалека знакомые запахи, и выл, выл жутко и тоскливо…
«Уууу-уууу…». Наверное, он говорил с горами, ущельями, острыми, как пики, скалами, ручейками, зарывшими свои хвосты в пушистый снег, звал ягнят и овец с влажными от росы мордочками, которые разбрелись по пастбищу, пастуха и его собак. «Уууу… ууу». Его вой тянулся, бился о бетонные стены высотных домов, об освещенные витрины, электрические провода, окутавшие, как паутина, весь город, о столбы и трубы и, расползаясь в клочья, где-то исчезал. Он сам не слышал отзвука своего воя.
«Ууу-ууу…».
Люди говорили, что пес лает на луну. Целый квартал не мог заснуть от его воя. Выходили во двор, кричали «Мопсик, Мопсик», но какой он был Мопсик, орали «пашол», а по-русски не понимал даже его хозяин, и, когда становилось невмоготу, кидали в него камнями и палками. Он не обращал внимания, продолжая выть, но когда камни попадали в него, он срывался с места, ударял грудью обидчика, распластав его по земле, кусал и отбегал на несколько метров, затем оборачивался, смотрел на свою жертву и, растерянный, медленно уходил…
Вскоре протяжный вой раздавался в другом квартале…
— И кто его сюда притащил. Так его мать, — процедил сквозь зубы Вазген Чобанян. — Видать, кость задета. И сапог разорван.
— Точно, разорвала, — вахтер разглядывал сапог, — она волка может задрать, что ей сапог.
Подоспела «скорая помощь». Молоденькая докторша и ее два помощника протирали заспанные глаза. Увидев Вазгена Чобаняна, они тут же очнулись.
— Это что, собака укусила?..
— Какая там собака. Настоящий волк.
Начальник придирчиво посмотрел на молодого врача и недовольно пробормотал:
— Какой с нее толк. Пропал я…
— Кто первым напал? — нахмурив брови, спросила врач. — Вы или собака?
— Стало быть, так. Я первым напал, а собака набросилась на меня.
— Живого места не оставила, — вмешался вахтер. Он с любопытством уставился на ящик с лекарствами. — Йодом помажьте.
— Ну чего суешься не в свои дела? — возмутился начальник. — Ты сторож, вот и займись своим делом. А ну, марш!
Врач и в самом деле смазала раны йодом, маленькими металлическими зажимами захватила раны, наложила швы, забинтовала, а стонам и ахам Чобаняна не было конца. Он стонал, кричал и между делом пытался доказать, что он все-таки мужчина.
— На германской войне две раны получил. Так даже не пикнул — умереть мне на месте. Это совсем другая боль.
Где-то совсем рядом, в расщелине между стеной и асфальтом, в зное летней ночи сверчок прял пряжу тишины, далеко от завода недовольно пыхтел под тяжестью груза паровоз. Ветер то появлялся, то исчезал, донося жалобное поскуливание собаки, которое затем переходило в густой вой, и лежащий на тахте начальник вахты Вазген Чобанян не мог ни спать, ни окончательно проснуться. Полусонный, он беспокойно ворочался с одного бока на другой. Тусклый свет не мешал Чобаняну, ему было просто лень встать, прогнать эту бездомную собаку, которая появляется вот уже вторую ночь вместе с ветром, воет вместе с ним, не дает ему спать, и Вазген Чобанян с воем в ушах спорил мысленно с беспалым Макаром из прядильного цеха: «Не твое это собачье дело, приходит товарищ Чобанян в третью смену или нет. Посмотрел бы, как я мучаюсь, чтоб сердце твое успокоилось. Может, из-за меня тебе придавило пальцы прессом, член месткома? И не стыдится — ни свет ни заря притащился сюда и — „добрый день, товарищ Чобанян“».
Держа ружье между коленями, храпел, сидя на стуле, вахтер, и его тень вздрагивала на недавно побеленной стене проходной.
— У-у-у-у… — заглушая окружающие звуки, выла собака.
— Заткнись, дура… — проворчал Вазген Чобанян и, почувствовав, что ему больше не заснуть, встал, потянулся и, зевая, толкнул вахтера. — Какое ты имеешь право спать на работе? А еще сторож называется…
Вахтер испуганно вскочил, встал перед начальником, протер глаза.
— Слышишь? — сказал Вазген Чобанян. — Опять притащилась. Включи прожектор, посмотрим, что это за чудовище.
Он вышел, встал под стеной, вглядываясь в темноту. Из-за стены показались руки вахтера, который пытался повернуть прожектор, но прожектор не поддавался ему, и пятно света, подобно эквилибристу, покачивалось на стене.
— Ну, что там случилось?
— Заело, черт, — простонал за стеной сторож. — Заржавел, проклятый.
— «Заржавел»! — поднимая голос, передразнил его начальник. — Сколько раз говорил, смажь.
— Что?..
— Что… что… Крепче крутани, ты что, не ел сегодня?
Прожектор заскрипел, угнал звезды и свет, повернулся и уперся в темноту.
— Вон… Глянь-ка, — крикнул Вазген Чобанян.
Неподалеку, в снопе света, сидел огромный волкодав и, задрав морду к небу, выл…
— Это собака чабана, — сказал начальник караула. — Опять, проклятая, не даст заснуть. Принеси-ка ружье.
Будто выполняя боевое задание, сторож побежал, топая сапогами, принес ружье, отдал Вазгену Чобаняну.
— Сейчас я ее мигом успокою, — сказал Чобанян, — цыц, проклятая… всю душу вымотала, — и пошел на цыпочках в темноту, чтобы собака не заметила его, а собака продолжала выть, и вскоре ее вой заполнил весь квартал — кое-где тонким сопрано откликнулись собаки, словно передразнивая ее.
— Не убивай, — подал вдруг голос вахтер, — лучше прогони.
Вазген Чобанян подошел, остановился в метре от собаки, тщательно прицелился и нажал на курок. Послышался сухой щелчок. Начальник разозлился, неизвестно на пса или на сторожа, крепко выругался и опустил приклад на голову пса, но промахнулся, в свете и во тьме смешались человек и собака, появились под лучами прожектора, слились в темноте, и только слышались их возня и душераздирающие вопли начальника. Затем пес отпустил свою жертву и растворился в темноте. Вахтер с криком бросился на помощь начальнику и, увидев его, замер от удивления. С его лица и рук хлестала кровь, одежда висела клочьями.
— Товарищ Чобанян, товарищ Чобанян… — повторял он.
— Товарищ Чобанян, так и разэтак твою мать! — взорвался начальник. — Чего сунул незаряженное ружье? Скотина ты этакая!
— Забыл, товарищ Чобанян, забыл…
— Осел! — в сердцах бросил начальник. — Тебе только кизяк месить! Какой ты, к черту, сторож!
— Виноват, товарищ Чобанян, виноват…
— Заткнись, болван! — заорал Чобанян. — Помоги, чего стоишь как истукан.
Волоча ружье, ругая на чем свет стоит всех ближних и дальних родичей пса, они направились к проходной.
— Ох, дела, — вскинул брови вахтер. — Нужна фасоль — приложить к ранам.
— Где ты посреди ночи фасоль раздобудешь? — ужаснувшись своих покусанных рук, закричал начальник.
— Что верно, то верно. Йод нужен.
— А йод где достанешь?..
— Что же делать? — заметался по маленькой комнате вахтер.
— Вызови «скорую помощь», — улегшись на тахту, сказал Чобанян ослабшим голосом.
— Да, «скорую помощь». — Вахтер поспешно набрал номер и закричал в трубку: — «Скорая»? Собака растерзала товарища Чобаняна, живого места не оставила. Поживее… Что?.. Пожарная команда?..
— Скотина… — простонал Вазген Чобанян, но вахтер не слышал его, и когда на том конце повесили трубку, он растерянно уставился на Чобаняна.
— Позвони «03»… «03»…
Наконец вахтеру удалось связаться со «скорой помощью», кое-как растолковать что к чему. Вспотевший и обессилевший, он свалился рядом с Чобаняном. И когда тот умылся и кровь слегка унялась, сторож начал считать:
— Лицо разодрал — раз… Руки в шести местах… Хорошо, что пальцы не прихватил, а то остался бы беспалым.
— Заткнись, все тело ноет.
— Как же ему не ныть… А сорочку-то как разодрал…
Чобанян не слушал его. Смотрел на раненые руки, в осколке зеркала изучал лицо, прикладывал платок то к рукам, то к лицу и ругался.
— И кто его сюда притащил? Так его мать…
И в чем был виноват тот, «кто притащил его сюда»?
Сын чабана поступил в педагогический институт, отец же не мог оставить сына без денег. Пригнал в город десять овец, чтобы продать. Одежду надо справить сыну, обувь, ведь не в горах же, чтобы не знать, куда деньги девать. Собака пастуха пришла в город вместе с ним и, заплутав среди многоэтажных зданий, в сутолоке машин, трамваев, улиц и людей, потеряла хозяина.
И вот в этом семисоттысячном городе, городе синхрофазотронов, нейлона и электронно-вычислительных машин, синтетического каучука и синтетических собак появилась собака чабана, огромный крепкий волкодав с буро-желтой шерстью, сверкающей под солнцем, с грустными большими глазами, тяжелыми и широкими лапами. Чабан, наверно, позабыв о еде, потеряв сон, позабыв своих овец, поступившего в институт сына, проклиная все на свете, искал своего пса, а тот в другом конце города — своего хозяина, овец, свои горы и камни. За такого пса пастухи дают овец, денег в придачу, дерутся насмерть. Такой пес становится членом их семьи, а этот бродит без дела по асфальтированным улицам, раскаленный асфальт жжет его привыкшие к травам и земле лапы, и он, скуля, бросается из стороны в сторону, ищет выхода, чтобы удрать от этого асфальта и огня, от этого нескончаемого потока людей и машин, удрать в свои горы, ищет и не находит. Улицы обманывали его, казалось, они уже вывели его из города, но снова приводили обратно. И когда темнело, пес терялся, отчаивался, садился где придется, вытягивал вверх морду, принюхивался к ветру, ловя идущие издалека знакомые запахи, и выл, выл жутко и тоскливо…
«Уууу-уууу…». Наверное, он говорил с горами, ущельями, острыми, как пики, скалами, ручейками, зарывшими свои хвосты в пушистый снег, звал ягнят и овец с влажными от росы мордочками, которые разбрелись по пастбищу, пастуха и его собак. «Уууу… ууу». Его вой тянулся, бился о бетонные стены высотных домов, об освещенные витрины, электрические провода, окутавшие, как паутина, весь город, о столбы и трубы и, расползаясь в клочья, где-то исчезал. Он сам не слышал отзвука своего воя.
«Ууу-ууу…».
Люди говорили, что пес лает на луну. Целый квартал не мог заснуть от его воя. Выходили во двор, кричали «Мопсик, Мопсик», но какой он был Мопсик, орали «пашол», а по-русски не понимал даже его хозяин, и, когда становилось невмоготу, кидали в него камнями и палками. Он не обращал внимания, продолжая выть, но когда камни попадали в него, он срывался с места, ударял грудью обидчика, распластав его по земле, кусал и отбегал на несколько метров, затем оборачивался, смотрел на свою жертву и, растерянный, медленно уходил…
Вскоре протяжный вой раздавался в другом квартале…
— И кто его сюда притащил. Так его мать, — процедил сквозь зубы Вазген Чобанян. — Видать, кость задета. И сапог разорван.
— Точно, разорвала, — вахтер разглядывал сапог, — она волка может задрать, что ей сапог.
Подоспела «скорая помощь». Молоденькая докторша и ее два помощника протирали заспанные глаза. Увидев Вазгена Чобаняна, они тут же очнулись.
— Это что, собака укусила?..
— Какая там собака. Настоящий волк.
Начальник придирчиво посмотрел на молодого врача и недовольно пробормотал:
— Какой с нее толк. Пропал я…
— Кто первым напал? — нахмурив брови, спросила врач. — Вы или собака?
— Стало быть, так. Я первым напал, а собака набросилась на меня.
— Живого места не оставила, — вмешался вахтер. Он с любопытством уставился на ящик с лекарствами. — Йодом помажьте.
— Ну чего суешься не в свои дела? — возмутился начальник. — Ты сторож, вот и займись своим делом. А ну, марш!
Врач и в самом деле смазала раны йодом, маленькими металлическими зажимами захватила раны, наложила швы, забинтовала, а стонам и ахам Чобаняна не было конца. Он стонал, кричал и между делом пытался доказать, что он все-таки мужчина.
— На германской войне две раны получил. Так даже не пикнул — умереть мне на месте. Это совсем другая боль.
* * *
Собака собакой, а город продолжал жить своей жизнью. Суконная фабрика выпускала неизвестно какой миллионный метр ткани, шинный завод — шины, электронно-вычислительная машина «Наири» получила на выставке золотую медаль, приехавшие из столицы белокурые красавицы сводили с ума парней в расклешенных брюках, вечером в кинотеатрах показывали «Этот безумный, безумный, безумный мир»… Утром люди спешили на работу, пустели от полуденного зноя улицы, если выступала городская футбольная команда — город замирал на два часа, затем снова оживлялся, самолеты «ИЛ-18» летели с аэропорта на море, море, море, вечерний ветерок, крутя, уносил со дворов частных домов дым шашлыка, вызывая зависть тех, кто жил в высотных домах. Если сказать, что город не любил собак, это будет неправдой… На собак разных мастей — маленьких и больших, кудлатых и безволосых — надевали ошейники, выводили на прогулку. Им говорили «садись», они садились, говорили «встань», они вставали, и хозяева в награду кидали им сахар, ласкали, и все было тихо и мирно. А этот неотесанный волкодав за одну только неделю укусил рационализатора масложиркомбината Саркиса Мурадяна, продавца пивного ларька Арутюна Кочьяна, шофера Жюльверна Погосяна и еще десять человек, имена которых были занесены в список пострадавших от укуса собак. А пострадавшие с неостывшим ужасом в глазах отвечали на вопросы врача. — Имя, фамилия? — Мурадян Саркис. — Пол? — Мужской. Не видишь, что ли? Врач смотрел исподлобья на пострадавшего, выискивая первый признак бешенства. — Возраст? — Двадцать восемь лет. — Место рождения? — Мартуни. — Город или деревня?.. — Город, город. Какая там деревня… — Где работаете? — На масложиркомбинате. — Кем работаете? — Послушай, ты, какое это имеет отношение к укусу собаки? — потеряв терпение, кричал пострадавший. — Совсем совесть потеряли! Укол должны сделать — делайте себе на здоровье и отпустите — у нас ведь тоже свои дела! — Спокойно, спокойно, — выискивал врач второй признак бешенства. — Если спрашиваю, значит, нужно… — Если нужно, пиши: иностранного языка не знаю, родственников за границей не имею, за границей не был… Врач спокойно смотрел на пострадавшего и задавал следующий вопрос: — Скажите, кусала ли когда-нибудь собака ваших отца и мать, дедушку или бабушку или их отца и мать? — И мать твою, и отца, и бабушку с дедушкой! — бушевал больной. — Все, я пошел. Врач хватал его за руку и еще спокойнее говорил: — Вы не ребенок. У вас налицо признаки бешенства. Необходимо выловить собаку, чтобы выяснить… — Чтобы я поймал?.. Собаку?.. — с ужасом кричал пострадавший и, не находя слов, рычал, и глаза его наливались кровью. — Я ведь говорил… — обращаясь к сестре, многозначительно качал головой врач.* * *
Начальник вахты Вазген Чобанян и в самом деле происходил из рода чабанов и долгое время был чабаном. До войны он был настоящим пастухом, с буркой, собаками и дубиной, присматривал в Апаранских горах за общественным стадом. Играл на свирели, кричал «гоч, гоч, гоч» отстающим овцам, размахивал в воздухе дубиной, вступал из-за пастбища в спор с курдскими пастухами и знал еще тысячу премудростей пастушьего дела. Началась война. Медицинская комиссия, военком глянули в его свидетельство о рождении — как будто бы мал для призыва, глянули на него — голый, волосатый, возмужавший — словом, все на месте, и сказали: «Если этого оставить, то с какой совестью других отправим?» Вазген Чобанян воевал, как и все, закончилась война, вернулся. Было у него две-три медали, прицепил он их на гимнастерку и, засунув руки в карманы, слонялся без дела по деревенским улицам, рассказывал односельчанам разные истории и, когда увидел, что никто его больше не слушает, заявил: «В город еду». — «Слушай, парень, — рассердился старший брат, — все мы воевали, а теперь у каждого свое дело. И с чего ты нос задрал? Чабан ты, так иди чабанить». — «Ну, знаешь, — сказал Вазген Чобанян, — нравится ишачить — оставайся, а я в город поеду». И уехал. Ну а по правде — надоумили его. Городу очень нужны были милиционеры. Если ты молод, здоров, смел — можешь стать милиционером. Условия шикарные — зарплата, бесплатная еда, обмундирование, общежитие — пожалуйста, а женишься — дадут квартиру. И личное оружие всегда при тебе. Дело нетрудное — приучать граждан к порядку. К тридцати пяти годам на его красных погонах появилась белая полоска, к пятидесяти годам — две полоски. Потом ему сказали: «Товарищ Чобанян, требования, предъявляемые сейчас милиции, иные, нужны образованные люди, а ты уже пожилой человек, не идти же тебе учиться. Давай-ка отправим тебя на пенсию». Вазгену Чобаняну вручили благодарность, подарили дешевые часы, сказали несколько теплых слов. Вазген Чобанян некоторое время проходил без дела, по старой привычке делая на улице замечания прохожим, но, увидев, что никто не обращает на него внимания, отправился на завод, что находился рядом с их домом, и стал начальником вахты. Удобная работа: когда хотел — приходил, когда хотел — уходил, в рабочее время ходил по магазинам, надо дома прокрутить мясо — пожалуйста, а за десять минут до конца работы заявлялся на завод. Пусть попробует кто-нибудь пораньше уйти с работы. — Ну? — говорил он собравшимся у входа. — Куда это вы спешите? Может, записать фамилии и передать директору? Верно, каждый из вас норовит унести что-то в кармане. И как вас только земля носит? — качал он головой и обращался к вахтеру: — Проверь-ка карманы этих деревенских пацанов. Они не чисты на руку, я знаю. И в самом деле, у некоторых в карманах находили подшипник, моток проволоки, сломанный напильник. Вазген Чобанян отбирал все и, выложив на ладони, шел к директору. — Товарищ директор, вот… Уносят, грабят… этот, этот, этот. — Не говорил «деревенские пацаны», а, напрягая память, — «выпускники училища», или как там они называются. — Тысячу раз говорил руководителям, ни тебе порядка, ни бдительности. Затем довольный шел в проходную и придирался к вахтерам. «Тысячу раз говорил вам, как разойдется народ — уберите проходную, сами-то небось в хлеву росли, но это вам не хлев, а государственное учреждение…» — «Слушаюсь, товарищ Чобанян». Вахтер брал веник и поспешно подметал, а сидящий в углу на тахте Чобанян успокаивался… и тихо-тихо старел. А сейчас он потерял покой. Из-за какой-то глупой собаки имя начальника вахты Вазгена Чобаняна стало притчей во языцех. — Товарищ Чобанян, ты что, во Вьетнаме воевал? — пошутил острослов завода, и пошло-поехало. Кому было не лень — задавал вопросы, посмеивался, приукрашивая сказанное. — Вьетнамский партизан Чон-бан-ян…. — Говорят, что и товарищ Чобанян не остался в долгу, укусил собаку, а та взбесилась. Все это доходило до Чобаняна, у него ныло сердце, и, когда темнело и все уходили с завода, он, прислушиваясь к вою собаки, говорил вахтеру: — Все равно она снова придет. Тогда я покажу ей кузькину мать. — Что ты сделаешь? — Не твое дело! — А ежели не придет?.. — Что?.. Придет… Я их хорошо знаю. — Эх, товарищ Чобанян, вот возьмет и не придет. — Придет, — хмурил брови начальник, почесывал через бинт раны и продолжал: — Она сейчас тоскует по своим горам. А это место ближе всех к горам. Принюхается к ветру и придет, — Чобанян злобно улыбался и качал головой. — Что?.. Видать, твоя правда, товарищ Чобанян, — соглашался сторож.* * *
Деда Геворга сыновья привезли в город. «Стыдно, — сказали, — пять сыновей у тебя, все пятеро в городе живут, слава богу, все имеют квартиру, хозяйство. Люди плюнут нам в лицо, скажут, старого отца в деревне одного оставили…» Не дали ему даже слова вымолвить, заперли дверь, посадили в машину и прямо в город. Это были крепкие трудолюбивые ребята и, пока не обженились, жили мирно, дружно, построили дом, каждому выделили по две комнаты, огородили приусадебный участок, сами все своими руками делали, потом переженились, тут все и началось. Спор начался с того — кто на каком этаже будет жить. Поспорили, поругались, ссора с братьев перекинулась на жен, с жен на тещ, на приусадебном участке выросло пять маленьких оград, в пяти маленьких оградах — пять уборных, и, когда они не разговаривали друг с другом, в их доме царило пять видов молчания, а когда ссорились — кричали все двадцать пять — невестки, тещи, отцы, дети… Словом, настоящий цирк — представление для всего квартала. Иногда под Новый год мирились, поздравляли друг друга с праздником, пили, вспоминали холостые годы, детство, но через несколько дней снова начинались ссора и перебранка. И в один из таких дней они порешили, что отца надо перевезти в город. Сейчас у деда Геворга пять невесток, внуков — с девяти месяцев до двенадцати лет, восемь из которых, кривляясь, танцуют перед ним твист, сейчас младшая невестка деда Геворга беременна, а остальные назло ей тоже забеременеют, сейчас из их квартир раздается треньканье пяти ненастроенных пианино (пианино невестки купили назло друг другу, плевать, что никто не играет), пять радиоприемников ловят Баку, и каждый норовит заглушить голос другого… Для пяти невесток пять раз на дню дед Геворг ходит на рынок и не тужит. Медленно кружит по рынку, выискивая знакомых, справляется о деревне, горах, скотине и, если не находит знакомых, знакомится с кем-нибудь из сверстников, спрашивает, откуда тот родом, скосили ли траву, сколько дадут за трудодень и многое другое. И когда по дороге с рынка, на трамвайной остановке, он увидел собаку чабана — страшно удивился: — А ты что здесь делаешь, пес?.. Подошел, погладил, присел на корточки, обнял, почесал за ухом. Пес вилял хвостом, обнюхивал деда Геворга, лизал руки и лицо. — Эй, люди, кто будет хозяином этого пса? — наконец позвал дед Геворг. Он повернулся в одну сторону, в другую — никто не откликнулся. И снова позвал: — Кто будет хозяином этого пса? — Увидел, нет, никто не подходит, и радостно обратился к собаке: — Пошли к нам. Он снял с брюк ремень, надел на собаку и, как давний знакомый, беседуя с ней, пошел домой. — А где твои овцы, пес?.. Ослепнуть твоему хозяину, что он без тебя нынче делает?.. А чего ты так отощал, сердечный?.. Я тебя накормлю, напою, не вешай хвост, стыд-то какой… Увидела собаку жена третьего сына, замерла от удивления. — Где же ты ее нашел?.. — Жалко ведь скотину, пусть поживет пока здесь, а дальше видно будет. — Ко мне не пущу, — рассердилась третья невестка, — пусть где хочет, там и живет, — она кивнула в сторону остальных невесток. Дед Геворг растерялся. Своего дома у него не было, чтобы держать собаку у себя. Побыл несколько недель у старшей невестки, а потом старшая невестка подняла крик на весь дом: «Я ведь не одна, пусть остальные тоже присмотрят за ним…» Дед Геворг хотел уехать в деревню, но старший сын не пустил: «Пожил ты у меня, теперь поживи и у других. А вернешься — вся деревня плюнет нам в лицо». И дед Геворг привык — как минует месяц, он молча собирает свои пожитки в фанерный чемодан, поднимается с первого этажа на второй, спускается со второго на первый. — Чтоб ослепнуть тебе, — кричала одна из невесток, — рубашку поленилась постирать, — и сама тоже не стирала. А теперь еще собака. Дед Геворг сидел на пне под стеной и курил. Собака разлеглась у его ног, положила морду на его ногу, и дед Геворг рассеянно гладил ее. — Мало того, что сам у нас живет, еще и собаку притащил, — кричала третья невестка. — Пусть кто хочет смотрит за ней. Я-то пущу, а другие как! Скажут, она ума лишилась, мы-то не спятили!.. Уведи ее, прогони, пусть куда хочет идет… — Тьфу, — проворчал дед Геворг. — Тьфу… Пошли, с этими собаками лучше не иметь дела. Он поднялся и, качая головой, ворча, направился с собакой в магазин. Было у него несколько рублей — купил дешевой колбасы, бросил собаке. Собака жадно накинулась на еду. Позабыв о невестках, сыновьях, позабыв обо всем, он смотрел на пса, и его охватило вдруг блаженное чувство, словно сам он ел и насыщался. Потом они вместе с собакой пошли в сад. Кружилась карусель с картонными лошадками, в бассейне плескались голые детишки, раскачивались в воздухе лодки, где-то играл оркестр — цмпа-цмпа-цмпа. — Пропади все пропадом, — сказал дед Геворг и вместе с собакой пересек аллею, прошел за фотоателье. Здесь росло несколько тополей, слышалось журчание ручейка. Собака потянулась к воде. — Пить тебе хочется, сердечному, ну пей, — и снова с блаженным видом посмотрел на жадно пьющего воду пса. Потом дед и собака улеглись на траве. Дед закурил, погладил собаку и наконец заговорил: — Другому никогда не сказал бы, а тебе вот говорю — что мне сейчас нужно в этом мире? Вот скажи. Дали бы мне спокойно пожить в деревне, там бы и помер. Взяли, привезли — мол, видали, как мы о своем отце печемся. Ни слова им не сказал. А что мне делать — ведь дураку не стыдно, стыдно его ближним… — И дед потихонечку излил собаке душу. Когда стемнело, дед Геворг и пес вернулись домой. Сыновья стояли во дворе, подбоченясь, не глядя друг на друга, готовые к драке. Ждали возвращения отца. Отец молча присел на пенек, собака тут же растянулась у его ног. Все молча изучали собаку, наконец старший брат выговорил: — На собаку Мхо смахивает. — Собака Мхо была сукой. А это кобель. Собака Мхо разбудила воспоминания, воспоминания пятнадцатилетней давности, и братья на минуту забыли, что они в ссоре. — Седрак и Мхо сцепили своих собак. Поспорили на двух овец. Ведь собаку Мхо звали Чало? — спросил шофер. — Не Чало, Аслан. — Да, верно, Аслан. Это собаку Седрака звали Чало. Аслан поборол Чало, по Седрак не дал ему обещанных овец. Был обычный тихий вечер, из окна каменщика свет упал на деда Геворга и собаку, братья собрались вокруг них и мирно беседовали. — А говорили, что дал… — Не дал. Я рядом стоял. — И я был там, не дал, — сказал штукатурщик. — Но этот, — прервал его старший, — этот силен, куда собаке Мхо до него. — А помните собаку курда Наго?.. Но тут отец смиренно прервал их воспоминания: — А с этим-то что будем делать? Нет, не было собаки курда Наго, не было Мхо и Сердака со своими псами, ничего не было: ни гор, ни овец, ни тонира, ни деревни. Все было ложью, сном, который пропал, исчез, и от всего этого осталась лишь эта взбаламученная тишина. Братья подбоченились, и огни сигарет дрожа поднялись вверх. — Ну?.. — с мольбой сказал отец. Шофер не спеша ушел, штукатурщик — следом, каменщик бросил сигарету, раздавил ногой и тоже хотел уйти, как отец схватил его за руку: — За твоей оградой немного места осталось. Поставлю там конуру, пусть поживет. Каменщик молчал. — Да, сынок, пусть поживет. Иди, — подтолкнул он собаку. — Говорил ведь, что господь милосерден… Он быстро повел собаку за ограду каменщика, собрал тряпье, расстелил, уложил собаку, откуда-то раздобыл старую миску, налил воды. — Поживи здесь, покуда придумаем что-нибудь. Дом утихомирился. Перед тем как лечь спать, дед Геворг снова пошел взглянуть на собаку. Собака спала, уткнувшись мордой в лапы. — Ну спи, намаялся, сердечный, — сказал дед и, мысленно благословляя своего сына-каменщика, заснул. Он так и не понял, когда собака начала выть. Намаялся за день — крепко спал. Когда проснулся, увидел на балконе своих сыновей, невесток, которые ругали друг друга на чем свет стоит. — Ежели решил держать ее, повел бы к себе в дом, — кричала жена шофера, — твоего воя мало было нам, теперь эта… Они, по-видимому, крепко поругались, иначе не заорал бы шофер во всю глотку: — Что же, из-за одной собаки поубиваем друг друга? Дед Геворг не успел даже натянуть брюки. Вдруг вой собаки перешел в жалобное поскуливание и, отдаляясь, затих в полуночнойтишине. — Кто ударил?.. Кто ударил?.. — Дед Геворг в темноте никак не мог попасть ногой в штанину. — Подохла?.. — спросил сверху старший сын. — Нет, — сказал шофер, отшвырнув в сторону лопату, — в ногу попал — удрала. — Ох, — простонал отец. — Чтоб вам пусто было… Дед Геворг до рассвета искал в полночном городе собаку. Не знал даже, как позвать ее. Останавливался, прислушивался к звукам и, приложив руки веером ко рту, звал: — Эй, пес!.. Пес… Эй, пес!..* * *
Асфальт размяк от полуденного зноя. Собака, поскуливая, хромая, искала тенистое место, когда издали приметила овец, — позабыв про жару, боль в ноге, страх перед машинами и трамваями, она одним духом пересекла улицу и бросилась к овцам. Она визжала от радости, обнюхивала их, подходила то к одной, то к другой, облизывала, тыкалась мордой в шерсть, снова обнюхивала, радостно виляя хвостом, и глаза ее не то от радости, не то от тоски влажно блестели. Хозяин овец — обычный городской спекулянт, который ошарашенно смотрел на собаку, тут же смекнул. — Говорил ведь, что не спекулянт я, а вы не верили, — сказал он собравшимся вокруг овец людям. — Вот моя собака. Разве спекулянт станет ходить с собакой?.. Бобик, спокойно… Собака, безразличная ко всему, обнюхивала овец, фыркала, снова обнюхивала. — Вот это собака. Настоящий волкодав, — заметил кто-то из толпы. — Нет, верно человек говорит, какой он спекулянт. — Какой там спекулянт, бросил свои дела, пришел вот в город. Бобик, спокойно. На его счету восемь волков. Видите, как любит их. Это ведь его овцы… — Да-а, — сказал парень с обросшим лицом. — Молодец, братец. Сколько возьмешь за ту черную овцу? — Сорок пять. — По рукам. Он отсчитал деньги, отдал хозяину и только схватился за свою овцу — как вдруг собака присела на задние лапы и, готовая к прыжку, рыча оскалила зубы. — Знаешь что, братец, подай сам овцу, не мое это дело, — испугался покупатель. — Бобик, — позвал спекулянт и попытался улыбнуться. — Бобик… Собака загородила овец, прижала их к стене и злобно смотрела на толпу. — Чего ж ты стоишь?.. — Сейчас, — запинаясь, проговорил спекулянт. — Бобик, спокойнее. — Он сделал шаг, боязливо протянул руку к овце, по собака зарычала еще злее, и он застыл на месте. Собравшиеся засмеялись, смех привлек внимание других прохожих. — Погодите, — сказал спекулянт, — она иногда становится бешеной, с ней это бывает. Сынок, сбегай-ка в магазин, купи чего-нибудь. — Он протянул деньги мальчику. — Сейчас мигом успокоится. Собака лаяла, посматривая на людей, теснила овец и снова лаяла. Мальчик принес колбасы. — Ну вот, — сказал спекулянт, взял колбасу, бросил собаке. — На, ешь, скотина… Собака яростно набросилась на колбасу, ворча принюхалась и снова вернулась к овцам, загородив их собой. — Слышишь, мне некогда, — дернул спекулянта за рукав обросший парень, — машина ждет. Спекулянт беспомощно почесал голову. — Вот наказание. Что же мне делать? — Разве это не твоя собака? — Собака, собака, откуда я знаю, чья это собака? А ну катись отсюда, — закричал он на собаку, наклонился, чтобы поднять камень, собака снова рыча оскалила зубы. — Давай деньги, я пошел. — Эй, хозяин, уведи-ка свою собаку!.. — крикнул спекулянт. — Пошел… — Позвони, пусть придут заберут. Жара. Ни ветерка. Воздух раскаленный, как огонь. Зевак становилось все больше, они дразнили собаку, бросали в нее камнями. Собака разъяренно бросалась на них, отгоняла, затем снова бежала к овцам. Приехали. На специальной машине, со специальными вилами. Трое. — Ах вот ты какая, — посмотрев на собаку, сказал пожилой. — Нам ее уже описали, волкодав, масть — буро-желтая, уши обрезаны, бросается на людей. Десять дней ищем. А ну, отойдите, бешеная она. Они оттеснили зевак и, вытянув вилы, с трех сторон медленно двинулись на собаку. — Лаешь? — проворчал пожилой. — Погоди, погоди. Сегодня сдерут с тебя шкуру, завтра высушат, послезавтра скроят обувь… Вот так, братец. — Аршо, — позвал пожилого товарищ. — Осторожнее, эта, видать, сразу набросится. — Аршо, — крикнули из толпы. — С детьми-то попрощался? — Помолчите, — не оборачиваясь, сказал пожилой, — мешаете ведь, дайте поработать. Они подошли с трех сторон. Сзади были овцы и стена, собаке некуда было отступать, и, прижавшись к овцам, она яростно лаяла. — Сейчас, сейчас, — сказал пожилой, вытягивая вилы. — Ты хватай за лапу… Товарищ с вилой в руках бросился вперед, вилы зацепили собаку, но пока Аршо подоспел, собака сорвалась, отбежала в сторону и неистово залаяла. — Черт, зубья узкие, — сказал он, подняв вилы. — Оставила клок шерсти, а сама удрала. — С головы начинайте, — сказал Аршо. — Погодите-ка. Он обошел ее, зашел с другого края. Собака стояла посреди овец. — Дура, — крикнул кто-то из толпы. — Удирай, чего стоишь. Собака не удирала. Металась из стороны в сторону, бросалась на овец, отгоняла на несколько шагов, снова возвращалась к овцам и бешено рычала. — Тоже мне специалисты по ловле собак, — насмехались из толпы. Пожилой, видимо, разозлился. Плюнул в ладони, растер, крепко взялся за вилы. — А ну отойдите. В римском цирке с Смбата Багратуни сняли цепи, привели на арену и сказали приговоренному к смерти — ежели ты победишь льва, даруем тебе жизнь. Император и его придворные со своей императорской высоты следили за поединком. Смбат Багратуни победил льва, император бросил свой платок на арену — да здравствует Смбат Багратуни! Нет, это был не цирк, и ловец собак Аршо не был Смбатом Багратуни, а собака чабана — львом, но Аршо, как и Смбат, бросился вперед, закружил вилы вместе с головой собаки, собака повисла в воздухе и — да здравствует Аршо! Собака металась из стороны в сторону, пытаясь высвободить голову. Аршо сорок лет кряду ловит собак, можно сказать, собаку съел на этом деле, теперь, крепко держа вилы, он должен зайти сзади, оторвать собаку от земли и — баста. Аршо зашел сзади, оторвал голову от земли, вот-вот должен был оторвать ноги, когда собака отпрянула назад, повалила на бок Аршо, покатилась вместе с ним по земле, и пока товарищи подоспели — ее и след простыл. И когда разбежавшиеся от страха люди подбежали к Аршо, они увидели, что у того разорвана щека. — Нет, этого пса надо пристрелить, — порешила тройка.* * *
Вой собаки раздался за полночь. Вазген Чобанян лежал на тахте. Услышав вой, он тут же вскочил и увидел, что вахтер Енок Дарбинян дремлет, сидя на стуле. — Ты сторож или кто? Енок вскочил, продрал глаза, хотел что-то сказать, но Чобанян не дал. — Тихо. Слышишь?.. — Ууу… ууу… — в темной тишине надрывалась собака. — Смотри-ка… Пришла?.. — Пришла, а как же… Я ведь говорил, придет. Говорил ведь, что понимаю их язык. — Он взял у Енока ружье, проверил затвор. — Я знал, что она сегодня придет, с гор дует ветер, ее и потянуло на ветер. — Чобанян прочистил горло и бросил начальственным тоном: — Что скажу, то и сделаешь. — Слушаю, товарищ Чобанян. Вазген Чобанян вытащил из стены кирпич. — Подойди. Ружье поставишь сюда. — Он просунул ружье сквозь отверстие. — Встанешь на колени. Смотри, как хорошо видно отсюда, целишься прямо в голову. Как скажу стреляй — выстрелишь. — Слушаю, товарищ Чобанян. Чобанян повернулся, повертел прожектор, и прожектор не заскрежетал как раньше, он заранее смазал его. В снопе света появилась собака, вытянув морду к ветру, она сидела на обочине. — Ты что, хочешь подойти к ней? — испуганно спросил Енок Дарбинян. Чобанян вышел. Небо было усеяно звездами. Неподалеку прошел трамвай, на минуту заглушая вой пса. Опустившись на одно колено, держа наготове ружье, Енок Дарбинян увидел, как Чобанян прошел вперед, встал около стены и вытащил из кармана свирель. И чабан Вазген заиграл. Залилась трелью свирель в полуночной тишине, мелодия смешалась с ветром и прохладой, принеся с собой оставшиеся вдали горы, скалы, зеленые пастбища и овец, приблизила их, сделала ощутимее. В его игре слышалось блеянье овец, мычание коров и журчание студеных родников, были покачивающиеся на ветру красные-красные маки, изумрудная зелень гор. Мелодия летела на крыльях, касаясь скал и утесов, и душа землепашца растворялась в ней, струилась волнами, благословляя создателя и творца за эти зеленые-зеленые-зеленые горы, за полет жаворонка и его призыв, за шелест ветра и свободный-свободный мир, и колышущиеся в этом свободном мире волнами стада овец… Сторож Енок застыл у щели. Чабан Вазген с закрытыми глазами играл на свирели, и Енок, позабыв и о своем деле, и о собаке, и о ружье, зачарованно смотрел на полночное видение и отрешенно шептал: — Вот это здорово, ой, как здорово… Вой пса оборвался. — Идет, — сказал чабан, — осторожнее. И снова заиграл чабан Вазген: теперь его песня рассказывала о невесте, несущей хлеб подпаскам, запахе и жаре тонира и соленом поте земледельца, который как мирра покрывал его лоб и освящал его… Играл чабан Вазген, полузакрыв глаза, а начальник вахты Вазген Чобанян, полузакрыв глаза, следил за собакой. Собака подходила, качая головой. Она шла с трудом, волоча хвост между ногами, всклокоченная, отощавшая, подходила со сдержанной радостью существа, обретшего своего родного друга, чтобы больше никогда не разлучаться с ним. Подошла и рухнула у ног Вазгена Чобаняна. — Видишь, — сказал начальник вахты Вазген Чобанян, и чабан Вазген снова заиграл. Собака уткнулась мордой в лапы, она дышала ровно, спокойно. — Видишь? Играя, Вазген Чобанян отошел на шаг. — Стреляй… — Чего? Выстрелить, что ли? 1968ВИСОКОСНЫЙ ГОД
Перевод Е. Шатирян
 Никто и не заметил, когда пришел и ушел почтальон: человек, за каждым шагом которого следила сотня глаз, на этот раз проскользнул незамеченным. Лишь Осанна, снимавшая метлой с потолка паутину, услышала какой-то шум в коридоре и, глянув вниз, увидела, что из-под двери медленно ползет какой-то листок. Грустная песня замерла у Осанны на губах, затем мысленно решив: «Мальчишки», — она подошла и быстро открыла дверь. Но в коридоре никого не было. Кто-то подсунул под дверь голубой конверт и исчез. Она подняла конверт, посмотрела на адрес. Почерк был незнакомый. Сердце Осанны сразу затрепетало, в глазах потемнело, ноги подкосились, и она, хватаясь за стену, сползла на пол.
— Абет!.. — вскрикнула Осанна, но голос сорвался, и она не смогла больше ничего выговорить.
Кто не знает, что так тайком приносят только похоронки? На улице стоял солнечный весенний день. Речка Гетар вздулась и просто захлебывалась от собственной пены, ветер разносил и разбрасывал вокруг тополиный пух. Говорят, пух хорошая примета, кому залетит в дом, тот получит письмо. С самого утра в окно Осанны залетали пушинки. И вот — письмо пришлю. Будь это письмо, какое ждала Осанна, кричал бы тогда одноглазый почтальон Андраник на весь квартал, получил бы десятку, а письмо читали бы всем двором…
Но он пришел и ушел тайком.
— Абет, ах, горе мне, горе!
Письмо могло быть и от кого-нибудь другого. Абета могло ранить, и вместо него мог написать кто-нибудь другой. Но в голове Осанны теснились только самые страшные мысли, а перед глазами вставала сцена прощания с Абетом: на вокзале, в толпе, Абет, обняв ее, беззвучно плакал…
Осанна открыла глаза, посмотрела на фотографию, висевшую над кроватью. Задолго до войны Абет с Осанной сфотографировались, сидя рядышком. О снимке этом забыли, он лежал в выдвижном ящике шкафа, под старыми ненужными вещами. А когда она узнала, что старичок-грек увеличивает фотографии ушедших на фронт сыновей и мужей, перерыла весь дом, отыскала снимок, отдала его старику.
— Отдельно увеличить? — старик указал на Абета пальцем.
— Почему отдельно?..
— Откуда мне знать?.. Многие хотят отдельно… — До других мне дела нет.
Сейчас то ли от слез, то ли от яркого солнца, светившего в окно, образ Абета расплывался в глазах Осанны. Она смотрела на фотографию и никак не могла разглядеть то место, где соприкасались их плечи.
— Разлучили нас… — неожиданно выкрикнула Осанна и, очнувшись от собственного голоса, вскрыла конверт. На отпечатанном бланке пропуски были заполнены химическим карандашом. На листок упала слеза, окрасив одну из букв в лиловый цвет. Осанна, не заметив этого, попыталась дрожащими губами связать русские буквы: — Ваш… сын… — тряхнув головой, вновь прочитала: — Ваш сын… Какой сын? — удивилась Осанна. — Муж, муж. Геворкян Абетнак!.. — Буквы вновь расплылись, Осанна фартуком вытерла глаза и нос, немного успокоившись, прочитала: — Ваш сын, Сардарян Рубен… Погоди! — Внутри у нее что-то дрогнуло. — Сардарян Рубен, — снова прочитала Осанна и не смогла сдержать крика: — Это не мой Абет!.. — Прислонив голову к стене, она горько заплакала. Еще одна слезинка упала на листок. — Ты меня чуть не убил! — сказала она изображению Абета.
Немного успокоившись, Осанна вновь перечла письмо и попыталась сосредоточиться.
— Рубен Сардарян… Сардарян Рубен… Боже мой, это ж наш Рубик… Сын Ахавни!..
Она продолжала сидеть на полу, уставившись на листок, лежавший на коленях. Затем со вздохом поднялась, села к столу и обхватила голову руками. Осанна выплакалась, слез больше не было, и в ее затуманенном мозгу мелькало лишь два слова: «Ваш сын»…
Она не заметила, как в комнату проник луч света, заскользил, заиграл на ее лице. Когда от слепящего луча заболели глаза, она поглядела в окно. Ее сын, устроившись с соседскими ребятами на крыше противоположного дома, осколком зеркала пускал зайчики в чужие окна.
— Счастливые! — сказав это, Осанна встала, задумчиво покружила по комнате. Наткнулась на валявшийся у дверей веник, вспомнила, что снимала паутину с потолка. — А ну ее!.. — вздохнула и легла на кровать.
Рубика Осанна знала еще ребенком. Говорили, что у Ахавни не было детей; муж, Адам, бросив ее, женился на другой, и у них родился сын Рубик. Потом якобы мать Рубика умерла, Адам вновь вернулся к Ахавни, сделал ее матерью Рубика и вскоре умер сам. Такие ходили слухи, а насколько это верно, никто не знал. Осанне было лет шестнадцать, когда Ахавни переехала к ним из другого города, поселилась в самой маленькой комнатке в их коридоре, и Осанна с подружками все удивлялась: как это у женщины, которой за сорок лет, такой маленький ребенок?
Лежа на кровати, Осанна припомнила все это и прошептала:
— Если он и вправду не родной, то легче… — потом подумала и сказала: — Какая тут разница, единственный ведь сын.
Подумала и о том, что Ахавни не перенесет горя, и тут в голове Осанны пронеслась мысль: как же она передаст письмо матери?..
Эта мысль заставила Осанну встать. Потирая виски, она обошла стол, не в состоянии оторвать глаз от письма.
— Ладно же, Андраник, — прошипела она, вспомнив почтальона, — попадешься мне, выколю тебе второй глаз… Именно мне ты должен был подкинуть письмо, больше никого не нашел?.. — Осанна представила себе крадущегося по их коридору почтальона, и тут глаза у нее расширились, лицо покраснело. — Пропади ты пропадом! — сказала она, имея в виду соседку Сируш. — Это твои дела. С какой стати он стал бы красться мимо твоей двери, двери Астхик, чтобы подбросить его мне? Ты хотела, чтобы у меня сердце разорвалось?.. Злобу таишь, паршивая?.. Отдай я тогда масло, чем бы я кормила детей?
Схватив со стола письмо, она отправилась к Сируш, толкнула дверь, она была заперта. Хотела вернуться назад, но передумала, наклонилась и подсунула конверт под дверь.
Никто и не заметил, когда пришел и ушел почтальон: человек, за каждым шагом которого следила сотня глаз, на этот раз проскользнул незамеченным. Лишь Осанна, снимавшая метлой с потолка паутину, услышала какой-то шум в коридоре и, глянув вниз, увидела, что из-под двери медленно ползет какой-то листок. Грустная песня замерла у Осанны на губах, затем мысленно решив: «Мальчишки», — она подошла и быстро открыла дверь. Но в коридоре никого не было. Кто-то подсунул под дверь голубой конверт и исчез. Она подняла конверт, посмотрела на адрес. Почерк был незнакомый. Сердце Осанны сразу затрепетало, в глазах потемнело, ноги подкосились, и она, хватаясь за стену, сползла на пол.
— Абет!.. — вскрикнула Осанна, но голос сорвался, и она не смогла больше ничего выговорить.
Кто не знает, что так тайком приносят только похоронки? На улице стоял солнечный весенний день. Речка Гетар вздулась и просто захлебывалась от собственной пены, ветер разносил и разбрасывал вокруг тополиный пух. Говорят, пух хорошая примета, кому залетит в дом, тот получит письмо. С самого утра в окно Осанны залетали пушинки. И вот — письмо пришлю. Будь это письмо, какое ждала Осанна, кричал бы тогда одноглазый почтальон Андраник на весь квартал, получил бы десятку, а письмо читали бы всем двором…
Но он пришел и ушел тайком.
— Абет, ах, горе мне, горе!
Письмо могло быть и от кого-нибудь другого. Абета могло ранить, и вместо него мог написать кто-нибудь другой. Но в голове Осанны теснились только самые страшные мысли, а перед глазами вставала сцена прощания с Абетом: на вокзале, в толпе, Абет, обняв ее, беззвучно плакал…
Осанна открыла глаза, посмотрела на фотографию, висевшую над кроватью. Задолго до войны Абет с Осанной сфотографировались, сидя рядышком. О снимке этом забыли, он лежал в выдвижном ящике шкафа, под старыми ненужными вещами. А когда она узнала, что старичок-грек увеличивает фотографии ушедших на фронт сыновей и мужей, перерыла весь дом, отыскала снимок, отдала его старику.
— Отдельно увеличить? — старик указал на Абета пальцем.
— Почему отдельно?..
— Откуда мне знать?.. Многие хотят отдельно… — До других мне дела нет.
Сейчас то ли от слез, то ли от яркого солнца, светившего в окно, образ Абета расплывался в глазах Осанны. Она смотрела на фотографию и никак не могла разглядеть то место, где соприкасались их плечи.
— Разлучили нас… — неожиданно выкрикнула Осанна и, очнувшись от собственного голоса, вскрыла конверт. На отпечатанном бланке пропуски были заполнены химическим карандашом. На листок упала слеза, окрасив одну из букв в лиловый цвет. Осанна, не заметив этого, попыталась дрожащими губами связать русские буквы: — Ваш… сын… — тряхнув головой, вновь прочитала: — Ваш сын… Какой сын? — удивилась Осанна. — Муж, муж. Геворкян Абетнак!.. — Буквы вновь расплылись, Осанна фартуком вытерла глаза и нос, немного успокоившись, прочитала: — Ваш сын, Сардарян Рубен… Погоди! — Внутри у нее что-то дрогнуло. — Сардарян Рубен, — снова прочитала Осанна и не смогла сдержать крика: — Это не мой Абет!.. — Прислонив голову к стене, она горько заплакала. Еще одна слезинка упала на листок. — Ты меня чуть не убил! — сказала она изображению Абета.
Немного успокоившись, Осанна вновь перечла письмо и попыталась сосредоточиться.
— Рубен Сардарян… Сардарян Рубен… Боже мой, это ж наш Рубик… Сын Ахавни!..
Она продолжала сидеть на полу, уставившись на листок, лежавший на коленях. Затем со вздохом поднялась, села к столу и обхватила голову руками. Осанна выплакалась, слез больше не было, и в ее затуманенном мозгу мелькало лишь два слова: «Ваш сын»…
Она не заметила, как в комнату проник луч света, заскользил, заиграл на ее лице. Когда от слепящего луча заболели глаза, она поглядела в окно. Ее сын, устроившись с соседскими ребятами на крыше противоположного дома, осколком зеркала пускал зайчики в чужие окна.
— Счастливые! — сказав это, Осанна встала, задумчиво покружила по комнате. Наткнулась на валявшийся у дверей веник, вспомнила, что снимала паутину с потолка. — А ну ее!.. — вздохнула и легла на кровать.
Рубика Осанна знала еще ребенком. Говорили, что у Ахавни не было детей; муж, Адам, бросив ее, женился на другой, и у них родился сын Рубик. Потом якобы мать Рубика умерла, Адам вновь вернулся к Ахавни, сделал ее матерью Рубика и вскоре умер сам. Такие ходили слухи, а насколько это верно, никто не знал. Осанне было лет шестнадцать, когда Ахавни переехала к ним из другого города, поселилась в самой маленькой комнатке в их коридоре, и Осанна с подружками все удивлялась: как это у женщины, которой за сорок лет, такой маленький ребенок?
Лежа на кровати, Осанна припомнила все это и прошептала:
— Если он и вправду не родной, то легче… — потом подумала и сказала: — Какая тут разница, единственный ведь сын.
Подумала и о том, что Ахавни не перенесет горя, и тут в голове Осанны пронеслась мысль: как же она передаст письмо матери?..
Эта мысль заставила Осанну встать. Потирая виски, она обошла стол, не в состоянии оторвать глаз от письма.
— Ладно же, Андраник, — прошипела она, вспомнив почтальона, — попадешься мне, выколю тебе второй глаз… Именно мне ты должен был подкинуть письмо, больше никого не нашел?.. — Осанна представила себе крадущегося по их коридору почтальона, и тут глаза у нее расширились, лицо покраснело. — Пропади ты пропадом! — сказала она, имея в виду соседку Сируш. — Это твои дела. С какой стати он стал бы красться мимо твоей двери, двери Астхик, чтобы подбросить его мне? Ты хотела, чтобы у меня сердце разорвалось?.. Злобу таишь, паршивая?.. Отдай я тогда масло, чем бы я кормила детей?
Схватив со стола письмо, она отправилась к Сируш, толкнула дверь, она была заперта. Хотела вернуться назад, но передумала, наклонилась и подсунула конверт под дверь.
* * *
Ахавни курила, сидя на низеньком стульчике, дым вился возле лица сидящей рядом Парандзем. Присутствие Парандзем не радовало Ахавни. Прожив по соседству двадцать лет, хорошо зная друг друга, они рассказали друг другу все, что можно было рассказать, и теперь темой разговора стали лишь повседневные тяготы да сплетни, а Ахавни было не до этого. Если бы письма от Рубика приходили так же часто, как письма от сына Парандзем, возможно, они и стали бы неразлучными собеседницами. Но последние четыре месяца Ахавни становилась день ото дня мрачней, все больше и больше замыкалась в себе. А Парандзем, не желая оставлять ее одну, не отходила от нее, — рассказывала разные истории, и если на лице Ахавни появлялась грустная улыбка, она радовалась, как ребенок. Ахавни терпела присутствие Парандзем лишь потому, что та каждое утро, простояв в очереди, покупала ей хлеб. К тому же ей удавалось думать о своем и не слушать Парандзем. Ахавни могла и сама постоять за хлебом, но в очереди многие то ли от нечего делать, то ли действительно беспокоясь, спрашивали ее о Рубике, и тогда сердце у нее разрывалось. Нельзя сказать, что другие соседи не оказывали Ахавни внимания. Кое-кто кормил Ахавни обедом, кое-кто стирал, приносил воду или выносил мусор. Ахавни заметила, что это не случайная помощь, и подумала: а может, они узнали что-то плохое о Рубике и не говорят ей? Молча берут на себя часть ее горестей? Ахавни останавливала по очереди всех своих соседей и заставляла дать клятву: — Скажи — клянусь Абетом… — Клянусь Абетом. — Скажи — чтобы моему Абету не вернуться с фронта, если я знаю что-нибудь плохое о Рубике и молчу… Женщинам стало невмоготу давать такие клятвы, и они стали реже заходить к Ахавни. Только Сатеник, украдкой от Ахавни, рано утром приносила воду, ставила ведро возле ее дверей, а Осанна тоже тайком выносила мусор. Парандзем каждый день проверяла, выполнена ли работа, и, довольная, делилась этим секретом с Ахавни, благословляя близких и дальних родственников Осанны и Сатеник. Ахавни молча кивала головой и курила. Никто из соседей не заметил, когда Ахавни начала курить и кому отдавала половину дневного пайка хлеба в обмен на папиросы. Сейчас Парандзем, поморщившись от дыма, подумала: «Разве пристало тебе делать то, что ты делаешь?» Но промолчала. Вспомнила, что дети вот-вот придут из школы и пора подогревать обед. — Пойду разогрею обед. Шаркая туфлями, она направилась к своей комнате, открыв дверь, наступила на конверт, и на нем отпечатался мелкий узор резиновой подошвы ее остроносой туфли. Разжигая огонь, Парандзем заметила письмо. — От Акопа! — обрадовалась старуха. — Боже, слава могуществу твоему! — Подняв конверт, она приложила его к губам и побежала к Ахавни. — Сестрица Ахавни, письмо пришло от Акопа… — Когда это прошел Андраник? Что-то я его не заметила… — Не знаю. Зашла в комнату, вижу письмо под дверью. — Твой часто пишет, — вздрогнув, обхватила себя за плечи Ахавни. — И твой напишет, сестричка, днем раньше, днем позже — все равно напишет… Ахавни затянулась и словно про себя произнесла: — Четыре месяца восемь дней. — Ты еще на свадьбе попляшешь, за внуками побегаешь… — Придется побегать, — грустно улыбнулась Ахавни. Парандзем стало как-то неловко за письмо, ее словно смутил пристальный взгляд, устремленный на конверт, и она сунула письмо за пазуху. — Отнесу Сируш, пусть прочтет… Невестка Парандзем, Сируш, в свободное от работы время торговала семечками. Увидев издали свекровь, Сируш нахмурилась. — Не злись, — размахивая письмом, закричала Парандзем. — От Акопа пришло… Видя, что конверт распечатан, Сируш достала сложенный вдвое листок, прочла и тут же, закрыв глаза, припала к свекрови. — Что случилось, что случилось?.. Сируш не отвечала, еще больше наваливаясь на свекровь. — Поди, голова кружится? Ведь с утра на ногах, — с трудом удерживая невестку, заворчала Парандзем и вдруг с ужасом подумала: неужто беременна?.. — Рука бы у тебя отсохла, — наконец подала голос Сируш. — Язык бы у тебя отсох! — рассердилась Парандзем. — Скажи толком, что случилось? Сируш вновь посмотрела на листок. — Это не от Акопа. Это похоронка на Рубика. Невестка со свекровью сели на край тротуара. Подняв пыль, перегоняя трамвай, промчался фаэтон. Придержав лошадей у остановки, извозчик обернулся, передразнил вожатого трамвая, стегнул лошадей, поехал дальше, и улица вновь затихла. Когда придет рабочий поезд, улица оживится, и Сируш продаст половину семечек. — На Рубика она. — А ты не обманываешь? — Зачем мне обманывать? — Поклянись Акопом… — Отстань. — Наверное, обманываешь… — голос Парандзем задрожал, — если ты обманываешь… — Не обманываю. — А почему его подсунули нам?.. — Откуда мне знать? — вспыхнула Сируш и, испугавшись своего голоса, замолчала. — Чтоб мне ослепнуть… — Молчи, пусть об этом ей скажет кто-нибудь другой. Сируш взяла мешочек с семечками и направилась к дому. Свекровь пошла за ней. Хромая Вардуш, повесив во дворе на веревку ковер, выбивала его палкой. Увидев их, она бросила работу. — Поздравляю, — сказала она, вытирая пот со лба. — Что пишет? — Все хорошо. — Моего Мелкона не встречал? — выглянула из окна Шамрик. — Их части были недалеко друг от друга. — Нет, не встречал. Шамрик хотела еще что-то спросить, но кузнец Асатур перебил ее, поймав Сируш за руку. — Границу перешли?.. — Что?.. Да, вот-вот перейдут. — А почему вы такие грустные?.. — Разве невестка со свекровью ходят вместе радостные? — вступила в разговор Парандзем. — Видали вы такое?.. — Эх, — покачала головой Шамрик и проговорила вслед Парандзем: — Да еще с такой свекровью, как ты! Сируш поступила на завод, где работал ее муж, на следующий день после его мобилизации. «Я буду делать ту же работу, что и он. Пусть его рабочее место не пустует». Так и сказала. Фотографию Сируш поместили в газете с надписью: «Заменила мужа». И теперь она была грузчицей на заводе. Работа эта мужская, товарищи по работе — мужчины, и Парандзем ревновала ее особенно, когда Сируш работала во вторую смену. Бросив детей, домашнюю работу, Парандзем приходила к заводским воротам и ждала, когда невестка закончит работу. — Кавалер ждет, — подсмеивались над Сируш. Несдержанная по характеру, Сируш злилась, в присутствии всех оскорбляла свекровь, но все равно — на следующий день Парандзем вновь ожидала ее. Войдя в дом, невестка и свекровь сели, посмотрели друг на друга. И сидели бы так долго, если бы в комнату не влетел с портфелем в руке сын Сируш, Левик. — Я голодный! — закричал он, даже не прикрыв за собой дверь. — Пойди поиграй немного, скоро будем обедать, — наконец очнулась Сируш. Мальчик положил портфель на стол и остался стоять возле бабушки. Сируш встала, достала из шкафа кусок хлеба и сунула в руки мальчику. — Поешь, поиграй немного и приходи. Левик откусил хлеб, но с места не двинулся. — Кому я говорю? — неожиданно закричала Сируш. — В другое время тебя домой не затащишь! Осанна, услышав в своей комнате крик Сируш, вздрогнула и неожиданно всхлипнула. — Где лежало письмо? — закрыв за мальчиком дверь, вполголоса спросила Сируш. — Вот здесь и лежало. — Под дверь подсунули. — Кто подсунул?.. — Андраник. Кто же еще? — рассердилась Сируш. — Тише говори. — А ты мне даешь тихо говорить?.. — Нужно же ему было подсунуть его именно нам!.. — А кому еще? — снова повысила голос невестка. — Мы ближе всех с Ахавни. — Что же нам теперь делать?.. — Не знаю. Левик тихо приоткрыл дверь, заглянул в щелочку. Сируш налетела на него с проклятиями, прогнала. Взяв горсть семечек, уставившись в одну точку, стала лузгать их. — Я не стану отдавать письмо Ахавни. — А кто же отдаст? — испугалась Парандзем. — Не знаю. Ты и отдай. — Пожалей меня… Хорошо ли, плохо ли, а сколько лет мы уже свекровь и невестка… Во дворе волчок сына Осанны, стукнувшись о волчок Левика, расколол его, и под крики остальных ребятишек мальчишки сцепились. В другое время Сируш сорвалась бы с места, дала бы жару всякому, кто хоть пальцем притронется к Левику. Сейчас она словно и не слышала воплей сына. Задумавшись, она лузгала семечки и наконец сказала: — Предположим, Андраник подбросил письмо не к нам… Что скажешь? — Как это?.. — насторожилась Парандзем. — Предположим, он подбросил его Осанне. — Осанне?.. Сируш не ответила. Парандзем с сомнением посмотрела на невестку и, вдруг сообразив, сказала: — Грех на душу возьмем. Она ведь тоже заждалась письма, бог накажет. — Накажет, так пойди отдай!.. — А если не отдавать?.. Если сжечь?.. Кто об этом узнает? — Как это сжечь? — зашипела Сируш. — Государственный документ. Даже если никто не узнает, Андраник-то знает… — Знает, знает. Что тут такого?.. — Если ничего такого нет, почему же он сам его не сжег? Проще простого! Да тут еще дело в пенсии Ахавни. На что она, бедняжка, живет? — Как же быть? — вздохнула Парандзем. — Жаль Осанну, от Абета давно нет вестей… — Жалко Осанну, давай подбросим письмо Астхик. У нее никого нет на фронте. — Не знаю, что и сказать… — Все равно, заботиться об Ахавни будем мы. — Кому же еще… — Тогда не сиди, — быстро проговорила Сируш. — Посмотри, Астхик дома?.. — Нет ее. — Посмотри еще раз. Осанна услышала, как к ее двери приблизилась, шаркая туфлями, Парандзем, решила, что письмо снова попадет к ней, у нее перехватило дыхание, но когда шаги замерли возле двери Астхик, она облегченно вздохнула. На мгновение воцарилась тишина, затем Парандзем, также шаркая ногами, вернулась обратно. Чуть позже Осанна услышала осторожные шаги Сируш.* * *
В темноте Астхик пыталась попасть ключом в замочную скважину; открылась дверь комнаты Ахавни, на секунду появился луч тусклого света, и тут же Осанна, выходя из комнаты с чем-то в руках, вновь затемнила коридор. — Здравствуй. — Здравствуй. Осанна хотела сказать, что приносила Ахавни обед, но промолчала. Постукивая каблуками, она вошла в комнату и тут же набросилась на сына, взобравшись на стол, он пускал мыльные пузыри. — Разве у нас так много мыла, что ты его портишь?.. Послышался звучный шлепок и рев мальчика. Астхик бросила на стол связку ученических тетрадей, нащупала чашку со свечой, зажгла ее, разделась, оставшись в нижнем белье, оглядела себя в зеркале. Астхик никогда не считала себя ни красавицей, ни даже просто симпатичной, ну а сейчас она день ото дня все худела, и кривизна носа на маленьком лице становилась еще явственней. — Стала плоская, как доска… Она поставила свечу возле зеркала, немного стянув бюстгалтер, приподняла грудь, вновь грустно оглядела себя и надела домашнее платье. Она была голодна; достав из сумки горсть мяты, обмакнула ее в соль, съела с кусочком хлеба и подвинула к себе связку тетрадей… Астхик не была замужем. До войны она встречалась с одним парнем, думала, поженятся. Но парень, узнав, что мать Астхик родила шестерых дочерей, испугался, что то же будет и у них, и оставил ее. Теперь по ночам, тайком от всех, к ней приходил преподаватель военного дела Сагателян, тихо стучался в окно. Астхик, затаив дыхание, прислушивалась и, убедившись, что вокруг тихо, вылезала из постели, приоткрывала дверь и с бьющимся сердцем ждала появления Сагателяна. Как ни старался он, половицы в коридоре все равно скрипели под сапогами, приводя в еще больший трепет сердце Астхик, и этот миг, несмотря на весь его ужас, был самым желанным для Астхик. Дверь тихо закрывалась, неслышно защелкивалась задвижка, Сагателян, стоя там же, у дверей, раздевался, смущаясь, словно в темноте его кто-то увидит, бросал одежду на стул, левой рукой прикрывал обрубок правой руки, проходил и ложился в теплую постель Астхик. — Астхик-джан… — Его горячее дыхание щекотало ухо Астхик, по телу пробегали мурашки… Астхик быстро проверила тетради. Это были домашние задания первоклассникам: несколько упражнений по вычитанию. От одной из тетрадей пахло мазью от чесотки. Она нашла газету, завернула в нее тетрадь, затем, взяв мыло, вышла в коридор, вымыла руки. Потом, потушив свечу, опустила шторы светомаскировки и легла в постель. «Сагателян придет не раньше одиннадцати». Сегодня, как и всегда в одиночестве, Астхик предалась мечтам о своем будущем. Она прикрыла глаза… Все начиналось с первого ухаживания Сагателяна. Они были одни в учительской. Сырые дрова в печке дымили; дым, вырываясь из печки, стелился под потолком. Сагателян долго молчал, затем, разминая папиросу, исподлобья посмотрел на нее. — Тяжело жить одной?.. — Я привыкла… — Грустно это — одна-одинешенька, в четырех стенах. — Некогда грустить, — солгала она, — забот много. Сагателян помолчал, видимо волнуясь, вновь зажег папиросу и, запинаясь, сказал: — Хочешь, зайду к тебе… Посидим, поговорим… — Вокруг сколько угодно женщин без мужей. Иди к ним… — ответила она и, увидев, что Сагателян вспотел, решила сильнее поддеть его: — Нацепи ордена и иди… — Во-первых, — вновь запинаясь, сказал Сагателян, — во-первых, я не пойду к жене фронтовика, — он медленно поднял указательный палец, и Астхик поняла, что Сагателян действительно не пойдет к жене фронтовика. — А если хочешь знать правду, ты мне нравишься… — … — Слышишь, вечером приду… — … Сагателян подошел, опустил руку на ее плечо. — Будешь ждать? — … — Я знаю твое окно. Подойду, постучу… — Приходи попозже… Самым заветным было то, что у Астхик появится ребенок от Сагателяна. Да, да, как только кончится война и жизнь немного войдет в колею, она заведет ребенка. Плевать, что у Сагателяна есть жена и дети, что он не женится на ней. Плевать на всех — пусть думают что угодно! Астхик понимала, что после войны начнется новый голод — голод на мужчин, и раз уж она до сих пор не вышла замуж, то рассчитывать ей больше не на что. Пусть так. Но зато у нее будет ребенок!.. В мечтах Астхик представляла, как она дает ребенку грудь, чувствует его теплое дыхание, и сердце ее сладостно замирало… Забывшись, она вздрогнула, когда снаружи постучали в окно. Астхик прислушалась, затем встала с постели, прошла босиком, откинула дверной крючок, и, возвращаясь, неожиданно наступила ногой на конверт. Она подняла его и, недоумевая, села на кровать. Вошел Сагателян, тихо закрыл дверь, послышался скрип расстегиваемого кожаного ремня. — Почему не ложишься? — подойдя, он прижал голову Астхик к своей волосатой груди. — Письмо вот… — Какое письмо?.. — Не знаю. Я его нашла возле двери. — Ложись, — зашептал Сагателян, — утром прочтешь. — Посмотрим от кого, потом ляжем. — Зажечь спичку?.. — Зажги. Сагателян порылся в карманах брюк, брошенных на стул, отыскал коробок и привычным движением зажег спичку. — Дай-ка поглядеть, — прошептала Астхик, прочитала адрес и едва сдержала крик. — Это от Рубика!.. — От которого не было вестей?.. — Да. Зажги еще одну… Сагателян вновь зажег спичку, и на этот раз они оба увидели, что конверт вскрыт. Астхик не удержалась и вытащила из него сложенный вдвое листок. Огонек спички уменьшился, обжег пальцы Сагателяна и потух. — Это не письмо, — сказала Астхик, — что-то отпечатанное. Посвети еще. — Не нужно. — То есть как не нужно? — оторопела Астхик. — Как не нужно?.. Сагателян взял листок из рук Астхик, вложил его в конверт, положил письмо на стол и сдавленным голосом сказал: — Погиб парень. — Что ты говоришь! — потрясла его за плечи Астхик. — Что ты говоришь?! — Что я говорю? — неожиданно вспылил Сагателян. — Говорю, что погиб. Он встал, надел гимнастерку, закурил. — Не уходи… — давясь слезами, попросила Астхик. — Я не ухожу. — А почему ты оделся?.. — Что ты ко мне пристала? Стало холодно, вот и оделся. Сагателян в одних кальсонах, босиком стал ходить по комнате. Когда половицы не скрипели, слышно было неровное дыхание Астхик. — Сколько ему было лет?.. — Что? — Астхик шмыгнула носом. — Двадцать исполнилось. — Жаль… — тяжело вздохнул Сагателян. — Когда погибают при отступлении, еще понятно. А сейчас — очень обидно… — Ахавни не переживет этого. Сагателян махнул рукой и снова закурил. Время от времени в темноте появлялось и вновь исчезало его красноватое лицо. — Не оставляй меня одну. Я боюсь. — Чего ты боишься? — Письма. Сагателян подошел, прижал Астхик к своей груди, поцеловал в мокрую щеку. Астхик почувствовала запах вина. — Обычное дело, — садясь рядом, зашептал Сагателян. — Я собственной рукой заполнял и отправлял десятки таких, — он потряс обрубком правой руки. — Похоронки?.. — Похоронки… — О-о-ой, — запричитала Астхик. — На чужбине, вдали от дома, от родных!.. — Какие еще родные? — нахмурился Сагателян. — С мамой ведь на фронт не пойдешь!.. Астхик и сама не заметила, как вся напряглась. — Я вообще говорю. — А ты не говори вообще. Астхик собралась что-то ответить, но Сагателян прервал: — Если хочешь знать, вся эта страна моя. Какая еще чужбина? — Конечно, — тут же согласилась Астхик. — О чем речь, вся страна наша. — Не говори со мной языком учительницы! — рассердился Сагателян. — Се-ва-сто-поль! Моя родина!.. — Каким же языком мне говорить?.. — Языком солдата! — Я не была солдатом. — Эх вы, зубрилы! — Сагателян скрипнул зубами. — Новороссийск — моя родина! Тамбов — моя родина!.. Поняла?.. Сагателян замолчал. Астхик тоже не проронила ни слова. Она чувствовала, с Сагателяном происходит нечто, чего она не в состоянии была понять. И тем не менее в ней взыграла женская строптивость. — Это не только твоя родина. Наша родина, понял? — Моя родина! — мрачнея и трезвея, сказал Сагателян. — Ты лучше помолчи, не то… — Ты пьян. — А разве я сказал, что не пьян?.. — Он покружил вокруг стола, немного успокоился и уже мягче сказал: — Не вмешивайся в дела, которые тебя не касаются. Астхик молчала. Сагателяну даже показалось, что Астхик заснула. Он подошел к кровати, потянулся к Астхик. Астхик оттолкнула его и всхлипнула. — Если это не меня касается, почему же письмо оказалось здесь?.. Почему?.. Сагателян сел на кровать, нащупал под одеялом ногу Астхик, погладил ее и, вздохнув, сказал: — Не попади пуля мне в кость, я бы тоже умер. Мне врач сказал. Он снова закурил, хотел встать, но Астхик, сорвавшись с места, обняла Сагателяна и, продолжая плакать, стала яростно целовать его затылок, волосы, лоб, глаза, щеки… В эту ночь Астхик показалась Сагателяну особенно ласковой… Позже они вновь вспомнили о письме, Астхик уже спокойно сказала: — Как мне отдать письмо Ахавни? — Как отдать? — зевнул Сагателян. — Верни его почтальону. — Не оставляй меня одну, — прижалась к его груди Астхик. — Я боюсь письма. — Вот сукин сын, — обругал Сагателян почтальона. — Когда ты рядом со мной, я спокойна. Не подумай что-нибудь другое. Я спокойна, и все. Сагателян не ответил. Кашлянул и продолжал молчать. — Отдам Сируш, пусть делают с ним что хотят. Они близки с Ахавни. — Эх, — покачал головой Сагателян, — жалко парня. — Не знала бы я его… — А чем плохи те, кого ты не знаешь?! — неожиданно рассердился Сагателян. Астхик замолчала. Со стороны мукомольни послышался свисток паровоза, эхо, отразившись от холма Сари-тага[3], постепенно затихло, и вновь послышался шум Гетара. Самсон, сторож продуктового магазина, разжег огонь в ведре, в стеклах окон дома напротив заиграли языки пламени. Для Самсона не существует закона, порядка, светомаскировки — ничего. Сколько раз с ним ругался уполномоченный, сколько раз грозился отдать под суд за то, что Самсон-де специально подает сигналы вражеским самолетам. — Она хранит конфеты для того, кто первым принесет радостную весть. Дети всего квартала знают об этом, — заговорила Астхик. — Чай пьет без сладкого… — Ахавни?.. — Да. Наверху заплакал грудной ребенок Грануш. Мать, видимо, спросонья сильно качнула люльку. Потом покачивание люльки стало тише, спокойнее. — Возьму Ахавни к себе, будем жить вместе. — Согласится? — Не знаю… Сагателян ушел, когда закричали петухи. Он не заметил, как уснул, и проснулся от толчков Астхик. Когда Сагателян вышел на улицу и зашагал в полутьме, ему показалось, что он видел плохой сон и не может его вспомнить.* * *
Парандзем прикрепила к головному платку три иглы, чтобы отпугнуть дурные вести. Одну иглу за Акопа, вторую за зятя, третью за племянника. Игла Акопа была самой большой. Она шагала по узкой извилистой улочке, ведущей к церкви, и всякий раз, когда выходила из тени глинобитных домишек, иглы блестели под лучами солнца. Перед Парандзем шла щупленькая Ахавни, с трудом вытаскивая ноги из вязкой грязи. Парандзем шла помолиться, поставить свечу за то, что полученное письмо было не об Акопе, вымолить у бога прощения за то, что они подбросили письмо Астхик, и поставить свечу за упокой души Рубика. Обычно они ходили в церковь вместе, сегодня же вышли из дому врозь и встретились только по дороге. Встретились и не сказали друг другу ни слова. Ахавни завидовала обилию писем, приходящих от Акопа. Эти письма словно преграждали дорогу письмам Рубика. Парандзем же молчала из-за похоронки Рубика. Смерть витала и у них в коридоре, она боялась за Акопа точно так, как пожилой человек боится умереть, услышав весть о кончине своего ровесника. Возле церкви Ахавни раздала мелочь нищим, отошла от Парандзем, уединилась в полумраке. Парандзем зажгла свечи, поставила их в подсвечник, сложив ладони, прошептала молитву, перекрестилась, преклонила колени. Ненадолго замолкший священник вновь запел псалмы густым басом. — Господи, отзовись на молитвы мои, да вознесется к тебе мольба моя… Не отворачивай лика своего от страданий моих… Тонкие лучи света, падающие из окна, стали короче, словно вплетаясь в молитву, смешались с шепотом, вознеслись к небу, оставив трепещущее пламя свечей — многочисленных перед изображением распятия и редких — в дальних углах. Псалмопение продолжалось; народ, в основном пожилые женщины, все, как один, выпрямлялись, замирали и, одновременно становясь на колени, склоняли головы к каменному полу. Лишь Ахавни, уединившись в углу, словно не замечала этого ритуала. Она опустилась на колени, высоко подняв голову, да так и застыла. На лице ее не двигался ни один мускул. Отгородившись от окружения, отгородившись от богослужения, закрыв глаза, сжав губы, она, вероятно, говорила с каким-то своим богом, и бог этот, видимо, слышал ее, но не находил слов для ответа. Священник помахал кадилом, воскурил, наполняя церковь запахом ладана. Мальчик с крестом, лежащим на библии, вышел вперед, молящиеся поднялись, стали целовать крест. Наверху зазвонили колокола. Ахавни очнулась от звона, открыла глаза, увидела, что люди выходят из церкви, а возле нее стоит Парандзем. — Помолилась?.. Ахавни не ответила. Вышла из церкви, подошла к женщине, сидящей на камне недалеко от входа, и подсела к ней. Ахавни не знала ее имени. Знала только, что и от ее сына давно не было писем. Посидят так вот молча рядом полчаса, час, повздыхают, потом одна за другой встанут и уйдут. Было уже темно, когда женщина ушла. Давно закрыли церковную дверь, вокруг не было ни души. Из ущелья доносился шум Зангу[4], недалеко в лунном свете покачивался тополь, колебля тень, падающую за церковную ограду. Ахавни не заметила, как кто-то отделился от стены и подошел к ней. — Пошли, — коснулась Парандзем ее руки. И, только когда они вышли на мостовую и прошли порядочный путь, Ахавни остановилась и впервые призналась: — Сердце чует недоброе. — Бог милостив, — буркнула Парандзем и подумала: «Где его милость?» Но в следующее мгновение, испугавшись бога, вновь повторила: — Бог милостив. — Ох, — после долгого молчания сказала Ахавни. — Хоть бы матушка моя была жива, была рядом…* * *
Вернувшись из школы, Астхик тут же собралась отнести письмо Сируш, но вспомнила, что Сируш поздно возвращается домой. Она походила по своей комнатке, поняла, что не в состоянии оставаться одна, и вышла из дому. Под вечер, когда она вернулась, Сируш развешивала во дворе белье. — Здравствуй, — сказала Астхик и почувствовала, как защемило у нее сердце. — Здравствуй, — избегая ее взгляда, ответила Сируш и неожиданно стала бранить дворовых ребят, которые играли в «чилик-даста»[5] настолько далеко, что их палка никак не могла долететь до белья Сируш. — Мне нужно тебе кое-что сказать, — проговорила Астхик. — Говори. — Пошли в дом, там скажу. — Времени у меня нет. — Это очень важно. — Потом скажешь, — вновь пряча глаза, сказала Сируш и прикрикнула на детей: — Кому говорю, паршивцы?.. — Нельзя это откладывать на потом, — схватила ее за руки Астхик. — Я должна сказать сейчас. Сируш поняла, что перечит напрасно, повесила последнюю рубашку и, взяв таз, пошла за Астхик. — Война, — издалека начала Астхик, — всякое случается… Сируш насторожилась: «Может, и об Акопе?..» У нее даже перехватило дыхание. — Тысячами гибнут… — Не мучай. Скажи. — Похоронка пришла на Рубика… Астхик думала, что Сируш станет рыдать, причитать, приготовилась ее успокаивать, но Сируш, лишь закрыв глаза, долго вздыхала. — Ее принесли и подбросили мне, — запинаясь, сказала Астхик. — Бедный Рубик. Бедная Ахавни… — Каменное у тебя сердце, — укорила ее Астхик и вытерла глаза вышитым платочком. — Что мне теперь делать?.. Сируш молчала. Втянула в плечи и без того короткую шею и уставилась в пол. — Умоляю, — опустила ей руку на плечо Астхик, — вы с Ахавни близки, отдайте ей письмо… — Нет, нет, нет! — как от удара, дернулась Сируш. — Об этом и не заикайся! — Что же мне делать? — всплеснула руками Астхик. — Что хочешь, то и делай. — А если сжечь?.. — Не знаю. Ведь это государственный документ. Я не слышала и не видела. Да тут еще вопрос пенсии. Матерям погибших дают пенсию. — Погоди, не уходи, посоветуй, как быть… Сируш вновь села на стул, обхватила руками колени. — Подбрось кому-нибудь. — А дальше?.. А если тот, кому подброшу, сожжет и не отдаст? — Если случится такое, позже скажем, что мы не решились отдать матери, а тот, кто сжег, пусть отвечает… Астхик не сообразила, что Сируш выдала себя. — Кому же подбросить? — медленно спросила она. — Кому хочешь. — А как это сделать? — Ты что — ребенок или притворяешься?.. Пойди, подсунь под дверь. — Легко сказать. — Если не легко, так пойди и отдай матери, — рассердилась Сируш. И добавила с иронией: — Ты у нас самая образованная, сможешь утешить. — Ты с умасошла!.. — Раз я сошла с ума, то ухожу. — Подожди. Кому подбросить?.. — Да хотя бы Србуи. Слава богу, Товмас вернулся с фронта. Астхик, обхватив обеими руками голову, посмотрела на Сируш, затем вздохнула. — Ты никому не скажешь?.. — Не скажу. — Поклянись! — Клянусь Акопом. Только не сейчас, они дома. Рано утром подсунь под двери и уходи. — Не могу оставаться дома с этим листком. Спрячь его у себя, а утром возьму. — Ну уж изволь!.. — отрезала Сируш. Астхик ночью спала у матери. Утром неслышно, как кошка, прошла по коридору, убедилась, что у Србуи дома никого нет, подсунула письмо под дверь и убежала.* * *
— Какое нам до этого дело?.. — посматривая на спящих детей, сказала Србуи. Товмас положил письмо на туалетный столик, скрипя протезом ноги, повернулся и, крепко сжав зубы, сказал: — Парень погиб, а нам дела нет?.. Люди мы или звери?.. — Товмас, Товмас, Товмас! — умоляла Србуи. — Если Андраник подбросил его мне в дом, значит, он что-то подумал. — Что он подумал, рука бы у него отсохла! — А то, что я единственный мужчина во всем доме. — Раз ты мужчина, значит, тебе за все отвечать?.. — А как же? — рассердился Товмас. — А как же?.. — Как мужчина ты сделал то, что был обязан сделать, и вернулся. Мало у нас своего горя?.. — Пойми, жена, я видел много смертей, я объясню Ахавни. — Эх, — безнадежно махнула рукой женщина. — Тьфу!.. Черепахами вы стали, черепахами… — Такое письмо матери не отдают. Послушай меня, сожги письмо. — Если его нужно было сжечь, сожгли бы, где надо. А если ты сожжешь его, Ахавни напишет новое письмо, и ей снова вышлют такую бумажку и на сей раз вручат письмо матери. Србуи не ответила. Она сняла чайник с огня, налила воду в таз, вымыла грязные тарелки, украдкой посмотрела на мужа. — Что греха таить… Одно письмо я уже сожгла. — И тоже на Рубика? — Да. Два месяца тому назад… — Я же говорю тебе… Видишь, второе письмо снова к нам попало! Товмас положил письмо в карман гимнастерки, взял палку, стоявшую у дверей; Србуи слышала, как постепенно затихал в коридоре скрип его протеза. Товмас без стука вошел к Ахавни. В комнате было темно. Ахавни, сидя как обычно на низеньком стуле возле окна, курила. — Почему свет не зажигаешь?.. Огонь папиросы стал ярче, на мгновение блеснули глаза Ахавни и тут же потухли. — Для чего мне свет? — произнесла Ахавни. — Так и будем в темноте сидеть?.. — Если хочешь, зажги. Лампа на столе, спички — рядом. Товмас на ощупь отыскал спички, зажег лампу. Ахавни, видимо, сняла вставные зубы, — губы ввалились, челюсть вытянулась вперед. Товмас взял стул, подсел, выставив вперед протез, затем, расстегнув под брючиной ремешок протеза, согнул ногу, сделал ее похожей на вторую, здоровую. — Говоришь, все в порядке? — Спасибо. — Да, — Товмас потер небритую щеку. — Ты держись. Я вот подумал, дай-ка посмотрю — как ты тут? — Сохрани господь твоих детей. — Пусть он вас хранит. Чем старше становится человек, тем больше нуждается в родителях. — Верно, — кивнула Ахавни, помолчала и чуть погодя проговорила: — Если бы моя матушка была жива… Хотя Товмас заранее решил, как начать разговор о Рубике, сейчас в голове у него все перемешалось. Не зная, что сказать, забыв о зажженной папиросе, лежащей на столе, он закурил вторую. — Какой табак куришь?.. — Не знаю, — безразлично пожала плечами Ахавни, еще больше съежившись под шалью, наброшенной на плечи. «Нужно начать с карабахского парня, который служил у нас в роте, — вспомнил Товмас и мысленно начал так: — Значит, так: служил в нашей роте парень из Карабаха, звали его Гегам…» — Говорят, отрежут человеку ногу, а ему кажется, что у него пальцы чешутся. А у меня не чешутся. Ахавни зашевелила губами, сказала что-то, но Товмас не расслышал. Он встал, прислонил палку к столу и прошелся по комнате… — Видишь, неплохо хожу… — Слава богу… Товмас вернулся, снова сел на стул. — Теперь немец не выдержит. Теперь мы его погоним, куда захотим. — Он помолчал, подождал, что скажет Ахавни, но та молчала, жадно затягиваясь, и от этого губы ее вваливались еще больше. — Да, — Товмас собрался с мыслями, — с ними покончено. Напрасно только губят людей… — Много сейчас гибнет?.. — слова вырывались из уст Ахавни с трудом, словно после огромных усилий. — Много… — Товмас сел поудобнее. — Значит, так, у нас в роте служил парень из Карабаха, звали его Гегам. Красивый такой парень, похожий на твоего Рубика, даже волосы были такими же светлыми, как у Рубика. Но кто бы подумал, что сердце у этого парня как у льва, — хлопнул рукой по своему протезу Товмас. — Значит, пошли два немецких танка прямо на наши позиции. Мы не смогли их остановить. Гегам и говорит: «Ребята, я пойду. Если не вернусь, напишите письмо матери. Напишите, что отдал я свою жизнь за нашу святую землю». Слышишь, какие слова? — Товмас посмотрел в глаза Ахавни, и тогда ее красные, влажные веки показались Товмасу покрытыми плесенью. — Да. Взял он гранаты и пополз. Один из танков подорвал, другой не сумел. Полез с гранатой под танк. — Товмас снова посмотрел на Ахавни. Взгляд у нее был неподвижен, глаза полузакрыты. — Он отдал свою жизнь, но сколько жизней спас!.. Ему дали звание Героя… Гегам ничего этого не говорил. Он молча взял гранаты и полез под танк. Гегаму не дали звания Героя. Все это Товмас придумал и теперь ждал похвалы Ахавни; как только она скажет что-нибудь, Товмас заговорит о Рубике. Но Ахавни не проронила ни слова. Она только совсем съежилась. — На что мне звание Героя? — наконец выдохнула Ахавни. Этажом выше с криками забегали дети Сатеник, электрическая лампочка, бездыханно висевшая под потолком, закачалась. Товмас очнулся, посмотрел наверх. — Говоришь, был похож на моего Рубика?.. — снова с натугой проговорила Ахавни. — Что?.. Вроде бы да… Вроде был немного похож… — Я знаю, во имя чего идет эта война, — после недолгого молчания задумчиво и сдержанно сказала Ахавни. — Но не дай бог с моим Рубиком что-нибудь случится, я умру… Если ты, господь, уготовил ему какую-то беду, ниспошли ее мне… Ахавни замолчала. Товмас хотел ей ответить, но, не найдя слов, вынужденно закашлял. — Но ежели мой Рубик вернется и увидит, что нет меня, — горевать будет очень… — Зачем напрасно придумываешь всякое? — поднялся со своего места Товмас. — Во время войны можно попасть в окружение, можно партизанить, наконец, попасть в плен. — Рубик не из тех, кто попадает в плен… Ты его плохо знаешь. — Разве мало случаев, когда месяцами не было писем, а потом приходили? Ты не теряй надежду… — А кто теряет?.. — вдруг повысила голос Ахавни. — Потеряй я надежду, давно бы умерла. — Да, — похлопал ее по плечу Товмас, — будь мужчиной. Позабыв свою палку у Ахавни, он вернулся к себе в комнату и на молчаливый взгляд жены ответил: — Нет, это письмо ей отдавать нельзя. Пусть пока остается так, как есть, посмотрим, что нам делать дальше.* * *
Сын Товмаса, Давид Абгарян, поспорил в школе с учителем географии Степаняном. Степанян сказал: — Ребята, год этот високосный[6],— и зевнул. Давид, который до этого не слушал урока и занимался тем, что втыкал в пол привезенную отцом с фронта трофейную ручку, бросил ее, вскочил с места и выпалил: — Неправда! Это не високосный год. Степанян все еще зевал; после зевка челюсть, вероятно, никак не попадала на место. Он стукнул по ней ладонью, вправил и, вытирая слезы, выступившие на глазах, сказал: — Следующий високосный год будет в тысяча девятьсот сорок восьмом году. Давид упрямо продолжал стоять, класс оживился. — Почему ты стоишь? — наконец заметил учитель. — Вы говорите неправду, — свирепо отчеканил Давид. — Этот год не високосный!.. — То есть как это, — говорю неправду?.. — Степанян встал, быстрым движением погладил короткую козлиную бородку. Ученики прекрасно знали, что, если Степанян поглаживает бородку, грянет буря. Они притихли, переводя взгляд с учителя на Давида. — Потому что… Всем было непонятно, что может ответить этот неисправимый лентяй? — Почему же?.. — повысил голос Степанян. — Потому что наши наступают, — сказал Давид и сел. Ученики готовы были засмеяться, но взгляд учителя был серьезный. — Как ты сказал?.. — Сказал, что наши наступают, а немцы драпают!.. На миг лицо Степаняна еще больше напряглось, рука застыла возле бороды, затем все увидели, как его лицо постепенно разгладилось и учитель широко и добро улыбнулся. Давид в этот день не сбежал с уроков и, на удивление товарищам, после занятий не остался играть в перышки, а отправился домой. Дома никого не было, и он, по обыкновению, стал рыться в шкафу, в надежде найти что-нибудь съестное. Там, где обычно лежал хлеб, было пусто; он решил поискать сахар, — мать часто прятала его под постельное белье, — и там случайно увидел письмо. Взяв его, Давид прочел адрес и закричал во всю глотку: — От Рубика!.. Оставив дверь открытой настежь, он бросился во двор: размахивая над головой письмом, он кричал и бегал по двору и настолько потерял голову, что не заметил, как торопливо открывались и тут же осторожно закрывались окна. Из взрослых к нему никто не подошел. Лишь ребятишки окружили Давида и с радостными криками влетели в комнату Ахавни: — Тетя Ахавни, письмо от Рубика!.. 1971ДЕКАБРЬ
Перевод Ю. Баласяна
 Керосиновая лампа горела неровно, пламя помигивало, от этого в комнате дрожали тени. Кто-то сказал, что керосин разбавляют водой. Стояла духота. Табачный дым, скопившийся под потолком, уже мало-помалу заволакивал печную трубу. В комнату набилось полно соседей. На нескольких стульях сидели по двое: толкались примостившиеся на тахте, на кроватях; по углам, прислонившись спиной к стене, кучились пожилые женщины и мужчины, молодые матери с малыми детьми на руках. Не нашедшие места в комнате теснились в коридоре, и когда кто-нибудь из них задавал вопрос, этот вопрос, прежде чем дойти до сидевшего за столом Айка, переходил от одного к другому, и ответ Айка передавался точно таким же манером. Все будто бы обрадовались, будто бы пришли с поздравлениями, но в действительности дело обстояло иначе: Айк был первым человеком, вернувшимся с фронта домой, от которого можно было хоть что-то узнать, услышать.
Окна были открыты настежь. Висевшие на решетках мальчишки, дрожа от холода, с любопытством смотрели в комнату. Айк сидел, положив раненую руку на стол, а другой обняв задремавшего у него на коленях сына, и с озабоченным видом отвечал на вопросы соседей. Ованес, пристроившийся рядом, торопливо скручивал себе и Айку цигарки и старался установить для задававших вопросы очередь.
— Айк-джан, ты-то, верно, знаешь, где эта самая 1427-я полевая почта? — показывая треугольное письмо, спросила женщина в черном платке.
— Не знаю.
— Не знаешь, а усмехаешься. Почему?
— Если и знает, не скажет, — донеслось из коридора, — военная тайна.
— Тайна тайной и останется. Я же не собираюсь докладывать немцу, где мой Торос.
— Люди добрые, — вдруг раскинув руки, взмолилась Сапет, — человек только что с дороги, ему отдохнуть надо!
— Сестра Сапет, теперь он долго еще отдыхать будет… Значит, говоришь, Согомона моего не встречал?
— Нет, не встречал, — буркнул в ответ Айк.
— Если бы встретил, узнал бы?
— Узнал.
— Ой ли? Вот послал он мне карточку свою, смотрю и не верю, что это Согомон.
— Айк, а Айк, а что ты добровольно пошел воевать, принимают во внимание? — Сидевшая возле печки старушка вытянулась и с умильной улыбкой уставилась на Айка.
— Тут нечего принимать во внимание.
— Кто его знает… — помрачнев, пробормотала старушка.
— А сколько у кого детей дома осталось — принимают во внимание? — Женщина ударила дергавшего ее за волосы ребенка. Ребенок заплакал.
— Не принимают.
— Говоришь, что сил у нас хватает, — подал голос кузнец Асатур, — а немец за шесть месяцев вон сколько отмахал! Если и дальше так дела пойдут…
— То что? — неожиданно вскинулся Ованес. — Что тогда?
— Айк-джан, Айк, хочу спросить, только не обижайся… — Женщина подалась вперед, вышла на свет, и все увидели, что вопрос задает Ноем. — Скажи, а в плен попасть легко?
В комнате наступила тишина. Мальчишки затолкались, попадали вниз, и под окном завязалась потасовка. Никто не заинтересовался суматохой — все ждали, что скажет Айк.
— Стыдно мне за тебя, сестра! — встал с места Ованес. — Тысячу лет мы в плену прожили — с нас довольно. Правильно я говорю, люди?
— Правильно! — откликнулись со всех сторон. — Очень даже правильно!
— Хоть одного из них ты-то сам пристрелил?
— Это само собой.
— Ох-ох-ох! — наматывая нить на веретенце, завздыхала старуха в черном платке.
— Не знаю, — пожал плечами Айк, — палишь себе из винтовки, а попадаешь в кого или нет, трудно сказать, ничего не видишь.
— Попадал, наверное, — сказал Ованес, — пуля, она такая: то промахнется, то в самую точку угодит.
Пламя в лампе затрепетало, вытянулось, задымило. Ованес прикрутил фитиль. В комнате стало еще темнее, тени на стенах расползлись, смешались. Кто-то из стоявших в коридоре пошел и принес лампу, с лампой в руке пробился в комнату, поставил ее на стол. Это была Шамрик — соседская дочь… Айк улыбнулся ей, она отвела глаза и выскользнула из комнаты.
— Айк, а солдаты досыта едят или голодают?
Мальчишки всполошились, попрыгали наземь, потом за решеткой окна показалось лицо участкового.
— Почему свет не замаскировали? Что здесь происходит?
Кто-то ответил.
— Ого! — обрадовался участковый. — Где ты, друг мой, а ну покажись.
Айк встал. Под накинутой на плечи шинелью все увидели его раненую руку на перевязи. Он прошел к окну.
— Ранен? — спросил участковый.
— Ранен.
— Куда?
— В локоть.
— Пальцы двигаются?
— Немного двигаются.
— Рука сгибается?
— Нет.
— Ничего, пройдет.
— Посмотрим.
— Пойду проверю затемнение. После поговорим, — сказал участковый.
— Иди.
Лицо участкового исчезло, и послышался его голос:
— Поздравляю тебя, брат Ованес. Сегодня жги, имеешь право. Пускай теперь весь город видит твой свет.
— Да будет свет и в твоем доме!.. — вскочив со стула, вскричал Ованес.
Мальчишки снова повисли на решетке.
— Айк, тетя Мариам интересуется — может ли фронтовик помогать своим домашним?
Мариам засмущалась, прикрыла платком рот, возразила:
— Врет она. Самой интересно.
— Нет, насчет помощи — трудно… Зажги мне папиросу, — попросил Айк отца.
Ованес стальным бруском высек из кремня искру, зажег папиросу, протянул сыну.
— Ах, Гитлер, Гитлер, мать твою так! — покосившись на руку сына, вскипел отец. — Прости, господи…
— Милые мои, — опять взмолилась Сапет, — да ведь он, наверное, есть хочет. Воду второй раз разогреваю, чтоб искупать его, а дров-то нет…
Ноем вспомнила, что внук вот-вот вернется из школы, достала из кармана фартука моток ниток, сунула его под мышку и тихо-молча удалилась.
Коридор понемногу пустел.
— Наших много убивают, Айк?
— Убивают.
— А много?
Айк затянулся, уставился, морщась, в одну точку и наконец сказал:
— Убивают.
— А бомб у кого больше?
— У нас, — не раздумывая, ответил Айк.
— Тебя как ранило?
Все впились глазами в Айка. Сапет выставилась вперед, стала посреди комнаты. Никто не сказал Сапет, что она заслоняет Айка, и, чтобы видеть его, все наклонились — одни вправо, другие влево.
— Танк обстрелял дом, — полузакрыв глаза, проговорил Айк. — Дом рухнул на меня…
— Ах, чтоб я ослепла! — Сапет схватилась за голову.
— Бревно придавило руку…
— Считай, тебе еще повезло.
— Бог смилостивился, — перекрестилась со слезами на глазах Сапет. — Петуха зарежу, свечку поставлю.
Манвел, припав к груди отца, сладко посапывая, спал. Ованес хотел уложить его в постель — Айк не пустил. Он еще крепче обнял сына, зарылся носом в его вихры, понюхал. Женщины прослезились. В коридоре никого уже не было, не было и висевших на решетках мальчишек…
В ту ночь долго еще горел свет в доме Ованеса. И когда все соседи разошлись, Шамрик, засыпая, услышала шум плескавшейся за стеной воды. Она подумала, что это, верно, тетя Сапет начала купать Айка, и вдруг сердце ее сильно заколотилось…
Керосиновая лампа горела неровно, пламя помигивало, от этого в комнате дрожали тени. Кто-то сказал, что керосин разбавляют водой. Стояла духота. Табачный дым, скопившийся под потолком, уже мало-помалу заволакивал печную трубу. В комнату набилось полно соседей. На нескольких стульях сидели по двое: толкались примостившиеся на тахте, на кроватях; по углам, прислонившись спиной к стене, кучились пожилые женщины и мужчины, молодые матери с малыми детьми на руках. Не нашедшие места в комнате теснились в коридоре, и когда кто-нибудь из них задавал вопрос, этот вопрос, прежде чем дойти до сидевшего за столом Айка, переходил от одного к другому, и ответ Айка передавался точно таким же манером. Все будто бы обрадовались, будто бы пришли с поздравлениями, но в действительности дело обстояло иначе: Айк был первым человеком, вернувшимся с фронта домой, от которого можно было хоть что-то узнать, услышать.
Окна были открыты настежь. Висевшие на решетках мальчишки, дрожа от холода, с любопытством смотрели в комнату. Айк сидел, положив раненую руку на стол, а другой обняв задремавшего у него на коленях сына, и с озабоченным видом отвечал на вопросы соседей. Ованес, пристроившийся рядом, торопливо скручивал себе и Айку цигарки и старался установить для задававших вопросы очередь.
— Айк-джан, ты-то, верно, знаешь, где эта самая 1427-я полевая почта? — показывая треугольное письмо, спросила женщина в черном платке.
— Не знаю.
— Не знаешь, а усмехаешься. Почему?
— Если и знает, не скажет, — донеслось из коридора, — военная тайна.
— Тайна тайной и останется. Я же не собираюсь докладывать немцу, где мой Торос.
— Люди добрые, — вдруг раскинув руки, взмолилась Сапет, — человек только что с дороги, ему отдохнуть надо!
— Сестра Сапет, теперь он долго еще отдыхать будет… Значит, говоришь, Согомона моего не встречал?
— Нет, не встречал, — буркнул в ответ Айк.
— Если бы встретил, узнал бы?
— Узнал.
— Ой ли? Вот послал он мне карточку свою, смотрю и не верю, что это Согомон.
— Айк, а Айк, а что ты добровольно пошел воевать, принимают во внимание? — Сидевшая возле печки старушка вытянулась и с умильной улыбкой уставилась на Айка.
— Тут нечего принимать во внимание.
— Кто его знает… — помрачнев, пробормотала старушка.
— А сколько у кого детей дома осталось — принимают во внимание? — Женщина ударила дергавшего ее за волосы ребенка. Ребенок заплакал.
— Не принимают.
— Говоришь, что сил у нас хватает, — подал голос кузнец Асатур, — а немец за шесть месяцев вон сколько отмахал! Если и дальше так дела пойдут…
— То что? — неожиданно вскинулся Ованес. — Что тогда?
— Айк-джан, Айк, хочу спросить, только не обижайся… — Женщина подалась вперед, вышла на свет, и все увидели, что вопрос задает Ноем. — Скажи, а в плен попасть легко?
В комнате наступила тишина. Мальчишки затолкались, попадали вниз, и под окном завязалась потасовка. Никто не заинтересовался суматохой — все ждали, что скажет Айк.
— Стыдно мне за тебя, сестра! — встал с места Ованес. — Тысячу лет мы в плену прожили — с нас довольно. Правильно я говорю, люди?
— Правильно! — откликнулись со всех сторон. — Очень даже правильно!
— Хоть одного из них ты-то сам пристрелил?
— Это само собой.
— Ох-ох-ох! — наматывая нить на веретенце, завздыхала старуха в черном платке.
— Не знаю, — пожал плечами Айк, — палишь себе из винтовки, а попадаешь в кого или нет, трудно сказать, ничего не видишь.
— Попадал, наверное, — сказал Ованес, — пуля, она такая: то промахнется, то в самую точку угодит.
Пламя в лампе затрепетало, вытянулось, задымило. Ованес прикрутил фитиль. В комнате стало еще темнее, тени на стенах расползлись, смешались. Кто-то из стоявших в коридоре пошел и принес лампу, с лампой в руке пробился в комнату, поставил ее на стол. Это была Шамрик — соседская дочь… Айк улыбнулся ей, она отвела глаза и выскользнула из комнаты.
— Айк, а солдаты досыта едят или голодают?
Мальчишки всполошились, попрыгали наземь, потом за решеткой окна показалось лицо участкового.
— Почему свет не замаскировали? Что здесь происходит?
Кто-то ответил.
— Ого! — обрадовался участковый. — Где ты, друг мой, а ну покажись.
Айк встал. Под накинутой на плечи шинелью все увидели его раненую руку на перевязи. Он прошел к окну.
— Ранен? — спросил участковый.
— Ранен.
— Куда?
— В локоть.
— Пальцы двигаются?
— Немного двигаются.
— Рука сгибается?
— Нет.
— Ничего, пройдет.
— Посмотрим.
— Пойду проверю затемнение. После поговорим, — сказал участковый.
— Иди.
Лицо участкового исчезло, и послышался его голос:
— Поздравляю тебя, брат Ованес. Сегодня жги, имеешь право. Пускай теперь весь город видит твой свет.
— Да будет свет и в твоем доме!.. — вскочив со стула, вскричал Ованес.
Мальчишки снова повисли на решетке.
— Айк, тетя Мариам интересуется — может ли фронтовик помогать своим домашним?
Мариам засмущалась, прикрыла платком рот, возразила:
— Врет она. Самой интересно.
— Нет, насчет помощи — трудно… Зажги мне папиросу, — попросил Айк отца.
Ованес стальным бруском высек из кремня искру, зажег папиросу, протянул сыну.
— Ах, Гитлер, Гитлер, мать твою так! — покосившись на руку сына, вскипел отец. — Прости, господи…
— Милые мои, — опять взмолилась Сапет, — да ведь он, наверное, есть хочет. Воду второй раз разогреваю, чтоб искупать его, а дров-то нет…
Ноем вспомнила, что внук вот-вот вернется из школы, достала из кармана фартука моток ниток, сунула его под мышку и тихо-молча удалилась.
Коридор понемногу пустел.
— Наших много убивают, Айк?
— Убивают.
— А много?
Айк затянулся, уставился, морщась, в одну точку и наконец сказал:
— Убивают.
— А бомб у кого больше?
— У нас, — не раздумывая, ответил Айк.
— Тебя как ранило?
Все впились глазами в Айка. Сапет выставилась вперед, стала посреди комнаты. Никто не сказал Сапет, что она заслоняет Айка, и, чтобы видеть его, все наклонились — одни вправо, другие влево.
— Танк обстрелял дом, — полузакрыв глаза, проговорил Айк. — Дом рухнул на меня…
— Ах, чтоб я ослепла! — Сапет схватилась за голову.
— Бревно придавило руку…
— Считай, тебе еще повезло.
— Бог смилостивился, — перекрестилась со слезами на глазах Сапет. — Петуха зарежу, свечку поставлю.
Манвел, припав к груди отца, сладко посапывая, спал. Ованес хотел уложить его в постель — Айк не пустил. Он еще крепче обнял сына, зарылся носом в его вихры, понюхал. Женщины прослезились. В коридоре никого уже не было, не было и висевших на решетках мальчишек…
В ту ночь долго еще горел свет в доме Ованеса. И когда все соседи разошлись, Шамрик, засыпая, услышала шум плескавшейся за стеной воды. Она подумала, что это, верно, тетя Сапет начала купать Айка, и вдруг сердце ее сильно заколотилось…
* * *
В собесе Айк долго дожидался кассира, чтобы получить пенсию. Он успел уже раз десять прочитать висевшие на стенах плакаты и на тех же стенах здесь и там нацарапанные непристойности. А сейчас он сидел в просторной комнате напротив завитой, с накрашенными губами женщины, курил и от нечего делать разглядывал письменные столы. «Столов семь, а работает одна она». В углу стояла жестяная печка. Айк нагнулся, всмотрелся: дров в печке не было. «Бумагой топят. Сами исписывают ее, сами и жгут…» Женщина поднесла пальцы ко рту, подышала на них, отогрела и, макнув ручку в чернильницу, сказала: — Зря ждешь. — Что? — очнулся Айк. — Я говорю — напрасно ждешь. — Может, придет? Который час? — Скоро пять, — продолжая писать, сказала женщина. — Вряд ли придет. Сейчас у всех одно на уме — чем-нибудь разжиться к Новому году. — А ты чего сидишь? — У меня никого нет, — беспричинно улыбнулась женщина, и Айк заметил, что она косит. Он еще с минуту посидел в нерешительности, потом вдруг вскочил и, не попрощавшись, ушел. На улице было ветрено. Снег на тротуарах был затоптан, — черная грязная кашица чавкала под ногами прохожих. Айк поднял воротник, побрел задумавшись, потом смешался с людским потоком и прибавил шагу. На привокзальной площади было многолюдно. Чем только не торговали на этой площади — хлебными карточками и обувью, халвой и шинелями, продуктовыми карточками, сахарными петушками, яблоками, желудями, спичками… Айк не сразу вошел в толчею. С зажатой в кулаке красной тридцатирублевкой он прислонился к телеграфному столбу и закурил. Нет, не с пустыми руками вернется он домой. Айк перебрал в уме все соблазны этого рынка и наконец нашел, что лучше всего купить новогоднюю елку. — Что продаешь? Айк вздрогнул. Перед ним стоял краснощекий, низкорослый, осклабившийся человек, по виду — его одногодок. — А что покупаешь?.. Спекулируешь? — Да какой я спекулянт? Вот продал мешок орехов — и домой собираюсь. — Откуда ты? — Из Ошакана[7]. — Ошакан… Ошакан… — пробормотал Айк. — Знакомое название. — Крест! Немецкий крест! Дешево отдам. — Подожди, — сказал Айк ошаканцу и подозвал владельца креста. Подошел тринадцати-четырнадцатилетний паренек с засунутыми в карманы брюк руками; он был худ, бледен, в стареньком пиджачке. — Покажи-ка свой товар. Паренек вытащил из кармана маленький железный крест. Это был немецкий орден. Айк удивился: — Где нашел? — Солдат один продал. — Сукин сын, — упрекнул Айк солдата, — разве это продают? — Обыкновенная железка, — сказал ошаканец. — Дяденька, — сказал паренек, — за сколько купил, за столько и продаю. — За сколько купил? — За двадцатку. Айк сунул парнишке в руку деньги и хлопнул его по шее: — На, и катись. — Ты так и не сказал, — опять осклабился ошаканец, — продаешь что или покупаешь? Айк улыбнулся, подбросил на ладони свое приобретение и положил его в карман. — Ничего не продаю. — Зачем же сказал, чтоб я не уходил? — Да, постой, — вдруг посерьезнел Айк, — купи шинель. — Шинель — не хочу. — А что хочешь? — Что? — Ошаканец оглядел Айка с ног до головы. — А в карманах ничего нет? — Ничего. — Сапоги продаешь? Покажи подметки. Айк оперся рукой о столб и поднял одну, потом другую ногу. Ошаканец постукал пальцем по подошве. — Ладно, покупаю. «Январь, февраль, — подумал Айк, — в марте уже весна. В апреле ходить в сапогах не годится, ботинки нужны…» — Сколько тебе дать? — Ошаканец сощурил один глаз, склонил голову набок. — Сколько дашь? — Чтобы не торговаться — семьсот. Много это или мало — Айк не знал. Он думал: «Все равно продам. Продам, куплю по дешевке ботинки, а на остальные деньги куплю елку, продукты…» — Да ты спятил, что ли? — схитрил Айк. — Знаешь, какие это сапоги? — Сапоги как сапоги. Ты сколько просишь? — Сколько прошу. Тысячу двести. — Ну это уж слишком! — Ошаканец потер руки. — Но ничего, поладим. — Не поладим, — отрубил Айк, — этими сапогами я фашистов топтал. — Да ну! — Вот те и ну! — Покажи-ка еще раз подметки. Подошли люди, полюбопытствовали, вмешались в торг — и наконец Айк и ошаканец поладили на тысяче рублей. — Снимай, — отсчитывая тысячу рублей, сказал ошаканец. — Как «снимай», — возразил Айк. — Сперва пойдем купим ботинки. Не босиком же домой возвращаться? Айк купил себе пару изношенных ботинок, отдал сапоги ошаканцу, хотел уже уходить, — тот схватил его за руку: — А ты вправду сапогами этими фашистов топтал? — Топтал, — еще раз соврал Айк. — Тогда на, возьми и эту сотенную, сыновья мой тоже на фронте. — Сколько же тебе лет? — Пятьдесят четыре. — А я думал, сколько и мне. — Перегибаешь… — втискивая сапоги в мешок, сказал ошаканец. — Не поминай лихом. Да будет Новый год добрым годом. — Да будет, — пожелал и Айк.* * *
Елка была разнаряжена. Свет от лампы падал на разноцветные игрушки, искрился на них. Бока печки накалились докрасна. Айк изредка смотрел на печную трубу. На стыках труба пропускала дым; он замазал их глиной, и сейчас глина сохла, трескалась, и опять из каких-то невидимых щелей начали выбиваться струйки дыма. Жена Айка Ашхен выглядела уставшей, — только что пришла с работы. Время от времени она терла виски, резко сдвигала брови: у них с Айком был спор из-за его сапог. Ованес, еще днем вставший с постели и одевшийся получше, сидел рядом с сыном, курил. На столе были две соленые рыбы, щавелевые щи, кусок халвы и буханка хлеба. Из коридора доносилась песня: сосед Вараз был выпивши и заставлял жену петь. Манвел, который уже съел одного из двух сахарных петушков, купленных отцом, а другого оставил на Новый год, не вытерпел — взял и впихнул его в рот. — Да, — взглянув на часы, сказал Айк, — сейчас мы выпьем за Новый год… Но что пить-то? — Чудеса! — помотал головой Ованес. — У нас уксус есть, — сказала Сапет, — разлейте в стопки и чокнитесь. Какая разница? Ведь уксус из того же вина. — Уксус? — обрадовался Айк. — Что же ты раньше не сказала? Ну, неси, мать. — Чаем поздравим друг друга, — с безучастным видом сказала Ашхен. — Нет, уксус лучше. Неси, мать. Ашхен вытерла и поставила на стол бокалы. Сапет отперла сундук, пошарила в нем, вытащила бутылку уксуса. Уксус разлили в бокалы. Айк оторвал клочок бумаги, помогая себе пальцами раненой руки, свернул цигарку, положил ее перед собой и, снова взглянув на часы, обратился к отцу: — Говори, уже двенадцать. Ованес взял бокал, подождал немного и, глубоко вздохнув, провозгласил: — Что ж… пусть бог поможет нам выйти из этого испытания с честью. Слава господу, сын мой цел-невредим. Поздравляю… Все встали, молча перечокались и сели. Один Айк остался стоять. Сахарный петушок Манвела хрустнул. Ашхен увидела, как задрожала челюсть и наполнились слезами глаза Айка. Потом Айк совладал с собой, откашлялся и сказал: — За моего Арташа! — Не пей, — вскрикнула Ашхен, — нельзя! Айк медленно опустошил бокал, поставил со стуком на стол. Скрежеща зубами, зажег цигарку. Сапет посмотрела на сына и прослезилась. На улице рявкнула собака: кто-то, видимо, ударил ее. Собака, повизгивая, кинулась в холодное безмолвие ночи. В коридоре хлопнула дверь, послышались шаги и донесся голос Софик: — Вараз, не ходи, ты пьян!.. Шаги приблизились, остановились, и Вараз открыл дверь. — В мужские дела не суйся! — крикнул он жене и ввалился в комнату. — Пришел поздравить с Новым годом! — Хорошо сделал, — сказал Ованес, — садись. Вараз подсел к Айку, оглядел стол. — Вино, значит, пьете. — Да, вино… — Ованес отвел руку от бокала. — Но чуть скисшее. — Слетай скажи Софик — пусть водки даст, — сказал Вараз Манвелу. — Я только водку пью. Манвел вопрошающе взглянул на отца. — Сходи, — сказал отец. — Пускай и лоби даст. — Лоби не нужно… — Айк положил руку на плечо Вараза. — Рыба вот есть, все есть… — Скажи, пусть полную бутылку нальет. — Вараз проводил Манвела взглядом, обернулся к Айку: — Как живется, сосед? Рука еще не сгибается? Что врачи говорят? — Не знаю, — улыбнулся Айк, — то говорят — будет сгибаться, то говорят — не будет. Кончилась бы война, а с рукой подождем… — Да, да, — согласился Вараз и вынул из кармана пачку «Наргиле», — как бы ни кончилась, только бы скорее кончилась. Слова «как бы ни кончилась» Айку не понравились. Он притворился, будто не видит протянутых ему папирос, скрутил новую цигарку. — Возьми папиросу, — обратился Вараз к Ованесу. — От этой на сердце не легчает, — заметил, усмехаясь, Ованес. — Вот выкурю свою, крепкую, может, чуть легче станет. — Ты-то зачем на сердце жалуешься, дядя Ованес? Слава богу, сын твой вернулся… — Да, слава богу, но сердце все равно болит, Вараз-джан. Манвел с бутылкой водки и с тарелкой лоби в руках вошел в комнату. — Э-эх, глупая баба! — взяв бутылку и тарелку, поморщился Вараз. — Лоби дала, а солененькое забыла. Пойди скажи, пусть огурчиков даст. — Иди! — обозлился Айк и исподлобья посмотрел на Вараза: — А больше у тебя ничего нет? — У меня все есть. А что? — Да так… — Понимаешь ли, — разливая водку, сказал Вараз, — кто-то из соседей яму мне роет… — Что случилось? — спросил Ованес. — Донос на меня написали, ворую, мол, я. — Кто написал? — Вот это меня и мучит… — Вараз поднял стопку. — С Новым годом! Выпили. Сапет вышла в коридор, через несколько минут вернулась и, скрестив на груди руки, села на свой стул. — Так вот… — после долгой паузы сказал Вараз. — Написали… Я же, сами знаете, никого не беспокою, а в трудную минуту и в помощи не откажу. — Правда, — поддержала Сапет, — не отказываешь. — Почему же написали, что я на руку нечист, вор то есть? Будто бы из мукомольни пшеницу краду. Вараз, конечно, крал. Крали и другие — из тех, кто работал в мукомольне. Некоторые, не без ведома сторожей, выносили из склада по целому мешку зерна. — Если подозреваешь и нас, — Айк схватил Вараза за руку, — клянусь моим Манвелом, мы тут ни при чем. Я твоего воровства не видел. Вараз засопел, заерзал на стуле и на этот раз наполнил бокал до краев. — Допустим, насыпаю в карманы немного зерна и приношу домой. Что тут плохого? Плохо, если я детей своих голодом не морю? — Нет, пусть кушают, если есть что кушать… — вмешалась Сапет. Вараз, ни на кого не глядя, выпил. Айк и Ованес чуть помедлили и тоже выпили. Ашхен посмотрела на мужа и по бегавшим в его глазах искоркам поняла, что он пьянеет. — Например, вот этот табак, который вы курите… — Вараз ухмыльнулся, — разве не Ашхен с фабрики приносит? — Да, без курева не остаемся, на день приносит. — На день ли, на два ли, это меня не касается. Правда, сосед? — Правда, — сказал Айк и тут же переменил разговор: — А как это получилось, что тебя на фронт не отправили? — А!.. Ты не верь, что я здоровый… легкие у меня слабые. Вараз был худ и мал ростом. «Может, действительно слабые», — подумал Айк. — Тебя вот отправили, а много ли ты выиграл? Покалечил себе руку и вернулся. Как ты теперь камни тесать будешь? — Ох-ох! — вздохнула Сапет. Айк был уже пьян. Вараз и Ованес что-то говорили ему, но он их не слушал, полузакрытыми глазами смотрел в одну точку, медленно выпускал из ноздрей дым. Ашхен дремала. — Хоть бы словечко какое вымолвил, — заговорил сам с собой Айк, — так молча и умер. — Кто? — Арташ. — Кто этот Арташ? — прохрипел Вараз. — Э-эх, — растянул Ованес, покачивая головой. — Друг, брат Айка. Убили его. Манвел быстро, жадно съел кусочек халвы, искоса взглянул на бабушку и, боязливо протянув руку, взял еще кусочек. — Убили… — повторил Айк и вспомнил: — Мы сидели в окопе. Арташ и говорит: «Не откажи, спой-ка ту песню, кто знает, может, в последний раз услышу…» — В письме ты так и писал, — подтвердил Ованес. Вараз снова налил бокалы. Айк взял свой бокал, поднес ко рту, но не выпил, неожиданно запел: «Ах, с любимой меня разлучили». Пел он плохо, то и дело голос осекался, но сидевшим за столом было безразлично — хорошо он пел или плохо: все смотрели на слезы Айка и сами тоже тихонько всхлипывали. Вараз утер рукой глаза, запротестовал: — Не томи, в новогоднюю ночь человек веселиться должен. — Конечно, — шмыгнула носом Ашхен, — спой что-нибудь веселое. — Плясовую давай, я плясать буду! — вскочил Вараз. Айк оборвал свою песню. Играя желваками, поднес бокал к губам. — Пьянеешь ты, — сказала Ашхен, — больше не пей. — Пусть пьет, коли сердце хочет, — возразил Ованес. — За здоровье всех моих товарищей. Где-то они сейчас? Кто жив? Кто убит? Прибитые к потолку газеты зашуршали, из щелей посыпался песок. Это были мыши. Они пробежали, попискивая, и затихли. — Ты почаще пиши своим товарищам, они тебе благодарны будут. — Пишу — не отвечают. — Не отвечают? — Вараз помолчал, затем, махнув рукой, проговорил: — Наверное, поубивали их… — Эх, ты… Полеживаешь себе с женой в обнимку, а товарищей моих в землю зарываешь? — Айк выкатил глаза. — Почему же не отвечают? — Времени нет. С улицы донеслись пронзительные переливы дудука, гул бубна, голоса. Манвел бросился к окну, уткнулся носом в стекло. Наверное, это была свадьба: шумно горланя, по улице двигалась большая толпа. Кто-то из них закричал: «Почему же стыдно? Может, поплачем, чтобы Гитлеру удовольствие сделать? Нет уж, попируем!» Голоса и музыка постепенно затихли. В комнате послышалось тиканье стенных часов. Манвел юркнул за занавеску и, не раздеваясь, лег в постель. — Времени нет?.. — нарушил молчание Вараз. — А не потому ли не пишут, что немец прет безостановочно и все на своем пути крошит?! — Дальше что? — сдвинул брови и весь напрягся Айк. — Дальше ничего, — улыбнулся Вараз. — Я ведь не ребенок, все понимаю… — Что понимаешь? — А то понимаю, что наше дело конченое. — Как конченое? — взмахнув руками, вскричал Ованес. Он вскочил, пошарил в карманах, вытащил немецкий крест: — А это что? С их генерала сорвали! — Откуда он у тебя, божий человек? — хохотнул Вараз. — Уж не ты ли его сорвал? — Да, я сорвал. — Кого вы обманываете? — не отступал Вараз. — По-вашему значит, мы их победим? — Да, победим! — отрезал Айк. — Что еще скажешь? Выкладывай давай! — Хватит вам, — сказала Ашхен. — Оставь его, Айк. — Врешь! — взвизгнул Вараз. — Москву уже берут! — Вру? — выдохнул Айк. — Вру, говоришь?.. — Здоровой рукой он взъерошил волосы. — Если вру, почему же тогда жена моя не побоялась забеременеть? Отвечай, подлюга! Ах ты вор поганый! — Вор — твоя жена, табак ворует! — Жена моя не ворует, а если ворует — я кровь свою проливал! — выкрикнул он. Манвел вскочил с кровати и прижался к бабушке. — Заткнись и не хорохорься, кляузник! — прошипел, вставая с места, Вараз. — Я не посмотрю, что рука у тебя такая. Ованес засуетился, рванулся с тахты. — На кого это ты наскакиваешь, разбойник? — Старик откинулся назад и ударил Вараза наотмашь по щеке. Вараз хотел было схватить бутылку — не успел: зашатался от удара Айка. В ту же минуту Ованес сзади схватил Вараза за руки: — Бей его, Айк, бей этого сукина сына!.. Чтобы знал!.. Чтобы помнил! Сапет и Ашхен метались по комнате, умоляли сына и отца опомниться, не бить человека. Но куда там! — Вру? Вру, говоришь? — повторял Айк и бил Вараза. Потом отец и сын выволокли Вараза в коридор, и сын пинком ноги открыл дверь его комнаты. — Господи, что это? — соскочив с кровати, кинулась в темноте к дверям жена Вараза. — Я избил его, — сказал Айк. — Чтобы ты сдох, калека! — завизжала Софик. — Справился-таки с больным человеком… Ты еще пожалеешь об этом! — Цыц, шлюха! — отрезал Ованес. Отец с сыном молча вернулись к себе, сели за стол. Ованес принялся крутить цигарку, — не смог: сильно тряслись руки. На вопли Софик повыскочили в коридор соседи. Ованес рассыпал табак, остаток водки сцедил в бокал Айка, вздохнул с натугой и, схватив руку сына, потряс ее: — Айк… сынок… скажи мне правду, заклинаю тебя Манвелом, победим или нет? — Чего вы пристали ко мне? Чего вы хотите?.. — Айк изо всех сил ударил кулаком по столу, встал, дошел, натыкаясь на стулья, до своей кровати, растянулся на ней и затих. 1969СЫН КВАРТАЛА
Перевод М. Мазманян
 С ранней весны до поздней осени жители одноэтажных глинобитных домов выходили после обеда во двор. Мужчины, в основном мастеровые, тут и там постукивали костяшками нарды или же, устраиваясь на низких скамейках, курили и мирно беседовали о досках на бочку, о политике Турции, о кизиловой водке, о романе «Самвел» и многом другом. Женщины же с какой-либо работой присаживались неподалеку, делились своими горестями и заботами, перешептывались с лукавой улыбкой в глазах, судачили, позабыв о присутствии мужчин, безудержно хохотали, но, спохватившись, тут же притихали. В центре двора с шумом и визгом носились детишки, затевая разные игры, бегали взапуски, падали, разбивая в кровь коленки и носы и, сдерживая плач, продолжали, прихрамывая, играть. Мигран из Полиса включил радиоприемник, его грохот наполнял весь двор, и вскоре тоскливый мугам тихо струился по двору, То ли мугам напоминал западным армянам о брошенном родном очаге, то ли навевал на чужбине воспоминания о далеком детстве или просто брал за душу. «Тише, вы!» — приструнивали они вошедших в азарт игроков в нарды и, склонив набок головы, уходили в себя, тосковали. Солнце постепенно багровело, повисая над двором, сверкал на крыше зеленый кувшин Еран, под тихим ветром плясали языки пламени разведенного у стены очага, выскальзывали из-под огромного медного котла, и в котле закипал, клокотал алый томат…
И вдруг наступало радостное оживление — во двор выходила полоумная Мариам. Все: и малыши и почтенные старцы, — знали полоумную Мариам, с большими синими глазами, с детской улыбкой, разлитой по всему лицу, с длинными ногами и гибким станом, С тугими грудями, выступающими из-под тонкого ситцевого платья, с небрежно разбросанными по плечам черными роскошными волосами…
Красива была Мариам. Бросив игры и работу, прервав беседу на полуслове, ее окликали со всех сторон, подзывали к себе. Мариам выслушивала их, отворачивалась с ужимкой и, смеясь, отходила. Полоумная Мариам очень любила маленьких детей. Подходила не спеша к ребенку, опускалась перед ним на корточки.
— Чья ты, моя хорошая? — спрашивала она, осторожно касаясь пальцем подбородка ребенка, и отвечала за него тонким детским голоском: — Модницы Шогик! Ишь ты, на модницу Шогик поглядите-ка!
Двор хохотал. Шогик, раздираемая смехом, подзывала Мариам, и, когда все постепенно затихали, Мариам снова спрашивала:
— А папа твой кто?.. Удод Воскан… — Она искала взглядом отца ребенка, находила: — У-дод!..
Радостью квартала, его улыбкой была эта лишенная отца девушка. Позабыв о горестях и заботах, люди смеялись вместе с ней и, успокоившись, обретя покой… любили полоумную Мариам.
Началась война, мужчин забрали на фронт, но Мариам снова кружила по осиротевшему кварталу и своими наивными шалостями и выходками вызывала скупую улыбку на посуровевших лицах женщин, давно переставших улыбаться от горя и страданий.
— Завидую тебе, Мариам, ни ума, ни горя…
Женщины ошибались — у Мариам было свое горе, — завидев какого-нибудь военного, она бежала за ним, хватала за руку и спрашивала, запыхавшись:
— Ты, часом, Тороса не видал?
Торос был единственным сыном ее соседей, Ареват и охотника Бабкена, — немногословный парень со спокойными глазами и русыми волосами, которого в первый же день войны взяли на фронт. Как ни терзали женщины свою память и воображение, никак не могли понять, почему Мариам из всех отправившихся на фронт мужчин спрашивала только о Торосе.
А военный, коли догадывался, с кем имеет дело, отвечал с улыбкой: «А как же, видел его, жив-здоров твой Торос». И в этот день Мариам места не находила от радости, бегала с детьми, пела, плясала. «Видел Тороса», — объявляла она всем. А женщины квартала подтрунивали над матерью Тороса, мол, Мариам — невестка твоя.
С ранней весны до поздней осени жители одноэтажных глинобитных домов выходили после обеда во двор. Мужчины, в основном мастеровые, тут и там постукивали костяшками нарды или же, устраиваясь на низких скамейках, курили и мирно беседовали о досках на бочку, о политике Турции, о кизиловой водке, о романе «Самвел» и многом другом. Женщины же с какой-либо работой присаживались неподалеку, делились своими горестями и заботами, перешептывались с лукавой улыбкой в глазах, судачили, позабыв о присутствии мужчин, безудержно хохотали, но, спохватившись, тут же притихали. В центре двора с шумом и визгом носились детишки, затевая разные игры, бегали взапуски, падали, разбивая в кровь коленки и носы и, сдерживая плач, продолжали, прихрамывая, играть. Мигран из Полиса включил радиоприемник, его грохот наполнял весь двор, и вскоре тоскливый мугам тихо струился по двору, То ли мугам напоминал западным армянам о брошенном родном очаге, то ли навевал на чужбине воспоминания о далеком детстве или просто брал за душу. «Тише, вы!» — приструнивали они вошедших в азарт игроков в нарды и, склонив набок головы, уходили в себя, тосковали. Солнце постепенно багровело, повисая над двором, сверкал на крыше зеленый кувшин Еран, под тихим ветром плясали языки пламени разведенного у стены очага, выскальзывали из-под огромного медного котла, и в котле закипал, клокотал алый томат…
И вдруг наступало радостное оживление — во двор выходила полоумная Мариам. Все: и малыши и почтенные старцы, — знали полоумную Мариам, с большими синими глазами, с детской улыбкой, разлитой по всему лицу, с длинными ногами и гибким станом, С тугими грудями, выступающими из-под тонкого ситцевого платья, с небрежно разбросанными по плечам черными роскошными волосами…
Красива была Мариам. Бросив игры и работу, прервав беседу на полуслове, ее окликали со всех сторон, подзывали к себе. Мариам выслушивала их, отворачивалась с ужимкой и, смеясь, отходила. Полоумная Мариам очень любила маленьких детей. Подходила не спеша к ребенку, опускалась перед ним на корточки.
— Чья ты, моя хорошая? — спрашивала она, осторожно касаясь пальцем подбородка ребенка, и отвечала за него тонким детским голоском: — Модницы Шогик! Ишь ты, на модницу Шогик поглядите-ка!
Двор хохотал. Шогик, раздираемая смехом, подзывала Мариам, и, когда все постепенно затихали, Мариам снова спрашивала:
— А папа твой кто?.. Удод Воскан… — Она искала взглядом отца ребенка, находила: — У-дод!..
Радостью квартала, его улыбкой была эта лишенная отца девушка. Позабыв о горестях и заботах, люди смеялись вместе с ней и, успокоившись, обретя покой… любили полоумную Мариам.
Началась война, мужчин забрали на фронт, но Мариам снова кружила по осиротевшему кварталу и своими наивными шалостями и выходками вызывала скупую улыбку на посуровевших лицах женщин, давно переставших улыбаться от горя и страданий.
— Завидую тебе, Мариам, ни ума, ни горя…
Женщины ошибались — у Мариам было свое горе, — завидев какого-нибудь военного, она бежала за ним, хватала за руку и спрашивала, запыхавшись:
— Ты, часом, Тороса не видал?
Торос был единственным сыном ее соседей, Ареват и охотника Бабкена, — немногословный парень со спокойными глазами и русыми волосами, которого в первый же день войны взяли на фронт. Как ни терзали женщины свою память и воображение, никак не могли понять, почему Мариам из всех отправившихся на фронт мужчин спрашивала только о Торосе.
А военный, коли догадывался, с кем имеет дело, отвечал с улыбкой: «А как же, видел его, жив-здоров твой Торос». И в этот день Мариам места не находила от радости, бегала с детьми, пела, плясала. «Видел Тороса», — объявляла она всем. А женщины квартала подтрунивали над матерью Тороса, мол, Мариам — невестка твоя.
* * *
Когда эти мальчишки, неугомонно носившиеся по двору, игравшие в прятки, успели бросить школу, стать мужчинами с черным пушком над губой, с пошлыми татуировками на теле, со своими уличными законами, безудержным желанием называться «вором»? Пропадали группами, забивались в укромные уголки, самозабвенно хлопая по коленям, играли в кости на деньги, кружили на черном рынке, залезали в чужие карманы или же налетали на продавца, сбивали с ног и удирали с мангалом, на котором с шипением жарился шашлык из подозрительного мяса. А попадали в милицию — следствие да суд, вчерашний малец назывался обвиняемым и, безразличный к слезам и причитаниям матери, гордо выслушивал свой приговор. Когда это они успели забыть своих отцов, которые как братья любили Мариам, когда они увидели в Мариам женщину и сладостная дрожь пронзила их тело?.. В полдень на опустевшем дворе они собирались группой возле устроившейся под стеной Мариам. — Видели Тороса, — говорил один из них, бросая похотливый взгляд на ее грудь. Мариам радостно кивала головой, а они не отводили жадных глаз от ее груди, глухо стонали и, хлопая друг друга по плечу и спине, дико ржали. — Ты не голодная, Мариам? Мариам энергично кивала головой и с надеждой смотрела на них. — Ступай-ка принеси хлеба, — бросал сквозь зубы самый авторитетный из них. О скольких головах был тот, кто пошел и стянул из дому дневной паек хлеба? — Ты ешь, а я положу голову вот сюда. Ладно? — И грязный черный палец касался груди Мариам. Хлеб делили меж собой, по очереди давали Мариам и тихо млели, прислонив головы к ее груди. Мариам жадно ела хлеб, обнимала рукой голову, медленно качалась. Она же знала их детьми, может, ей казалось, что они все те же малыши. Увидела это как-то одна из женщин, рассказала другим, весть шепотком из уст в уста закружила по всему кварталу — и вдруг… Был душный, безветренный вечер, дым от каучукового завода медленно стлался над городом, трудно было дышать, то здесь, то там мигали первые огни. — Прибери-ка свою дочку к рукам! — крикнула Сатик матери Мариам, Шушик. — Ребятам головы заморочила. Во дворе на минуту воцарилась тишина. Только слышалось жалобное поскуливание черненького щенка. Женщины, будто сговорившись, встали и, готовые к драке, посмотрели на мать Мариам. — А в чем она провинилась? — Ей лучше знать, — повысила голос Сатик и, тыча пальцем в стоявшую рядом с матерью Мариам, обратилась к другим: — Поглядите-ка на ее щеки, люди добрые. Ишь какой румянец нагуляла. А спрашивается, чей она хлеб жрет, шлюха? — Что ты сделала? — спросила Шушик, схватив дочку за руку. — Жрет наш хлеб, распутничает с нашими детьми, — неожиданно крикнула стоявшая у окна Агун. — Вот что она делает. — Да потише ты, стыд-то какой… — Портит наших детей — это не стыдно? Днями хлеба не видим — не стыдно? Агун неловко выпрыгнула из окна своего одноэтажного дома во двор, скривилась от боли, потерла ногу и закричала: — Потаскуха! Разъяренные женщины, видно, только этого и ждали — они кричали, перебивая и не слыша друг друга, постепенно приближаясь к Мариам и ее матери. Мать, схватив дрожащую от страха дочь за руку, попятилась назад и уперлась в стену, беспомощно застыв на месте. Двор был невелик. Все, что говорилось во дворе, было слышно в домах, громкое слово, произнесенное дома, слышалось во дворе. И кто сейчас в этот шум и гам мог остаться дома? Старики, дети — все высыпали во двор. Женщины визжа смыкали круг. — Отрывает кусок хлеба у моих сирот. — Прикинулась полоумной — хлеб наш жрет! — Кровью и потом зарабатываю этот хлеб, — раздирая глотку, орала Агун. — Ночи не сплю! Агун протянула руку, чтобы схватить Мариам за волосы, мать заслонила дочь, встала перед ней. — Не трожь! И вдруг раздался глухой вой, следом грянул выстрел. Когда охваченные ужасом женщины пришли в себя, они увидели стоявшего во дворе отца Тороса. Двуствольное охотничье ружье все еще дымилось в его руках, и дым кружился в полоске света, падавшего из окна Агун. Бабкен побрел нетвердым шагом к женщинам, волоча за собой ружье. Женщины с визгом разбежались по сторонам и снова притихли. Бабкен не спеша подошел к Мариам положил руку ей на плечо и сказал срывающимся голосом: — Убью, ежели кто притронется к ее волоску, — и оглядел свинцовым взглядом женщин. — Убью!.. Его грудь тревожно вздымалась, воздух со свистом вырывался из легких. — Бабкен, — окликнул его инвалид Саак. — Бабы же! — Погоди. Вашим щенкам скажете — ежели кто хоть пальцем притронется к Мариам, кровь пролью! — Совести у вас нет, — закрыв лицо руками, застонала мать Мариам. — Совести нет. Никто ей не ответил. Женщины мрачно, со злобой глядели на Мариам и молчали.* * *
Повестку на фронт первым из ребят двора получил сын Агун — Маис. Скольких ребят успел заразить игрой на деньги, увлечь воровством этот бросивший школу дошлый картежник. Он был несчастьем квартала, его злом и наказанием. Когда остриженный наголо он в задумчивости остановился во дворе, все сразу поняли, что этот «треклятый Маис» был всего-навсего мальчишкой. Женщины квартала, забыв о своих проклятиях и его сварливой матери, даже прослезились. — Погляди-ка на него, — показывая рукой на сына, со слезой в голосе крикнула Агун, — будто стриженый ягненок. Маис исподлобья глянул на мать, промолчал, уселся под навесом сапожника Воскана. Ребятишки квартала молча пристроились рядом с ним. Будто и им пришла повестка; понурив головы, они краем глаза смотрели на Маиса и молчали. Был летний полдень. На небе ветер то скучивал облака, то разгонял их, двор то темнел, то озарялся солнцем. Молоденький петух Сопо, которого она обещала принести вжертву, рылся в мусоре: он то тускнел, теряя все краски, то отливал золотом. Чуть поодаль, заглушая шум обмелевшего Гетара, мельница с грохотом поглощала муку. В центре двора Сирарпи помешивала палкой кипящее белье в огромном котле, обмазанном глиной. Дым очага разозлил Агун, она вытерла глаза и крикнула: — Сердце кровью обливается, а ты тут еще напустила дыму. Хоть бы кто из вас пожалел — без отца ведь растила… — Не ты одна, — проворчала Сирарпи. — Помалкивай, не то сейчас этот котел на твою голову опрокину. — И Агун обратилась к остальным: — Хоть бы меня вместо него взяли на фронт. Ведь совсем еще дитя. На их голоса Мариам высунулась из окна. — На фронт идешь, Маис? — Да, полоумная дура, — сказала Агун, — теперь посмотрим, чей хлеб жрать будешь. — Заткнись, — прикрикнул на мать Маис. — Ежели увидишь Тороса, Маис, скажешь, что я… — Как же, увидит, — не обращая внимания на окрик сына, бросила Агун. Она хотела еще что-то сказать, но Маис встал и, сжав кулаки, заорал: — Сказал ведь, замолчи, — и, сердито сверкнув черными глазами, вышел со двора. — Ты куда? — крикнула вслед сыну Агун, — хоть бы сегодня посидел дома, бессовестный. В этот вечер три души исчезли со двора — Мариам, Маис да молоденький петух Сопо, которого она обещала принести в жертву святой богородице. В этот вечер сторож мельницы увидел на берегу Гетара под тополями трепещущий костер, стриженого парня и девушку с распущенными волосами, которые, сидя возле костра, не сводили глаз с дымящегося котла. Молния разорвала черноту ночи, выхватив на миг из мрака зенитную пушку над мельницей с часовым на вышке, стремительные верхушки тополей и стоящий неподалеку товарный вагон. — Не бойся, — прошептал Маис, осторожно коснувшись рукой плеча Мариам. — Холодно тебе? — его голос дрожал. — Сейчас поедим курицу… Мариам не отвела плеча, Маис прижался к нему, и голос его задрожал еще сильнее. — Завтра еду на фронт. — Торос… — сказала Мариам. Загремел гром, ветер подхватил, поднял в воздух разбросанные у костра перья. — Мариам… Я же завтра на фронт иду, — дрогнул голос Маиса. — Тебя могут убить? — Могут… — Как Седрака? — Да… — Жалко тебя, — Мариам погладила его по стриженой голове… В этот вечер еще долго слышались во дворе проклятия Сопо вслед тому, кто украл ее петуха… Позже, под навесом Воскана, сверкая в темноте глазами, Маис сообщил ребятам, что стал мужчиной. — Как же она пошла? — Сказал, пошли, курицу поедим. — Под тополями? — Ага. — А как она согласилась? — Сказал, утром мне на фронт. Утром Маис ушел на фронт. Мать так и не поняла, кого искал во дворе мрачный взгляд сына. Затем пришли повестки Вардану, Роланду, Грише, Алеку, из соседнего двора — Сергею, Геворгу, Завену. В темноте, под навесом Воскана, слышался возбужденный шепот ребят. Каждый раз рассказчику задавали один и тот же вопрос: — А как же она пошла? И тот же ответ: — Сказал, утром мне на фронт. Никто так и не узнал, кто из них врал, а кто говорил правду.* * *
В ноябре жители квартала поняли, что Мариам беременна. Выпятив живот, она кружила по двору, изредка дурачилась, но чаще мучилась с немой болью в глазах: тяжело переносила беременность. — Пусть ослепнет тот, кто причинил ей горе, — проклинала тетушка Агавни. — Чтоб не вернуться ему с фронта… — Ой, не говори так. Человек с умом отродясь не сделал бы такого. — Пусть околеет тот, кто с умом сделал это, и тот, кто без ума, — не оставалась в долгу тетушка Агавни. — Говорят, спросили ее от кого, сказала — от Тороса… — Чего? Чего? — фыркнула Сирарпи. — Как же, от Тороса! Торос-то когда на фронт пошел? Это дело ваших сопляков. Воцарилось молчание. Под ступеньками взвизгнул закутанный в тряпки щенок. — Мой ни в жизнь не сделал бы такого, — наконец нарушила молчание Сатик. — Что бы ни сказали — поверила бы, но этого — ни в жизнь. — Сказала и глянула на Агун. — Чего уставилась-то? — Не знаю… — усмехнулась Сатик. — А что, запрещается? — Я тебя насквозь вижу. — Агун лениво зевнула. — Так знай же, мне наплевать на то, что ты думаешь. Был холодный вечер. Женщины, зябко поеживаясь, стояли у подъезда, скрестив руки на груди. Чувствовалось, что никто не намерен затевать ссоры. — Пусть ослепнут глаза ее матери, — сказала Сирарпи. — Мало ей того что полоумная дочь на шее сидит, а теперь еще ребенок?.. Как ж она прокормит-то их? — Ежели сердце твое так болит за нее, возьми ребенка себе, — сказала мать Роланда Шармах. — Одна, как сыч, среди четырех стен. — Сколько это вас таких шибко умных у вашей матушки? Ваш внук, вы и растите… Снова наступило тягостное молчание. Никто не откликнулся на слово «внук», все молча разошлись по домам.* * *
В апреле сорок третьего года Мариам родила. Родила мальчика, назвала Торосом и скончалась на второй день от заражения крови. Шушик не привезла тело дочери домой. Сослуживцы из типографии, охотник Бабкен, Сирарпи и еще несколько соседей собрались в больничном дворе, молча, без музыки, зашагали за некрашеным гробом, похоронили Мариам и вернулись с кладбища. Темнело. В маленькой комнате мигало пламя свечи. Уложили Шушик на тахту, молча сели рядом. Во дворе было тихо. Даже дети забросили свои игры. Собравшись под навесом сапожника Воскана, они смотрели на окна второго этажа, перешептывались и снова замолкали. Ветер зашуршал листвой тополя, в маленькой комнате заплясало пламя вставленной в стакан свечи. Сирарпи встала, вышла на цыпочках, вернулась с небольшой миской, поставила ее на стол и тихо сказала: — Обед подогрела. Поела бы немного. — Сестрица Шушик, — откашлявшись, сказал охотник Бабкен. — Не дело это… Шушик молчала, вперив взгляд в потолок. — Целый день и звука не издала, — сокрушенно добавила одна из сослуживиц. — Хоть бы поплакала — на душе полегчало бы. — Сестрица Шушик, — тронул за плечо Шушик охотник Бабкен, — себя не жалеешь, хоть внука пожалей. Не дай бог, если с тобой что случится, кто же за ним смотреть станет? — Да какой еще там внук, — бросила другая сослуживица, женщина лет сорока с накрашенными губами и с завитыми волосами. — Ей сейчас только грудного младенца не хватает… Бабкен хмуро глянул на женщину и умолк. — Хоть бы поела немного, — снова пробубнила Сирарпи, но никто не обратил внимания на ее слова. Сослуживцы Шушик, видно, уже решили вопрос ребенка. — Верно говорит Варсик, — вздохнув, бросила другая сослуживица, краем глаза глянув на Шушик. — Разве сейчас легко смотреть за ребенком? Как она его прокормит-то, да и чем?.. Да разве только это? Постирать, искупать, а бессонные ночи?.. Нет, — покачала она седой головой, — ума не приложу… — Вот-вот, — оживилась женщина с накрашенными губами. — Скольких вот знаю. Родили, сами живы-здоровы, а дите отдали в детдом. Думаете, у них не болело сердце?.. Время такое, ничего не поделаешь… Охотник Бабкен свернул самокрутку, поднялся, прикурил от свечи. Мужчина с лысой головой, хромой на обе ноги, который молча кивал, соглашаясь с сослуживцами, глянул на него и не выдержал: — Дай и мне закурить, братец… — Я, конечно, не говорю, чтобы она отказалась от ребенка, — продолжила седая женщина. — Пусть отдаст в детдом, ребенок подрастет, дай бог, раздавят голову этой черной гадине, тогда захочет — возьмет, а нет — ребенок не останется без присмотра… — Вот, к примеру, я, — прервала ее женщина с накрашенными губами. — Она же знает, я круглая сирота, потеряла родителей во время резни. Выросла в детдоме. Не пропала ведь? Шушик молчала, отрешенно глядя в потолок. — За ней самой нужен присмотр. — Седая женщина погладила по голове Шушик. — Кожа да кости. — Вот-вот, — сказала Сирарпи. — Поди два дня и маковой росинки во рту не было. Хоть бы поела немного. — При нас она не станет есть. Уйдем — поест. Сейчас самое главное — ребенок. Не сегодня завтра этот вопрос надо решить. — А чего решать-то, — вмешалась накрашенная. — Все решено. Другого выхода нет, надо отдать в детдом — и никаких гвоздей. Наступило молчание. Только слышалось, как тяжело дышит охотник Бабкен. Под ветром снова заплясало пламя свечи, казалось, вот-вот погаснет. На стене столкнулись тени, но пламя выпрямилось, свеча затрещала. — А сами бы так сделали? — вдруг вскрикнула Шушик и, закрыв руками лицо, безудержно заплакала.* * *
Маленького Тороса двор стал называть Торосиком. Это был веселый, приветливый ребенок, с белокурыми волосами. Стоило поманить его, и он тут же с веселым визгом, раскинув ручонки, бросался в объятия. Во дворе не было маленьких детей, стоило Торосику выйти во двор, его вырывали из рук, водили по домам и, несмотря на голод и лишения, совали то кусочек хлеба, то несколько изюминок и пшат, то кусочек сахара. Понимали ли они, что этот мальчонка с солнцем в глазах отогрел их, напомнил о позабытом тепле и как солнечный луч озарил их двор. Сердца женщин, истосковавшихся по своим ушедшим на фронт родным, томились и по младенцу: позабыв о невзгодах и горе, они тискали мальчонку и радовались, как дети. Каждое слово Торосика было для них как первая весенняя почка, они будто впервые слышали лепет малыша. И только те женщины квартала, которые в глубине души думали, что они могли быть его бабушкой, сторонились Торосика. Может, они чувствовали себя виноватыми, а может, Шушик не обращала на них внимания? Они лишь издали глядели на Торосика и старались не говорить о нем.* * *
В один из солнечный весенних дней во дворе раздался истошный вопль. Мать Маиса Агун с расширенными от ужаса глазами кинулась во двор и, царапая лицо, вырывая волосы, завыла. Соседки тут же сбежались на крик, окружили ее, но поняв все, отошли и заплакали. — Кто проклял тебя, Маис-джан, кто проклял? — царапая лицо, причитала мать. — Умереть мне за твое могущество, господи, — прошептала стоявшая в окне тетушка Агавни и перекрестилась. — Ведь две недели назад письмо получила… Писал, мам-джан, уже мало осталось! Издали донесся сиплый гудок, возвещавший о перерыве на мельнице. Маляр Айро, скрипя костылями, подошел к Агун, тронул за плечо: — Ступай домой, Агун. Ступай. — Не пойду, сердце разрывается. Сейчас сестры его вернутся из школы, что я им скажу? Что отвечу? — А что ты можешь сказать, ослепли б твои глаза, — проворчал Айро и, в отчаянии махнув рукой, отошел, скрипя костылями, облокотился о столб навеса Воскана и свернул цигарку. Был пожар или пожарник Цолак просигналил, как обычно, своей полюбовнице Нвард, — душераздирающий вой пожарной машины заглушил все голоса, и, когда он наконец утих где-то около вокзала, послышался голос Агун: — Писал он, мам-джан, я поумнел, я уже не тот Маис… В этот день в квартале раздались еще два крика — своего погибшего на фронте сына Алека оплакивала дворничиха Пируз и из дома напротив — мать Роланда Шармах. — Бои все разгораются, — выставляя палец, сказал маляр Айро скрючившемуся около керосиновой лампы охотнику Бабкену. — Три похоронки за день… Гибель сыновей сблизила матерей. Раньше они едва здоровались друг с другом. А нынче, повязав черные платки, они собирались у порога одной из них и, крутя веретено или чиня одежду, мирно беседовали. Лица их были мрачные и серьезные, и, когда они рассказывали придуманные и непридуманные истории о своих сыновьях, охам и ахам не было конца, поэтому квартал назвал их «совами». «Совы» имели общую тайну, которую тщательно скрывали от себя же самих: стоило Торосику появиться во дворе, как, прервав беседу на полуслове, каждая из них приглядывалась к нему, стараясь найти в нем сходство со своим сыном. И находила. Первой не выдержала мать Роланда. — Ох, бабы, этот малец больно на моего Роланда смахивает, — сказала она, посмотрела на Торосика, сидевшего на корточках под тополем, и улыбнулась ему со слезами на глазах. Был тихий летний вечер. Младший сын Шармах, Ерджо, выпустил своих голубей и бегал по крыше взад и вперед, размахивая руками, не давая им сесть. В другое время мать обругала бы его, осыпала проклятиями, но сейчас не обратила на него внимания. — На Роланда? — задумчиво бросила Агун, помолчала и, не отрывая глаз от Торосика, сказала: — Нет. Сколько времени все думаю и не говорю — вылитый Маис. — Маис? Да ты что? Маис твой давно на фронте был, когда он родился. — Как? — обозлилась Агун. — Маиса разве не в октябре забрали на фронт? Ну, а теперь считай… Посчитали и решили, что Торосик мог быть и от Маиса. — А я об чем, — торжествуя, бросила Агун, отложила в сторонку шитье, направилась к малышу, присела на корточки и ущипнула его за щечку. — Гу-гу-гу… Ребенок заревел. — Чего ребенка обижаешь? — набросилась на нее Шармах. — Тебе до него дела нет. С улицы донесся шум, ругательства. Мальчишки вспороли лезвием мешок, набитый скороспелыми яблоками, который старик нес на рынок, налетели с четырех сторон, подбирая рассыпанные на земле яблоки. — Ежели по правде, ни тебе до него дела нет, ни ей, — хлопая красными глазами, бросила Лусо с соседнего двора. Она глянула на мальчишек, которые стремительно пронеслись по двору, крепко прижав к груди яблоки, и продолжила: — Перед тем как уехать на фронт, мой Баграт завел шуры-муры с этой Мариам. — Это не пацаны Арпик? — спросила о мальчишках Шармах, но ей никто не ответил. — Фи… — презрительно фыркнула сидевшая на корточках Агун. — Твой Баграт… Этот мозглявый-то! Соплей ведь перешибешь. — Это твой был мозглявый! — Лусо поднялась, готовая к драке. — Вы на него так не глядите, в тихом омуте черти водятся… — Почем я знаю, — скрестила руки на груди мать Гамлета Ребекка. — Может, и от моего Гамлета. — А ты чего языком мелешь? — неожиданно набросилась на нее Шармах. — Чего всюду нос суешь? Бухгалтер мехзавода Левон, хромая, подошел к занавешенному и днем и ночью окну, прислушался к разговору женщин, отошел, отточил карандаш, подвинул поближе лампу и стал подделывать номер карточки. Он вошел в сделку с продавцами керосина и продавал им фальшивые карточки за полцены. — А я что, лишенка? — обиделась Ребекка. — Или тебе мне рот затыкать? Вскоре весть закружила по двору — «совы» чуть не растерзали друг друга из-за Торосика.* * *
Бабка искупала Торосика, уложила спать, управилась со всеми домашними делами и, не раздеваясь, скрючилась на кровати в ожидании, пока затихнут голоса во дворе, чтобы вылить во двор помои, как в дверь постучали. Был поздний осенний вечер. Ветер шелестел листьями глядевшего в окно тополя, и тень его то покачивалась на стене комнаты, то исчезала. В дверь постучали. Шушик встала, подняла фитиль керосиновой лампы. — Кто там? — Это я, сестрица Шушик… Нет, Шушик не узнала голоса. Она оцепенела на минуту, затем подошла, осторожно открыла дверь. В дверях, с маленьким пакетом в руках, стояла Агун и грустно улыбалась. — Добрый вечер… Шушик не ответила. Взяла помойное ведро, которое торжественно торчало в центре комнаты, сердито задвинула его в угол. Соседка медленно прошла вперед, положила пакет на краешек стола и застыла. — Чего пришла? — Я вылью ведро, — прошептала Агун. Шушик враждебно оглядела ее с ног до головы, взяла ведро, вышла. Агун огляделась. Она слышала, что Шушик продает свои вещи, но такого увидеть не ожидала: две кровати, стол, два стула, керосинка с кастрюлей. Она нагнулась и увидела под одной кроватью фанерный чемодан, а под другой — корыто. Когда Шушик вошла в комнату, Агун стояла у изголовья Торосика и, покачиваясь, тихо плакала. — Что надо? Зачем пришла? — сердито спросила Шушик. Агун вздрогнула. — Не знаю даже, как начать. — Заучила бы дома свою речь, тогда и тащилась бы. — Мой Маис… — подбородок Агун задрожал, она поднесла платок к глазам. — Что Маис? Агун не ответила. Всхлипнула, протянув руку в сторону спящего ребенка. В ночной тишине слышалось прерывистое дыхание Агун. На столе, монотонно гудя, горела керосиновая лампа. — Целый год не могу оторвать глаз от ребенка. — Давай покороче. Агун склонилась над ребенком; то ли хотела поцеловать его, то ли лучше разглядеть. — Куколка ты моя. — Не смей, — прошипела Шушик. Соседка выпрямилась, застыла. — Мало мне горя, теперь вот вы! — крикнула вдруг Шушик. — Пока беременная ходила, пока грудным был, всем вам начхать было… А теперь решили признать?.. Торосик проснулся от крика бабушки, сел, съежившись в постели. Готовый зареветь, он испуганно глядел то на бабушку, то на Агун. Мотылек ударился о стекло лампы, упал, оставив на стекле золотистую пыль. — Виновата я, — сказала Агун. — Давай поговорим спокойно, поймем друг друга. — А чего понимать-то? — снова крикнула Шушик. — Маиса твоего убили, потому притащилась… Ишь какая нашлась, уже вторая «сова» заявляется… — Кто еще приходил? — разозлилась, покраснела Агун. — А другим-то какое дело? Шушик не ответила. Она оттолкнула соседку, поправила на внуке одеяльце и тихо сказала: — Никому до него дела нет. Убирайся-ка отсюда и скажи всем, кто еще раз осмелится появиться здесь, ноги переломаю.* * *
Отблеск салюта в честь великой Победы постепенно угасал в памяти людей, радость и горе медленно отступали, уступая место повседневным заботам: кому суждено было вернуться с фронта — вернулся уже, а кто не вернулся — становился воспоминанием. Двор жил своей обычной жизнью. По вечеру Петрос, как обычно, вышел из дома со свертком самодельных папирос, кивком поздоровался с соседями и зашагал к привокзальной площади. Шармах и Сопо повздорили друг с другом: обеим хотелось повесить белье на протянутой вдоль двора проволоке. Сапожник Воскан, позвякивая медалями, попробовал одной рукой подтянуться на турнике, не смог, заболтал в воздухе ногами и, спрыгнув, шлепнул тихонько по шее хихикавшего рядом мальчугана. — Чего пасть разинул? День постепенно угасал. В горах, наверное, шел дождь — во дворе слышался шум Гетара. Сидевшие неподалеку охотник Бабкен и маляр Айро, подтрунивая друг над другом, играли в нарды. В центре двора, запустив высоко воздушных змеев, бегали дети, быстро разматывая катушки, стараясь поднять своего змея выше других. У подъезда стояла дочь Шогик и, не переставая, дула в привезенную отцом флейту, раздражая Миграна, из Полиса, припавшего ухом к приемнику, из которого лился тоскливый мугам. Сапожник Воскан снова попытался повиснуть на турнике, когда заметил мужчину и женщину в военной форме, которые несмело вошли во двор. Они держали в руках рюкзаки. — Кто это может быть? — сказал Воскан, и вдруг раздался крик Шармах: — Да это же Торос, Торос! Охотник Бабкен не сразу понял. Сына уже обступили соседи, обнимали и целовали, сын Левона успел сбегать к продовольственному магазину, чтобы поздравить мать Тороса, когда Бабкен вдруг все понял. Он с такой силой оттолкнул нарды, что костяшки посыпались на землю, и с криком бросился к сыну. На стоявшую неподалеку женщину в военной форме никто не обращал внимания. Весь двор всполошился: окликали друг друга, свешивались с окон, выбегали из дома, и Торос переходил из одних объятий в другие. Когда затих первый взрыв радости, Бабкен снова оглядел сына. — Куда ты запропостился, сынок? Извелись ожидаючи. Торос не ответил ему. Отыскал в толпе женщину в военной форме и сказал: — Моя жена. Отец глянул на женщину с русыми волосами, выбившимися из-под пилотки, и протянул руки. — Умереть мне за тебя и за твою жену, — он подошел, шумно чмокнул невестку. Невестка, зардевшись от смущения, не поднимала глаз. — Что за день, господи, — воскликнул Бабкен. — Сразу два огонька зажглись в моем доме… — Маиса моего убили, — схватила руку Тороса Агун. — Слышал? — Торос привез с собой жену, — сообщали соседи друг другу. — Откуда она родом? — Почем знаю. Может, русская, может, француженка, а может, из самой Чехословакии. Он же в тех краях воевал. — Домой зайдем, соседи, — крикнул Бабкен. Уже стемнело. Запутавшийся в проводах змей вздрагивал от ветра, играя хвостом в снопе света, падавшего из окна Миграна. Шофер Сако с грохотом въехал на своем грузовике во двор, заглушив на минуту все голоса, отъехал в сторону, осветив фарами обступивших Тороса соседей, и, ничего не поняв, спросил: — Что это еще такое? — Домой зайдем, — снова позвал Бабкен. — Нет, — качнул головой Торос. — Как это нет? Торос открыл рюкзак, вытащил бутылку с водкой и алюминиевую кружку. — Поклялся я, отец. Должен выпить во дворе, Маша моя сыграет, а я станцую. Когда Шушик, держа внука за руку, ступила во двор, пир стоял горой. Соседи принесли из дома что могли, разложили все на скамейке и, передавая друг другу стаканы, пили; жена Тороса усердно растягивала мехи старой гармонии, а в центре Торос, Воскан, Аршак, Сако неумело отплясывали гопак. — Торос вернулся, — объяснили Шушик. Шушик, отпустив руку внука, бросилась к Торосу и обняла его, смеясь и плача. — Торос-джан, сыночек, — повторяла она и целовала его. И вдруг все вздрогнули от крика ребенка: — Папочка! — Торосик обнял Тороса за ноги и снова жалобно позвал: — Папочка! Гармонь замолкла. Постепенно затихли голоса во дворе. И только слышался шум Гетара. 1972ФЕВРАЛЬ
Перевод Ю. Баласяна
 Ни свет ни заря возле единственного в квартале хлебного магазина на длинной скамье, поставленной впритык к стволу одинокой ивы, один за другим усаживались мужчины. Это были старики; заняв очередь, они медленно перебирали четки, курили, захлебывались дымом и, откашлявшись, продолжали нескладный свой разговор про войну и дороговизну хлеба, про похоронки. Женщины, стоявшие в очереди, — кто с вязаньем, кто с веретенцем, кто с грудным малышом на руках — тоже говорили между собой про войну, про похоронки, про дороговизну…
Потом, в начале осени, в очереди за хлебом появился первый раненый — сапожник Воскан. Он подошел, опираясь на палку, поздоровался кивком головы, проковылял мимо очереди и стал у входа в магазин.
— Ты бы присел.
— Постою, — сказал Воскан.
— Если постоишь, значит, нога не болит, — сказали со скамьи. — Иди постой в очереди…
Потом появились и другие раненые: Оник — с висевшей на перевязи рукой, Ваграм — ходивший на костылях.
Старики сидели на своей скамье и, поеживаясь от утреннего холода, молча курили. Ветер раскачивал ветви ивы, и пожелтевшие листья падали им на головы и плечи. Откуда-то доносился неутешный ребячий плач. Пронзительный голос ребенка приглушал чириканье воробьев.
Петрос сидел, упершись локтями в колени, иногда опускал то левую руку, то правую и потирал ревматическую ногу.
Извещение о гибели сына Петрос получил неделю назад. Потрясенный «черной бумагой», он проплакал тогда весь день и всю ночь. Плакал не унимаясь и внук Азрик, этот непутевый мальчишка, ставший для всей школы и для всего квартала «сущим наказанием». А на следующий день они успокоились, и внук Азрик опять не послушался деда — не пошел в школу. И тогда в воображении Петроса, откуда ни возьмись, вдруг возникло нечто более ужасное, чем даже извещение о смерти Торгома, — два призрака.
Это были дед и отец, оба обросшие седой щетиной. И оба они твердили: «Петрос, немец убил Торгома, ты одной ногой в могиле, внуку Азрику шестнадцать лет, через год ему в армию. А если он тоже будет убит?.. Неужто наш род исчезнет с лица земли, Петрос?..»
Всякий раз, когда дед и отец представали перед его глазами, Петрос говорил: «Потерпите, что-нибудь да придумаем». И он думал…
Сегодня ночью Петрос проснулся от боли в большом пальце ноги. Встал, испек одну луковицу, наложил ее на палец, снова лег на тахту и только закрыл глаза — отец и дед явились. И он им сказал: «Чего вы пристали к бедной моей душе? Наберитесь терпения, дайте умом пораскинуть».
Но дед и отец то и дело неожиданно окликали его: «Петрос!..»
— Пока Торгом был жив, они не показывались… — заговорил сам с собой Петрос.
Старик, сидевший рядом, услышал шепот Петроса, толкнул его локтем. Петрос не почувствовал, еще какое-то время просидел неподвижно, безучастно, потом обеими руками закрыл глаза и деду своему и своему отцу сказал: «Азрика женю. Другого выхода нет».
И когда дед и отец наконец исчезли, а Петрос, облегченно вздохнув, открыл глаза, было то же мглистое осеннее утро и сапожник Воскан, угрожающе размахивая палкой, кричал:
— Я первый раненый нашего квартала!..
Ни свет ни заря возле единственного в квартале хлебного магазина на длинной скамье, поставленной впритык к стволу одинокой ивы, один за другим усаживались мужчины. Это были старики; заняв очередь, они медленно перебирали четки, курили, захлебывались дымом и, откашлявшись, продолжали нескладный свой разговор про войну и дороговизну хлеба, про похоронки. Женщины, стоявшие в очереди, — кто с вязаньем, кто с веретенцем, кто с грудным малышом на руках — тоже говорили между собой про войну, про похоронки, про дороговизну…
Потом, в начале осени, в очереди за хлебом появился первый раненый — сапожник Воскан. Он подошел, опираясь на палку, поздоровался кивком головы, проковылял мимо очереди и стал у входа в магазин.
— Ты бы присел.
— Постою, — сказал Воскан.
— Если постоишь, значит, нога не болит, — сказали со скамьи. — Иди постой в очереди…
Потом появились и другие раненые: Оник — с висевшей на перевязи рукой, Ваграм — ходивший на костылях.
Старики сидели на своей скамье и, поеживаясь от утреннего холода, молча курили. Ветер раскачивал ветви ивы, и пожелтевшие листья падали им на головы и плечи. Откуда-то доносился неутешный ребячий плач. Пронзительный голос ребенка приглушал чириканье воробьев.
Петрос сидел, упершись локтями в колени, иногда опускал то левую руку, то правую и потирал ревматическую ногу.
Извещение о гибели сына Петрос получил неделю назад. Потрясенный «черной бумагой», он проплакал тогда весь день и всю ночь. Плакал не унимаясь и внук Азрик, этот непутевый мальчишка, ставший для всей школы и для всего квартала «сущим наказанием». А на следующий день они успокоились, и внук Азрик опять не послушался деда — не пошел в школу. И тогда в воображении Петроса, откуда ни возьмись, вдруг возникло нечто более ужасное, чем даже извещение о смерти Торгома, — два призрака.
Это были дед и отец, оба обросшие седой щетиной. И оба они твердили: «Петрос, немец убил Торгома, ты одной ногой в могиле, внуку Азрику шестнадцать лет, через год ему в армию. А если он тоже будет убит?.. Неужто наш род исчезнет с лица земли, Петрос?..»
Всякий раз, когда дед и отец представали перед его глазами, Петрос говорил: «Потерпите, что-нибудь да придумаем». И он думал…
Сегодня ночью Петрос проснулся от боли в большом пальце ноги. Встал, испек одну луковицу, наложил ее на палец, снова лег на тахту и только закрыл глаза — отец и дед явились. И он им сказал: «Чего вы пристали к бедной моей душе? Наберитесь терпения, дайте умом пораскинуть».
Но дед и отец то и дело неожиданно окликали его: «Петрос!..»
— Пока Торгом был жив, они не показывались… — заговорил сам с собой Петрос.
Старик, сидевший рядом, услышал шепот Петроса, толкнул его локтем. Петрос не почувствовал, еще какое-то время просидел неподвижно, безучастно, потом обеими руками закрыл глаза и деду своему и своему отцу сказал: «Азрика женю. Другого выхода нет».
И когда дед и отец наконец исчезли, а Петрос, облегченно вздохнув, открыл глаза, было то же мглистое осеннее утро и сапожник Воскан, угрожающе размахивая палкой, кричал:
— Я первый раненый нашего квартала!..
Свои набивные папиросы Петрос продавал у трамвайной остановки, на углу многолюдной улицы близ черного рынка. Он останавливался недалеко от Мукуча из Ардагана и выкрикивал: — Кому папиросы? Штучные папиросы! Штука рубль! Мукуч из Ардагана постукивал пальцем по черному ящику, водруженному на треногу, и тоже зазывал: — За три рубля вы можете увидеть все чудеса мира!.. Желающие — сюда! Желающие были большей частью дети, которые никогда денег не имели; они только завидовали смотревшим «все чудеса мира» и в десять — пятнадцать голосов выкрикивали вместе с Мукучем: — Базар в Багдаде. Стодвадцатилетний араб курит наргиле… Мукуч повертывал торчащую из ящика металлическую ручку, менял кадр своего недвижущегося фильма и продолжал: — Молодые красавицы Греции!.. — Ах-ах! — всплескивал руками смотревший «чудеса». — Ах-ах!.. — подхватывали ребятишки. Все эти дети знали и помнили, в какой последовательности меняются в черном ящике картинки, хоть ни разу не заглядывали в него, и когда Мукуч бывал не в духе, вместо Мукуча усердствовали они: — Лев Толстой едет на велосипеде!.. — На черте он едет! — обрывал мальчишек Петрос и обращался к Мукучу: — Ты бы делом занимался, а то детвору потешаешь… За что тебе только деньги платят? Папиросы Петрос набивал сам. Табак покупал у Ашхен. Она работала на папиросной фабрике и табак продавала ворованный. Представляя себе Ашхен, он видел лишь ее большие, торчащие груди и полагал, что этот табак она выносила в лифчике. «А взвешивает, стерва, грамм в грамм, словно сама его сеяла и сама собирала». Петрос обычно торговал до позднего вечера, но сегодня он вернулся домой еще в полдень. Не заметив удивленных взглядов рукодельничавших во дворе женщин, он прошел к себе на веранду, немного погодя вышел с табуреткой в руках, поставил ее у стены и сел… Шамрик наклонила маленький бочонок, вылила из него воду, насыпала в ведро пригоршню толченой каменной соли. — Боюсь, соли не хватит, — повернув голову в сторону женщин, сказала Шамрик. — Еще и останется, — отозвалась Србуи, попыталась вдеть нитку в иголку, не смогла. — Эй! — крикнула она сгрудившейся у дровяного сарая детворе. — Проденьте-ка мне нитку. Одна из девочек — с длинными косичками — подбежала к Србуи, продела нитку и пустилась бегом назад. — Он долго не протянет, — покосившись на Петроса, прошептала Србуи. — Наверно, — согласилась Сатик. — Один, как перст, если не считать внука, сорвиголовы. — Идите пробуйте, — позвала Шамрик. — У них в семье, пожалуй, только Торгом и был человеком, — продолжала Сатик; потом она поднялась, сунула палец в рассол, лизнула: — Вкусный!.. — Да? — Србуи взглянула в сторону Петроса. — Ты что-то сказал, брат Петрос? — Девушка-то, говорю, не дочь ли Искуи? — Она самая, да хранит ее бог, нитку вот продела. — Как звать ее? — Маник. — Маник! — хриплым голосом позвал Петрос. Девочка не услышала. — Маник! — громче Петроса позвала Србуи. — Дядя Петрос что-то сказать тебе хочет! Маник оставила своих подружек, подбежала к Петросу. Старик внимательно окинул ее глазами, остановил взгляд на круглившихся под ситцевым платьем грудях. — Сколько тебе лет? — спросил Петрос. — Семнадцать. — Принеси мне стакан воды, Маник… Шамрик вылила рассол в бочонок, подняла корзину с зелеными помидорами, высыпала их в тот же бочонок: — В добрый час! Чтобы Мелкон мой вернулся и поел бы все эти помидоры. — Ах, дай бог, — завздыхали женщины, — дай бог. Маник, расплескивая из эмалированной кружки воду, подошла к Петросу, потупилась. Старик сделал глоток, снова оглядел девушку и вдруг ущипнул ее за щеку. — Молодчина! Хорошая ты девушка… Нравится тебе мой Азрик? Маник не поняла его вопроса, только смутилась. И взяв кружку, побежала к детям.
— Знаю, куришь, — закурив после обеда папиросу, сказал дед внуку. — Откуда знаешь? — Пальцы у тебя желтые. — От зеленых орехов, — сказал внук. — Зеленые орехи — это зимой-то? — улыбнулся Петрос, и внук удивился улыбке деда. Он редко видел его улыбающимся. — Что это у тебя на уме? — Азрик помигал своими зелеными плутоватыми глазами. — Поговорить с тобой хочу. Вечерело. Азрик сидел напротив деда, на краю тахты, и сейчас разглядывал наколотое на днях на указательном пальце кольцо. Помолчав еще некоторое время, Петрос достал из кармана жестяной портсигар, протянул внуку: — Закури. Азрик недоверчиво вынул из портсигара папиросу, зажег ее и с удовольствием затянулся. — Вот это табак! Где прячешь? Старик подвинулся поближе к Азрику, всмотрелся в его лицо. На щеках и над верхней губой внука уже пробивалась растительность. — Ты взрослый парень, — сказал Петрос. — С сегодняшнего дня можешь курить мои папиросы. Утром дам денег, пойдешь побреешься и пострижешься. «Нет, неспроста все это, факт!» — настороженно и зло взглянув на деда, заключил Азрик. В комнате было тихо, только тахта, на которой сидел Азрик, нет-нет да и поскрипывала, и, когда скрип прекращался, слышалось ровное шипение горящей лампы. Дед и внук смотрели друг на друга словно впервые в жизни. Глаза у старика тусклые, запавшие, голова белая, по всему лицу — морщины; а Азрик бледен, худ, с кудрявыми светлыми прядками и с зелеными, подвижными, как ртуть, глазами. — О чем же говорить будем? — наконец спросил Азрик. Петрос откашлялся. — Вот, значит, двое нас осталось — я да ты. — Ну и что? — Через год в армию тебя возьмут. — Возьмут. — После тебя совсем один буду в четырех стенах. — Что поделаешь… Петрос опустил голову. — В школу ходишь? — Иногда хожу. — Из «иногда» ничего не выйдет. Ходи или каждый день, или вовсе не ходи. — Хорошо, школу побоку! На шофера выучусь. — Бог в помощь. Но если пойдешь в армию, трудно мне придется одному, одинокому. — Так я тебе и поверил! Еще и рад будешь, что от меня избавился, — серьезно сказал Азрик. — Тьфу! — возмутился Петрос. — Для кого же я мучаюсь с утра до ночи? — Ладно, выкладывай, что сказать хочешь. — А то сказать хочу, что пора нам с тобой хоть какой-нибудь выход найти. — Выход? В армию так и так возьмут, — зажигая папиросу, сказал Азрик. — Да… — сокрушенно покачал головой Петрос. — Нынче всех берут. — Вот именно… — А нет ли у тебя девушки какой? — полушутя, полусерьезно спросил вдруг Петрос. — Оженю тебя — и, когда уйдешь в армию, бобылем не буду. — Все шутишь, — улыбнулся Азрик. — В мое время как только парню исполнялось шестнадцать, его женили. Даже не спрашивали — хочет он или не хочет… Воля родителей законом была. — Пустой разговор завели. — Азрик поднялся. — Забрать из школы свои бумаги? — Забери… И — женись. И тебя кормить-поить обещаю, и жену твою, а родится ребенок — его тоже. — Да ты что, дед, городишь? — Костюм тебе справлю — шевиотовый, куплю тебе ботинки, какие захочешь, буду деньги давать — расходуй. А сам как хочешь: хочешь — в школу ходи, нет — учись на шофера. — В школу ходить не буду. — Не ходи. — Много у тебя деньжат? — Нам хватит… — Мне нужны деньги, — подойдя к деду, сказал Азрик. — Что?.. — поморщился дед. — Для чего тебе деньги? — Дашь, если узнаешь? Проигрался я. Дашь? — Деньги? — Петрос помрачнел, закурил папиросу, с трудом выговорил: — Сколько? — Семьсот рублей. Петрос потер колено — проклятый ревматизм! — встал, надел не спеша пиджак и снова сел на стул. — Женись. Вернешься из армии — у тебя уже наследничек будет. — Положим, я согласился… Но кто за меня дочь свою выдаст? — Ты только облюбуй кого, об остальном я сам позабочусь. — Мне ни одна не нравится. — А Маник, дочь Искуи, чем плоха? — Маник? — Азрик махнул рукой. — Я ее лупил часто. — Тогда ты маленький был. — Вдобавок она старше меня. — Тем лучше, настоящей хозяйкой будет… Петрос встал, расстегнул пояс, спустил штаны и, вынув из пришитого к кальсонам кармана большую пачку денег, отсчитал семьсот рублей. — Это тебе семьсот, но чтобы впредь ты больше никогда не играл… И вот тебе еще сто: на карманные расходы. Азрик, не веря своим глазам, нагнулся над лежащей на столе пачкой денег, медленно протянул руку, сгреб их в кулак. — Значит, это правда? — Правда. Внук поспешно запихал деньги в карман, но тотчас же вынул их и высыпал на стол из того же кармана несколько медяков, кусок кремня, рогатку. — Детские игрушки, — сказал дед, — выбрось… — И пошел достал из сундука кожаный бумажник, вложил в него папиросы, отдал Азрику: — Много не кури. Проклятый табак дороже золота. Азрик удивленно повертел в руке бумажник и вдруг сказал: — Дед, а дед, ты любишь меня? — Кого же мне любить, как не тебя?! — Петрос положил руку на плечо внука. — Значит, уговорились: сосватаю тебе Маник. Азрик не ответил. Скашивая глаза в сторону деда, он совал деньги в бумажник, вытаскивал и клал в карман, затем снова перекладывал их из кармана в бумажник. Потом дед потушил лампу, и они легли спать. Дед и внук лежали друг против друга, помалкивали. Петрос думал о том, что внук, по-видимому, женится на Маник. «А если пока не согласен, то все равно согласится». Из коридора донесся голос Искуи: она подметала свою часть коридора и выговаривала за что-то Маник. Азрик напряг слух, чтобы услышать Маник, но не услышал ее. Тогда он закрыл глаза и сразу увидел ее и даже почувствовал… Она лежала вместе с ним, в одной с ним постели, большеглазая, тихая, прижавшись щекой к его щеке. И сердце у Азрика зашлось, и по всей его крепкой спине прошла какая-то горячая дрожь.
Сако, муж Искуи, работал шофером. Бывало (обычно летом), после рабочего дня он ни с того ни с сего нанимал трио музыкантов, сажал их в кузов грузовика и под развеселую музыку мчался домой. И когда он с шумом въезжал во двор своего дома, весь квартал, разомлевший от летней жары, сразу оживлялся. Выпрыгнув из кабины, Сако объявлял: — Соседки и соседи, будем пировать! Несите сюда у кого что есть покушать, выпить! Соседки и соседи подхватывали этот клич незамедлительно. Музыканты должны были играть в кузове, чтобы их мог видеть весь двор. Откидывали один борт грузовика, ставили напротив кухонный стол, заваливали его едой, бутылками с вином и принимались есть, пить, веселиться. Сако хлопал в ладоши, широко раскидывая длинные руки; время от времени пропускал стакан вина, вдруг вскакивал с места, забирался в кузов и указательным пальцем делал музыкантам знак остановиться. — Соседки и соседи, — улыбаясь, говорил Сако, — Искуи моя обещает, что на этот раз родит мне сына!.. Туш!.. Музыканты исполняли туш, все хлопали в ладоши и хохотали. Искуи краснела, одной рукой прикрывала рот, другой отмахивалась от мужа: «Эх ты, бродяга!» А сын все не рождался. Вместо него на свет появлялись девочки — вторая, третья, четвертая, пятая… — Дитя есть дитя, — каждый раз как бы в утешение себе говорил Сако. — Но если бог упрямый, то я еще упрямей. Все равно будет у меня сын, и назову я его Зарзандом!.. Вот когда мы попируем! Никто не сомневался, что пир он закатит славный. Теперь Сако писал: «Искуи-джан, скоро с немцем покончим, и я вернусь домой, а ты готовься, чтобы родить мне сына…» — Эх! — сокрушенно вздыхала иссохшая, истомленная Искуи. — Даже война не научила этого человека уму-разуму.
Когда Петрос, открыв незапертую дверь, переступил через порог, Искуи от удивления даже не пошевелилась. Петрос, даром что столько лет был близким ее соседом, никогда к Искуи не заходил. В комнате было холодно, в углу стояла жестяная печь; не истопленная, безжизненная, она делала холод еще более ощутимым. На улице, за оконными стеклами с заклеенными бумагой трещинами, кружились крупные хлопья снега. Все свои обещания Петрос выполнил: купил внуку туфли, справил костюм, правда не шевиотовый. И теперь Азрик, вернувшись после работы домой, умывался, переодевался и потом тихо, чинно прогуливался по своему кварталу. Соседи удивлялись этой перемене и в то же время были уверены, что он не сегодня завтра сорвется: затеет драку, раскокает чье-нибудь стекло, невзирая на зимнюю стужу. Дела у Петроса шли хорошо. По ночам, пользуясь специальным приспособлением, он набивал гильзы, и если Азрик помогал, то за ночь «вырабатывал» 700–800 папирос. Теперь он торговал на привокзальной площади. Здесь было еще многолюднее, и торговля шла бойче. — Здравствуй, — сказал Петрос. Искуи не поняла: не то он улыбнулся, не то у него щеки чуть дернулись кверху. — Здравствуй… — Искуи с опущенными в корыто руками не отводила от Петроса застывших в недоумении глаз. Петрос прошел вперед, придвинул к себе стул, сел и вытащил из кармана портсигар. Искуи разогнулась, вытерла передником руки. От рук поднимался парок. — Живем дверь в дверь, — заговорил Петрос, — вот и захотелось наведаться, спросить, как вы тут… — Вода у меня остывает, — строго сказала Искуи. — А ты стирай. Искуи нагнулась над корытом, принялась стирать, бросая в сторону Петроса настороженные взгляды. Старик курил, обводил глазами комнату. «Говорили, что у нее хороший ковер на стене. Не видать его что-то». — Ковер продала? — Да. — Искуи на миг остановилась, улыбнулась слабой улыбкой. — За сколько? — За три тысячи. — Дешево продала, ай-яй-яй, — искренне пожалел Петрос. — Были бы дети живы… — Искуи выжала детскую юбчонку, встряхнула ее и повесила на протянутой от угла до угла комнаты тонкой веревке. — Приходят письма от Сако? — Редко. — Где он сейчас? — Не пишет. — И там шофером? — Да. Искуи выжала и хотела было встряхнуть какое-то белье, но постеснялась: вынула из корыта еще одну юбку. — Есть чем печку топить? Говорят, зима нынче лютая будет. — Петрос закинул ногу на ногу, потер колено, бегло взглянул на Искуи. — Не приведи бог. — Искуи выпрямилась, рукой отерла с лица пот. — У тебя пять, а ты одна… — нараспев сказал старик. — Будь они постарше, повыходили бы замуж, полегчало бы тебе. Сколько первой-то твоей? — Семнадцать. С висевшей на веревке стирки монотонно капала вода, слышался звук ударявшихся в пол капель. — Не маленькая. Может и замуж выйти, если кто сосватает. — Выйдет замуж, кто за остальными присматривать будет? — сказала Искуи, подумала и добавила: — Пока Сако на войне, никого я замуж не выдам. — Такое уж положение у тебя, ничего не поделаешь… — Забот у меня и без того по горло… — пожаловалась, горестно вздыхая, Искуи. — Я пришел дочь твою сватать, — подчеркивая каждое слово, сказал Петрос. Искуи медленно распрямила спину, обтерла мыльные руки фартуком, тихо улыбнулась: — За кого сватать? — За Азрика моего. — Мне не до шуток, — после долгой паузы сказала, нахмурившись, Искуи. — Я словами не бросаюсь. — Да и я тоже. Некого мне замуж выдавать. — Человек я тертый… — Петрос встал. — Послушай, что я тебе скажу. — Что же ты скажешь? — Ты Азрика знаешь… А видишь, как он переменился, какой он разумный стал. — Не нужен мне твой Азрик. — По сердцу пришлась ему дочка твоя. — Мало ли что… — А он говорит, внук-то мой: отдадут ее за меня — хорошо, не отдадут — придется похитить. — Ишь ты! — покраснела от возмущения Искуи. — Каков сморчок! Не тот нынче год, чтобы девушек похищать. — Не сморчок он, настоящий мужчина. — Петрос закурил новую папиросу, снова опустился на стул. — А год нынче — сорок второй. — Думаешь, если мир вверх дном перевернулся, то уж ни суда, ни управы на разорителей нет? — Похитит — опозорит, а там пускай судят. Тебе-то что за выгода? — Беззащитная она у меня… — вдруг запричитала Искуи и залилась слезами. — Почему беззащитная? Слава богу, и ты жива-здорова, и Сако жив-невредим. — Если Сако узнает… — Вот и хорошо, если узнает, — подхватил Петрос. — Разве он не обрадуется, когда вернется и увидит, что внук у него растет… Зарзанд? — Старый ты, не могу тебя из дому выставить. Ты сам уйди! — Искуи, помяни мое слово: похитит. — Похитит — поймают, а поймают — по головке не погладят. — То-то и оно!.. — Говоришь, поумнел твой внук, уговори его от дочки отстать. — Ничего из этого не выйдет. — У меня выйдет… — Искуи вытерла фартуком глаза. — Погоди… — Петрос снова подошел к Искуи, схватил ее за руку. — Давай пораздумаем, может, парень все же умно рассудил. — Да ведь он и себе-то на хлеб еще не зарабатывает! Как же он жену содержать будет? И потом — ему в армию скоро. — Почему же он содержать должен? — удивился Петрос. — Ведь я еще живой, и о них позабочусь, и за вами присмотрю. — Хоть грех так говорить, но сегодня ты живой, а завтра долго жить прикажешь. — Ничего мне не сделается, я крепкий орешек. — О чем я, господи? Зачем все это? — вдруг спохватилась Искуи, нагнулась над корытом. — Некого мне замуж выдавать! — Пять ртов кормить тебе надо. — Не твоя забота. — Чем дом отапливать будешь? — Я вам дочь не отдам! — крикнула Искуи. — И не подумаю! Младшая дочь вбежала в комнату, протянула матери посиневшие руки. Мать наклонилась, подышала ей на руки. — Ты с отказом не спеши, — сказал Петрос. — Знай, дам тебе на зиму дров, оставлю тебе хлебную карточку Маник… Родится ребенок — возьмете и его карточку. Ну чего тебе еще?.. — Все это Петрос выговорил, не переводя дыхания. Искуи медленно подняла голову и вдруг зажала руками уши и испуганно закричала: — Вон отсюда! Вон сейчас же! Сию минуту вон из моего дома!..
В конце декабря осевшая под тяжестью снега крыша дровяника Аник провалилась, и в тот же день из дровяника утащили потолочную балку. Потом, спустя несколько дней, выломали каждую вторую ступень деревянной лестницы и унесли. Соседи собрались, порассуждали и решили, что вор, должно быть, кто-то из жильцов второго этажа, иначе он выломал бы не каждуювторую ступень, а все подряд. Решили также, что вор бездетный, поскольку «по такой лестнице дети не могли бы спускаться». На втором этаже один только Ншан не имел детей, но он был на фронте. «Кто же тогда вор?» Несмотря на то что Азрик жил не на втором, а на первом этаже, все соседи, кроме Искуи, назвали милиционеру Азрика. И на следующий день милиционер постучался в дверь Петроса. — Чего тебе? — приоткрыв дверь, спросил Азрик. — Ничего… — Милиционер вошел в комнату, заглянул в печку, под тахту и, не обнаружив ничего подозрительного, сказал: — Надо и внизу посмотреть. В подполье он спустился, пощелкивая в темноте карманным фонарем, затем поднялся, отряхнул шинель, объявил: — У них дров на три зимы. С тех пор как Искуи выставила Петроса из дому, она с ним не здоровалась. Каждое утро в очереди за хлебом он видел закутавшуюся в шаль, ежившуюся от холода Искуи, по Искуи делала вид, что его не замечает. «Замерзла вся, подыхает, одежда-то на ней — дрянь, а все равно нос воротит…» И когда за несколько дней до Нового года Искуи, опустив глаза, кивнула ему головой, он понял, что она сдалась, примирилась… День был воскресный, с окаменевшим от мороза куском хлеба за пазухой Петрос шел домой. Мерзлый снег потрескивал, взрывался под его сапогами. В утренней полумгле кое-где еще виднелись бледные звезды. — Ночь была холодная, — глядя в небо, вслух подумал старик, — потому и поздоровалась Искуи. Горе тому, у кого в такую стужу печь не топится… Ведь это ты, Искуи, балку своровала, ведь это ты выломала ступеньки лестницы. А люди этого не знают, но я знаю, своими глазами видел… В ту холодную ночь Искуи и Маник почти не спали. Еще вечером мать с дочерьми сдвинули две кровати, залезли все под свои одеяла и прижались, подрагивая, друг к дружке. Младшая дочь, лежавшая между Маник и матерью, все время кашляла и ворочалась. Прежде чем лечь в постель, Искуи растопила козье сало, натерла младшей спину, заложила ей за рубашку бумагу, и сейчас при каждом движении больной бумага шелестела. — Горит, — коснувшись руки сестренки, прошептала в темноте Маник. Мать не отозвалась. Она думала о словах Забел. В типографии Забел сказала: «Старшую и младшую оставь дома, остальных отдай в приют, не то погибнут…»
— Ма, пойдем попросим у дяди Петроса дров, — шепотом сказала Маник. Искуи промолчала. — В долг попросим, — добавила Маник. — Какой он, этот Азрик? — после долгого молчания спросила вдруг мать. — Обыкновенный. В школу больше не ходит. — Хулиганит, значит? — Нет, работает, на грузовике ездит. Видела, как он одевается? Хвастун… — Нам с тобой поговорить надо, — тихо сказала Искуи. Послышалось прерывистое хриплое дыхание больной. «Начну так: за тебя сватаются… Нет, лучше так: знаешь, нам трудно, вот мы украли балку, потом ступеньки украли… Что дальше делать будем? Забел говорит: оставь Маник и младшую при себе, а остальных… — Искуи поморщилась. — Нет, начну так: ты уже взрослая…» — Говори… — поторопила Маник. Искуи еще немного подождала, потом вздохнула и выпалила: — Одним словом, тебя сватать пришли. Она протянула руку, нашла руку дочери, сжала ее. Потом они долго молчали. Рука Маник слабо теплилась в материнской ладони. Наконец Маник спросила: — Я уже взрослая? Искуи глотнула подступивший к горлу ком, ответила: — Значит, взрослая. Петрос приходил, хочет, чтобы я выдала тебя за Азрика. — Ну! — удивилась Маник. — Нравится тебе Азрик? — Не знаю. Об этом не думала. — Петрос говорит, что он мне поможет, сестер твоих оденет, обует… Слышишь? — Слышу. — Подумай прежде… Петрос говорит, что твою хлебную карточку нам оставит… А я думаю — пусть будет так, как ты сама решишь. Маник долго молчала. За окном ветер раскачивал печную трубу. Труба неприятно дребезжала. — А ничего, что без папы?.. — Такое уж у нас положение. — Я согласна, — по-взрослому сдержанно сказала Маник. Искуи и Маник долго разговаривали и много поплакали в эту холодную ночь. В эту ночь они стали сестрами.
Когда Петрос вошел в дом, Азрик еще спал. В полутьме светились видневшиеся сквозь дверцу печки неяркие угли. Он положил хлеб на теплую печку, наклонился, взял полено, чтобы кинуть его в печку, и раздумал. — С ума не сходи! — сам себя приструнил Петрос. — Нечего переводить дрова. Что с того, что у тебя их много? Петрос положил полено на место, снял пальто, уселся возле печки, задумался. «Искуи согласится, однако, если ты действительно хочешь женить внука, ты должен выполнить свои обещания…» Ему не сиделось. Он вскочил, заметался по комнате. «В глупое дело ты влип, Петрос!» С улицы донесся крик сумасшедшей Мариам. От этого крика он пришел в себя. — Что ты теперь предлагаешь? — обратился Петрос сам к себе, не ответил, спустился в подвал, вернулся с охапкой чурок. Свалив чурки на пол, он неприязненно покосился в сторону Азрика. Тот спал. — Все это ради тебя, щенок… — попрекнул старик внука и вдруг рассердился на Сако: — Все веселился, пировал — смотрите, мол, какой я молодец! А дома у тебя ни поленца… Из коридора донесся голос Искуи. Петрос покряхтел, сгреб половину чурок и, прошептав «господи, помоги», вышел в коридор, открыл пинком дверь Искуи: — Доброе утро. Искуи была еще в шали, с хлебом в руках. Маник причесывалась, остальные спали. — Вот вам немного дров, очень уж холодная ночь была… Искуи не отозвалась, взглянула на Маник, та отвела глаза. Петрос подошел к печке, сел на корточки и опустил дрова на пол. — Жгите. — Побеспокоился, — сказала Искуи, подвинула стул: — Садись. Петрос сел. Искуи быстро-быстро побросала дрова в печку; вырвала из какой-то книги несколько страниц, подсунула их под дрова, поставила на печку чайник. И когда огонь в печке разгорелся и осветил лицо Искуи, Петрос сказал: — Ну, что решили? — Не знаю, — шепотом сказала Искуи. — Слово за Маник. Маник кончила причесываться, села против Петроса, посмотрела на него злыми глазами: — Я согласна. — Молодчина! — похвалил и то ли улыбнулся, то ли не улыбнулся Петрос. Протянул руку, чтобы погладить ее по голове. Маник откинула голову назад…
Что это было — свадьба? помолвка? Ни на что это не было похоже… Маник сидела за накрытым столом вытянувшись, с крепко сжатыми губами и старалась выглядеть невестой. Она была в материнском крепдешиновом платье, чересчур широком и длинном для нее, и чем-то походила на чучело. Искуи искоса поглядывала на Маник, пряталась за спину Петроса, время от времени утирала слезы и быстро совала что-нибудь из еды то одной дочери в руки, то другой. Двоюродный брат Искуи Самвел наливал себе водку и каждый раз говорил: — Такие, значит, дела, зятек… Наверное, Самвел был голоден — опьянел так, что его вскоре повели в другую комнату и уложили на кровать. Уже засыпая, он еще несколько раз подряд пробубнил: «Такие, значит, дела, зятек». Петрос сидел возле раскалившейся печки, курил и, полузакрыв глаза, подсчитывал приданое Маник: «Два шерстяных тюфяка… одна кровать… не новая, но ничего, все же вещь…» Азрик тоже быстро опьянел, встал со стаканом в руке, попытался что-то сказать, не смог, ноги у него разъезжались, подкашивались, и водка из его стакана полилась на лоби. Наконец он устал, рухнул на стул, обхватил руками голову и вдруг взвыл: — Папа-джан!.. Папа-джан!.. Дед попробовал успокоить внука. Азрик оттолкнул его локтем, уставился немигающими осоловелыми глазами на Маник и опять завопил: — Папа-джан!.. Я отомщу за тебя!.. Забел, подруга Искуи, вероятно чтобы вывести собравшихся из затруднительного положения, запела какую-то песню, но, увидев, что ее никто не слушает, вдруг замолкла и начала с аппетитом есть. 1970
ЖЕНЩИНЫ
Перевод К. Кафиевой
 В сорок втором, в июле, как всегда летом, солнце досиня высушило лужи от воды, выплеснутой во двор после стирки, дети, галдя, затеяли шумные игры, семейство кошек, разморенное солнцем, распласталось на крыше Аникиного сарая, с соседней улицы врывалось громыхание снующих взад-вперед трамваев. И все равно двор не был похож на двор прошлых лет. Он был пуст.
В сорок втором, в июле, как всегда летом, солнце досиня высушило лужи от воды, выплеснутой во двор после стирки, дети, галдя, затеяли шумные игры, семейство кошек, разморенное солнцем, распласталось на крыше Аникиного сарая, с соседней улицы врывалось громыхание снующих взад-вперед трамваев. И все равно двор не был похож на двор прошлых лет. Он был пуст.
* * *
— Женщины, — сказала Зина, — бабоньки, пойдем выпьем… — Стыдно, — оправила подол Ахавни-майрик, — люди узнают, что скажут? Не мужчины же мы. — А кто же мы еще? — на все парадное крикнула Зина. — Если мы не мужчины, то где наши мужики? Вечерело. Веревка с бельем, протянутая от фонарного столба до железной решетки на окне хромой Вардуш, делила двор на две части. Белье тихо покачивалось, детишки сосредоточенно копались в мусорном ящике, надеясь найти какой-нибудь яркий осколок. Тень от тополя легла на парадное, только что политое и подметенное десятилетней дочкой Офик. Женщины сидели на скамейке в тени. — А что? — повторила Зина. — Если не мужчины мы, то кто же наших детей содержит, уж не Агавард ли? — И-и-и! — скривила рябое лицо Сируш. — Агавард — дезер-ти-ир! К июлю сорок второго во дворе из мужчин оставался один Агавард. Это был худой человек с землистым лицом и сутулой спиной. Хворал он, должно быть, семьюдесятью болезнями, не меньше, а то, что он дома, хотел оправдать семьдесят первой, вряд ли существовавшей. Дома Агавард передвигался шустро, проворно, но стоило ему выйти на улицу, как его спина становилась еще более сутулой, он едва волочил ноги. По улице Агавард ходил не иначе как с палкой. — Чтоб тебе провалиться, вы только на клюку его полюбуйтесь! — непременно напутствовал его кто-нибудь из соседей. И все же Агавард не был дезертиром. Он помогал армии: шил военное обмундирование. Днем. Но по вечерам, до глубокой ночи, стрекотала его машинка для черного рынка, и стук ее рождал тысячи дум в бессонных головах женщин, оставшихся без мужей. Стук машинки означал хлеб, мыло, керосин, удовлетворение желаний Сатик, безразличие к приходу почтальона, равнодушие к письмам, которые он нес, и еще многое другое означал этот стук, все то, что лишало женщин покоя, уносило их сон. — Дезертир! — повторила Сируш. — Стыдно, услышат, — понизив голос, коснулась ее руки Ахавни-майрик. — А я и хочу, чтобы услышали! Сатик, еще не успев выйти из комнаты, громко заверещала. Машинка умолкла. Агавард, очевидно, пытался угомонить жену, не давая ей выйти. Но она, вырвавшись, распахнула дверь и, чуть не плача, выкрикнула: — Надоело, хватит! Агавард вам что, бельмо на глазу? Кому невмочь, пусть берет себе! — Ишь чего захотела! — ответила Офик, держа младенца у вымазанной чернилами груди. — Чтоб тебе пусто было, тоже нашла чем хвалиться! Агавард высунулся в проем двери, поглядел поверх очков: — Брось, Сатик, не вяжись, не видишь, на сердце у них тошно… В двухэтажном доме с единственным парадным теснилось восемь жилищ, вклинившихся одно в другое. Шум каждого из них отдавался в остальных, запах чьего-нибудь обеда заполнял все парадное. Одно из жилищ умолкло в первые же дни войны. Азат был холост, он запер двери и ушел, оставив ключ у Ахавни-майрик. Из оставшихся семи каждое, казалось, делало вдох само по себе, но выдох у всех был общий, негодующий, в сторону дверей Агаварда. Особенно по вечерам, когда женщины, обессиленные заботами, выходили во двор и усаживались на скамью возле парадного. Правда, Сатик однажды раздобыла где-то масляную краску и велела сыну Булику измазать ночью скамью, но женщины не растерялись: каждая притащила с собою стул, и снова сидели они рядышком, да еще и издевались: — Вот так молодец, Булик, молодец, в отца пошел: по ночам украдкой трудишься!.. И семейство Агаварда ждало наступления морозов как благодати. — Как же так, — все не могла уняться Сатик, — когда мужья ваши при вас были, вы меня на смех поднимали, мол, немощен твой муж, как, мол, ты его терпишь, а нынче он вам мужиком показался. Чтоб глаза у вас лопнули, бесстыжие! — Оставь, Сатик, тошно ведь им, ступай домой… С балкона соседнего дома уже свешивалась голова старичка-репатрианта. Задевая за связки красного перца, вывешенные на столбах, он старательно прикладывал к уху ладонь. Перебранка женщин была делом не новым, привычным, но все равно, не разобравшись, кто кому что сказал, — старичок ни за что бы не позволил себе увещевать спорящих сиплым, одному ему слышным голоском. — Да не гомоните вы так, говорите медленнее, дайте людям вникнуть! — вроде бы восклицал старичок. — Ну и трещотки! — А всему ты сам виной! — огрызнулась на мужа Сатик. — Позволяешь всякой собаке на нас брехать. — Сатик! — рявкнула Зина. — А ну, заткнись да убирайся восвояси, не то как встану да как возьмусь за тебя!.. И муженька твоего не оставлю! — Да обед свой с балкона убирай, — поддала Аник, — нечего сидеть над ним, выставляться! Нашим детям тоже мяса хочется! Детишки, бросив копаться в мусоре, сгрудились неподалеку от матерей и враждебно поглядывали то на Сатик, то на ее сыновей, съежившихся в тени балкона хромой Вардуш. — Бессовестная, да разве в этакую жару разведешь в доме огонь? А не посиди я над обедом, вы же мигом мясо растащите! — Сама и есть воровка! — Сируш указала пальцем на двери Сатик. — Дезертира укрываешь! Дочка Сируш, девочка лет восьми-девяти, отбросив мелок, который она держала, сняла с ноги ботинок и набросилась на Булика. — Дезертирский сын, дезертирский сын! — приговаривала она, ударяя ботинком мальчика. Детишки окружили Булика, не давая ему удрать, а тот, хоть был старше и сильнее дочки Сируш, молча сносил удары и лишь, залившись румянцем, скрежетал зубами. Потом он не выдержал, оттолкнул девочку, кинулся к своему окну и закричал что было сил: — Пошел бы и ты в армию, хватит! — Это они не по злобе, — подал голос Агавард, — тошно ведь им. — Нет, вы на мужика моего полюбуйтесь! — завопила Сатик и врезалась в толпу детей. Те, крича и дразнясь, разбежались. Сатик, схватив сына за шиворот, влепила ему оплеуху. — Поделом тебе! Ты их всех сильнее, вмазал бы, чтоб подохли! Пусть еще кто до моих дотронется — убью! Сируш хотела было ответить. Она встала, но, завидев, что Сатик ретировалась раньше сына, от речей воздержалась. — Вот и славно! — воскликнул старичок из соседнего дома. — Что вам делить друг с другом! Во дворе как будто воцарился покой. Сумерки, карабкаясь вверх по стене, залили Аникин сарай. Старичок-репатриант задернул шторку на своем окне, воробьи стайкой вспорхнули на ветки тополя, пошумели, почирикали и, вспугнутые дребезжащим трамваем, умчались в сторону мельничного комбината. — У кого найдется щепотка соли? Одолжите, получу свою — отдам. Было слышно, как Сируш хрустнула пальцами. — В трамваях задние дверцы открыли, — вздохнула Аник, — раненых перевозить будут, не иначе. — Сиденья убрали, садиться некуда… Вардуш вытянула, распрямила хромую ногу с прилаженным к ней железным протезом. Железо блеснуло под светом луны. — Мир миром, а ты со своим сиденьем, — усмехнулась Офик, вкладывая вымазанную грудь в рот младенцу. — Грудь загадила, а все равно ребенку суешь. — Ахавни-майрик протяжно зевнула, перекрестила рот. — Что поделаешь, кормить-то нечем, а молока много… Еще отцеживаю да старшим даю. Молоко, оно и есть молоко, какая разница? — Да погодите вы, — проговорила Зина, обхватив руками голову, — видела я их сегодня ночью, на вокзале… везут их да везут… — Раненых? — Ага… Подошли поглядеть, нет ли Гургена среди них… На одного взглянула, на другого да как побегу оттуда, зажав уши! Луч прожектора с крыши комбината прорезал синеву ночи, обвел небо и пропал. — Русские были или армяне? — Каких только там не было! — Ай-яй-яй! — закачалась Ахавни-майрик, — горе матерям вашим! — Лишь бы вернулся мой Вираб, пусть даже ранят его куда-нибудь… От Вираба не было вестей вот уже пять месяцев. — Я к гадалке ходила, — продолжала Офик, — поглядела она на зерна ячменные, говорит: «Муж твой чернявый, пригожий парень». И как узнала? — Слыхала? — двинула соседку локтем Сируш. — Это Вираб-то пригожий? — Говорит: «Пусть сердце твое не печалится, через семь дней ли, семь недель, семь месяцев ли — получишь от него весть…» — Пусть мой Сандро вернется, — откликнулась Аник с края скамьи, — а там пусть хоть пальцев не будет у него на левой руке. — И у моего тоже, — поддакнула хромая Вардуш, — лишь бы вернулся. — Пусть Рубик мой вернется, — проговорила со вздохом Ахавни-майрик, — а ранен будет хоть сюда. — Она трясущейся правой рукой коснулась локтя левой. — Хоть на руке не будет пальцев, хоть на ноге, лишь бы воротился мой Галуст, — торопливо сказала Сируш. — Да, — поддержала ее Офик, — уж своего-то я прокормлю! — Да уж коли вернутся, как-нибудь и сами нас прокормят. — Гурген мой! — вдруг заголосила Зина. — Пусть ни волоска не потеряет мой Гурген! — Она разрыдалась. — Да разве на такой войне отделаешься пальцем руки или ноги?! Хоть без руки, хоть без ноги, лишь бы вернулся мой Гурген! — Ты ровно дитя малое, Зина… — А кто же я еще? — Зина утерлась рукавом. — Пошли, бабоньки, винца выпьем. Вино нынче у меня есть, вино да лук… Только сейчас соседки заметили, что Зина навеселе. Она работала проводником на поездах, ходивших между Ереваном и Баку и конечно же провозила безбилетников. А те вознаграждали ее — деньгами ли, хлебом ли, картофелем, луком… На этот раз, видно, заплатили вином. Женщины промолчали, и в наступившей тишине послышалось с соседнего двора:* * *
Поутру солнце снова принялось за лужи, детишки, схвативши палки, снова стали играть в войну, по улицам задребезжали трамваи, и все как будто оставалось по-прежнему. Только у Офик почему-то пропало молоко, да Агаварду почтальон принес повестку. Агавард, забыв прихватить палку, вышел из дому и направился куда-то. — Чтоб вам ослепнуть! — стоя посреди двора, кричала Сатик. — Этого вы добивались? Радуйтесь теперь!.. Она продолжала кричать, хоть ни одной из женщин не было видно на скамье у парадного. — Булик, Рафик, отстегайте их щенков, чтобы знали!.. Булик и Рафик мрачно отсиживались под окном хромой Вардуш, подперев головы руками. Никто из детей не приближался к ним. Вечером тень от тополя легла у входа в дом, старшая девочка Офик подмела, полила парадное, и женщины по одной собрались и молча уселись на скамейке. Они сидели, не говоря ни слова, сложивши на груди руки. — Чтоб вам подохнуть, чтоб подохнуть вам! — со слезами кричала Сатик. — Хотела бы я знать, что вам теперь прибавилось? А женщины и сами понимали, что и впрямь им ничего не прибавится от того, что в доме не станет последнего мужчины… — Что, что?? — прикладывал к уху ладонь свесившийся с балкона старичок-репатриант. — Что ты сказала, Сатик? В небе исходило кровью облако, паровоз, шипя, вбежал во двор мельничного комбината, а босые мальчишки, пытавшиеся угнаться за ним, остались перед воротами комбината. Когда Агавард вернулся домой, было уже почти темно. Женщины сидели потупившись. Агавард робко потоптался у парадного, потом промолвил: — Что, знаете уже? Он приблизился к скамье, протянул руку: — Счастливо оставаться, сестрица Зина, куда отправляют — не знаю… Будь здорова, Ахавни-майрик, будь здорова, сестричка Офик, может, сразу на фронт и возьмут… счастливо, сестрица Аник, не поминай лихом, Сируш… Завтра на рассвете уезжаем… Сестрица Вардуш, будь здорова… Нет, не посчитались с моим недугом… Женщины стали всхлипывать. Следующим утром никто не услышал, как уходил Агавард. А в полдень почтальон принес похоронку на Вираба. Дома была только Сатик, и он отдал похоронку ей. 1969ИЮЛЬ
Перевод Р. Егиазаряна
 К вечеру Шамрик и Баяз уложили вещи Мелкона, перебрали, все ли на месте, но Баяз все же сказала невестке:
— Перебери-ка еще разок. Как бы чего не забыли.
Шамрик вывернула содержимое вещмешка на тахту, окинула взглядом разбросанные вещи и, громко перечисляя, вновь собрала, бережно уложила в мешок нехитрое добро мужа: белье, простые и теплые носки, папиросы, спички, бумагу для письма, карандаш, семейную карточку. Баяз посмотрела на присмиревшую невестку и осталась довольна.
С бутылкой водки пришел сосед Хачатур, поставил бутылку на стол:
— Выпьем на дорогу!
И сейчас Мелкон, Хосров, двоюродный брат Мелкона, и Хачатур поднимали стаканы, бубнили что-то и медленно выпивали. Баяз глядела то на остриженного Мелкона, то на своего племянника и, честно говоря, завидовала Хосрову. Хосрова не возьмут в армию. До двадцати — двадцати пяти лет он и был-то никем: промышлял воровством. А однажды, спрыгнув на ходу с трамвая, угодил под колеса и потерял руку. Потом, неизвестно где, выучился никелировать кровати, сдружился с какими-то мастеровыми, и стали они делать кровати. Делали и продавали их, благо никелированные кровати были новинкой. Недавно Мелкон сказал жене: «Вот отложим денег — и купим. Если надо будет, переплачу, пусть не думает, раз уж двоюродный брат, по дешевке уступает».
Сейчас Мелкону не до кроватей. Чуть съежившись, понуро сидел он за столом, чувствовал, что должен сказать что-то, должен крепиться, держаться молодцом, но не мог и оттого еще больше мрачнел. Наконец угрюмо сказал:
— А дети где?
Шамрик отложила мешок, подошла к окну и, просунув голову между прутьями, позвала:
— Джулик, Нерсик…
— Выпейте и вы по рюмочке, — предложил женщинам Хачатур, — ну дай бог, чтоб все обошлось.
Несмотря на достаточную разницу в годах, Мелкон и Хачатур были друзьями. Хачатур был красильщиком, а Мелкон — бондарем. На черном рынке мастерские их находились рядом. После работы они договаривались и вместе возвращались домой; по дороге Хачатур рассказывал всякие были и небылицы о ванских войнах и о самом городе.
— Пейте, — снова предложил женщинам Хачатур.
— Хосров подвинулся, желая дать место Шамрик, но та, будто не заметила, взяла стул, подсела к мужу. Хачатур отодвинул пустую бутылку и, наливая из новой, сказал, подкручивая кончик уса:
— Знай, Мелкон, эта война и Еревану грозит, так что вы там не только о собственной шкуре думайте.
— Неужто шкурничать идем? — грустно промолвил Мелкон.
— Да, — вытирая пот со лба, выпрямился Хосров, — пуля, она всегда труса находит.
«Чтоб тебе пусто было, бестолковая ты башка, — подумала Баяз, — знай себе, мелешь».
Она взяла в руки стакан, откашлялась:
— Не слушай ты никого, напрасно голову под пулю не подставляй, мол, глядите, вот он я, Мелкон. Ну, господь тебя храни, сынок.
— Я же не ребенок, — пробурчал Мелкон, — что скажут, то и сделаю.
Баяз выпила до дна. Шамрик посмотрела на свекровь, выпила, съела кусочек хашламы и пристально посмотрела на мужа. Остриженный, чуть съежившийся, Мелкон словно стал меньше и показался ей вдруг чужим. Будто и не были они четырнадцать лет мужем и женой.
— Мелкон… — вдруг позвала Шамрик.
— Что?..
— Пиши почаще, — невпопад, чуть помедлив, сказала жена.
— А то как же, дел у меня никаких, — наклонив голову, улыбнулся Мелкон, — как только буду свободен, напишу.
— Пиши, и у самого на сердце полегчает, и у нас, — Хачатур обмакнул зелень в соль, смачно захрустел.
Солнце, зайдя за соседний дом, отбрасывало тень, и в комнате царил полумрак.
В окно врывались и тотчас пропадали испуганные крики гоняющихся друг за другом ласточек. Во дворе, став в круг, махали руками и галдели детишки: «Гуси-гуси, га-га-га…» В детском гомоне Мелкон различал хрипловатый голос сына. Шамрик вновь внимательно посмотрела на мужа, почувствовала, что в комнате темно, встала, включила свет, вернулась и села, слегка коснувшись мужа.
— Мелкон, — прошептала она.
Мелкон не отозвался. Протянул под столом руку, на ощупь нашел руку жены и крепко сжал ее. Баяз вдруг заметила искорку в глазах невестки, заметила, что щеки ее зарделись. Четырнадцать лет прожили они вместе в одной комнате, и всегда Баяз с гордостью говорила соседкам: «Верно, невестке моей пальцы в рот не клади, но уж того, чтобы они были как муж с женой, за столько лет ни разу не заметила. Кабы внуки не были в Мелкона, заподозрила бы я неладное». И сейчас Баяз исподтишка наблюдала за невесткой, стараясь понять: верно ли угадала, а Шамрик, почувствовав ее взгляд, прятала глаза.
— Ну, я пошел, — поднялся Хосров. — Завтра приду на вокзал. Чего тебе принести?
— Ничего не нужно, — очнулась Баяз, — все, что надо, мы уже собрали, уложили.
— Ладно, — сказал Хосров, — мы люди свои: дам денег, пусть купит чего хочет.
Хачатур опорожнил свой стакан и тоже встал:
— И я пойду. Мало ли дел у вас перед дорогой.
Баяз вновь поглядела на невестку, потом на Мелкона и, неожиданно взяв Хосрова за руку, сказала:
— Погоди, я с тобой: давненько сестру не видела. Да и детишки по тете соскучились. И переодевать их не надо, так пойдут. Утром вернемся.
А после, когда Мелкон и Шамрик проводили их, Шамрик заперла дверь:
— Вот мы и одни…
Она подошла к мужу, хотела прильнуть к нему, но заметила, что окно открыто, соседи могут увидеть, отстранилась.
— Я уберу со стола.
— Ты приберись, а я спущусь вниз, уложу инструменты. Кто его знает, когда я еще к ним притронусь?
Он открыл маленькую дверцу в полу, спустился в подвал, зажег керосиновую лампу.
Подвал этот был на зависть всем соседям; Мелкон углубил его, зацементировал пол, побелил стены, открыл два оконца на улицу, приспособил в углу самодельную тахту. После обеда он частенько спускался в подвал поработать или просто растягивался на тахте, довольный собственным подвалом. И тогда Шамрик сетовала, что в комнате душно, дети шумят или ей вдруг надо спуститься в подвал посмотреть: как там соленья, не испортились ли? Она спускалась вслед за мужем и осторожно, чтобы не щелкнула задвижка, запирала дверь…
Мелкон чуть прибавил свет, поставил лампу на деревянный станок. Свет расплылся, осветил висевшие на стене инструменты. Он долго, неподвижно глядел на них, потом со вздохом наклонился, достал из-под станка наполненную дегтем жестяную банку и, снимая с гвоздя инструменты, стал покрывать их дегтем.
В подвале стояла тишина. Изредка слышалось звяканье металла да доносились шаги Шамрик — от стола к шкафу, от шкафа к столу. Мелкон покрыл все инструменты дегтем, отыскал изношенную блузу, разорвал ее на узкие полоски и обмотал ими металлические части. Сначала он обмотал пилу.
— Чтоб не заржавела, — сказал Мелкон, — я на войну иду.
У тесака была слаба ручка. Мелкон приспособил клин, укрепил ручку, проверил, ладно ли сидит, остался доволен.
Шамрик закончила убираться, пришла, приоткрыла дверцу:
— Мелкон…
— Кончаю, — не отрываясь от дела, отозвался муж.
Полоска света, просочившаяся через дверцу, сузилась и исчезла.
Мелкон уложил инструменты в ящик, посмотрел на голую стену, и руки у него опустились. Взяв лампу, он направился в другой конец подвала, оглядел сложенные до самого потолка доски для бочек. Одна доска выдалась вперед, он подтолкнул ее, подровнял, потом заметил металлические обручи, вздумал и их покрыть дегтем, но проворчал:
— Дай бог, вернусь живым-здоровым, тогда и за вас возьмусь.
Сверху снова донеслись шаги Шамрик. Теперь она стояла у платяного шкафа, и Мелкон даже услышал, как со скрипом открылась дверца.
Шамрик перебрала выглаженное, старательно сложенное белье, нашла, что ей было нужно, сменила простыни себе и Мелкону. Потом взбила подушки, сменила на них наволочки. Нагнулась, долго рылась и наконец вызволила из глубин шкафа шелковую ночную рубашку — подарок в день свадьбы, которую ни разу еще не надевала: берегла дочке в приданое. Она погасила свет и, стыдясь собственной наготы, скользнула в шелковую, приятно холодившую тело рубашку. В темноте Шамрик распустила свои густые волосы, расчесала их и рассыпала по плечам, нашла флакон дешевеньких духов, надушилась.
Мелкон проверил задвижки на окнах, в последний раз огляделся и, гася лампу, поднялся наверх.
— Ты что это свет погасила?..
— Легла уже, — прошептала Шамрик.
— А двери зачем заперла? — потянув за ручку,попенял Мелкон.
Шамрик услышала, как в коридоре загромыхал настенный умывальник, услышала удаляющиеся шаги мужа.
— Разве он когда так досадовал? — вздохнув, сказала Шамрик самой себе.
Бродившая в коридоре собака с грохотом опрокинула мусорное ведро Аник и, поскуливая, убежала. Аник вышла, громко чертыхаясь, подмела разбросанный мусор и ушла.
Мелкон вошел в дом, запер за собой дверь, медленно подошел к тахте, сел.
— Не ложишься?..
— Слушай-ка, что скажу, — зажигая папиросу, сказал Мелкон, — есть у нас немного денег. Так я сотню с собой заберу…
— Бери все…
— На что мне? Да и Хосров принесет. Сотню я заберу, а на остальное купи хорошего барана, отдай Хачатуру зарезать и приготовь кавурму.
Огонек папиросы долго теплился около губ Мелкона, затем, угасая, сполз вниз.
— Мелкон…
— Да?..
— Чего не ложишься?..
— Дров, говорю, нету, как вы тут зимой будете?..
— Может, до зимы вернешься?..
— Вернусь. Если ничего не достанете, в подвале доски возьмете. Доски крепкие и гореть будут хорошо.
— Те доски я не трону.
— Не дури. Детей застудишь.
— Дай бог, чтоб до зимы вернулся.
— Дай бог, — проворчал Мелкон. — Кто его знает, может, проведают, что бондарь хороший, и на фронт не пошлют.
— Хоть бы, хоть бы… очень уж я этого фронта боюсь.
— Бойся, не бойся — все одно, — Мелкон вытянулся на тахте. — Прикажут — надо делать.
— Ты хоть ружье-то брал в руки когда?
— Не-е. Да вон и Аршак не брал ведь. А тоже забирают.
— Держитесь друг за дружку.
— А то как же?.. Военком говорил, что нас стрелять научат.
На подоконнике в цветочном горшке что-то зашелестело. Раскачивался от ветра и скребся по стеклу засохший лист. Мелкон на ощупь нашел на столе спички, зажег потухшую папиросу. В свете спички лицо мужа показалось Шамрик побледневшим.
— Ты мне скажи, — нарушил тишину Мелкон, — как жить-то будете?..
— Бог милостив.
— Заладила: бог милостив да бог милостив! — неожиданно разозлился Мелкон. — Оба работали, и то еле концы с концами сводили.
— Не сердись: что тут поделаешь, вытянем как-нибудь.
— Ох, — покачал Мелкон головой, — изведут там меня ваши заботы.
— Будешь о нас думать, и сам в беду попадешь, — набросилась на него Шамрик. — Ты о нас не думай!
Мелкон не ответил. Нагнулся, развязал шнурки, снял ботинок, выпрямился, подумал немного и сказал:
— А то, не надо кавурму делать, а? Купи масла, посоли и держи.
— Лучше кавурму сделаю, уж очень ее дети любят.
— То-то, что любят, — выпустив из руки ботинок, повысил Мелкон голос, — прикончат все за месяц, а дальше что делать будешь?
— Куплю масло.
— За матерью моей хорошенько присматривай. И чтоб я не слышал, что ты с ней ругалась. — Он стянул с себя рубашку, нагнулся и, снимая носки, сказал со вздохом: — Эх, был бы Нерсик старшеньким, мало-много, а помог бы.
— Не нужна мне их помощь. Лишь бы учились.
— Да, — согласился Мелкон, — а то туго им будет.
Мелкон бросил брюки на тахту, приблизился. Шамрик откинула одеяло, подвинулась.
— В последний раз ложусь в постель, — кладя голову на подушку, сказал Мелкон.
— Все будет хорошо, — жена обняла мужа, прильнула головой к его груди.
— Дай подумать, что делать будем.
— Не уехал еще, а уже чужой какой-то, — вздохнула женщина.
— Почему это чужой?
— Да так.
Прижавшись к мужу, Шамрик замерла, умолкла. Под окном соседка Еран постукивала чугунным утюгом о землю, выбивая из него уголь, затем облила его водой; послышалось шипенье. Засохший лист вновь поскребся о стенку цветочного горшка.
— Завтра в это время в поезде буду, — заговорил наконец Мелкон, потом задумался и сказал жене: — Если не вернусь, даю тебе полную свободу: выходи замуж.
Мелкон не сразу понял, что жена плачет.
— Ты чего?
Шамрик не ответила. Прижавшись к мужу, она затряслась еще сильнее.
— Я тебя спрашиваю…
— Думаешь, до того мне, — рыдала жена, — не уехавши, замуж меня выдаешь?..
— Перестань!
— Да как ты можешь? — еще громче зарыдала жена. — Знай, ничего мне не нужно.
Мелкон хотел погладить ее по волосам, но она отстранилась.
— Да будет тебе, — сдался Мелкон.
— Ты езжай, не беспокойся, — подавляя плач, всхлипнула Шамрик. — Я твою честь не уроню…
— Ну, сказал человек глупость…
— Разве ж такое говорят?.. Разве ж такое говорят?..
Мелкон выбрался из постели, сел на тахту, закурил. Напротив, на втором этаже, засветился балкон, полоска света осветила лицо Мелкона. Какая-то старушка, опершись на перила, вытряхивала тряпки и, кончив, снова погасила свет.
— Нам и двух твоих строчек хватит, только пиши почаще.
Муж промолчал. Забрался с ногами на тахту и, ссутулившись, обнял колени.
— Иди ложись, простудишься.
— Как только обзаведусь деньгами — вышлю. Или пришлю детишкам одежонку.
— Ложись, простудишься, — Шамрик подумала немного и спросила: — А может, не возьмут, если заболеешь?
— «Не возьму-ут»! — передразнил Мелкон. — Сапожника Шмо вон с температурой взяли.
Мелкон слез с тахты, забрался в свою постель. Издалека донесся бой часов на площади. Шамрик хотела сосчитать удары, но дребезжанье трамвая помешало ей, сбило со счета. Громыхая ведрами, пошла за водой Аник. Вернулась поздно, видимо, заговорилась у крана. Соседский воришка-кот забрался на окно, просунул голову через прутья и замурлыкал; в темноте засветились кошачьи глаза.
— Мелкон, — тихо позвала Шамрик.
— А-а?..
— Не спишь?..
— Нет.
— Хочешь, приду к тебе?
— Иди, — помедлив, сказал Мелкон.
1969
К вечеру Шамрик и Баяз уложили вещи Мелкона, перебрали, все ли на месте, но Баяз все же сказала невестке:
— Перебери-ка еще разок. Как бы чего не забыли.
Шамрик вывернула содержимое вещмешка на тахту, окинула взглядом разбросанные вещи и, громко перечисляя, вновь собрала, бережно уложила в мешок нехитрое добро мужа: белье, простые и теплые носки, папиросы, спички, бумагу для письма, карандаш, семейную карточку. Баяз посмотрела на присмиревшую невестку и осталась довольна.
С бутылкой водки пришел сосед Хачатур, поставил бутылку на стол:
— Выпьем на дорогу!
И сейчас Мелкон, Хосров, двоюродный брат Мелкона, и Хачатур поднимали стаканы, бубнили что-то и медленно выпивали. Баяз глядела то на остриженного Мелкона, то на своего племянника и, честно говоря, завидовала Хосрову. Хосрова не возьмут в армию. До двадцати — двадцати пяти лет он и был-то никем: промышлял воровством. А однажды, спрыгнув на ходу с трамвая, угодил под колеса и потерял руку. Потом, неизвестно где, выучился никелировать кровати, сдружился с какими-то мастеровыми, и стали они делать кровати. Делали и продавали их, благо никелированные кровати были новинкой. Недавно Мелкон сказал жене: «Вот отложим денег — и купим. Если надо будет, переплачу, пусть не думает, раз уж двоюродный брат, по дешевке уступает».
Сейчас Мелкону не до кроватей. Чуть съежившись, понуро сидел он за столом, чувствовал, что должен сказать что-то, должен крепиться, держаться молодцом, но не мог и оттого еще больше мрачнел. Наконец угрюмо сказал:
— А дети где?
Шамрик отложила мешок, подошла к окну и, просунув голову между прутьями, позвала:
— Джулик, Нерсик…
— Выпейте и вы по рюмочке, — предложил женщинам Хачатур, — ну дай бог, чтоб все обошлось.
Несмотря на достаточную разницу в годах, Мелкон и Хачатур были друзьями. Хачатур был красильщиком, а Мелкон — бондарем. На черном рынке мастерские их находились рядом. После работы они договаривались и вместе возвращались домой; по дороге Хачатур рассказывал всякие были и небылицы о ванских войнах и о самом городе.
— Пейте, — снова предложил женщинам Хачатур.
— Хосров подвинулся, желая дать место Шамрик, но та, будто не заметила, взяла стул, подсела к мужу. Хачатур отодвинул пустую бутылку и, наливая из новой, сказал, подкручивая кончик уса:
— Знай, Мелкон, эта война и Еревану грозит, так что вы там не только о собственной шкуре думайте.
— Неужто шкурничать идем? — грустно промолвил Мелкон.
— Да, — вытирая пот со лба, выпрямился Хосров, — пуля, она всегда труса находит.
«Чтоб тебе пусто было, бестолковая ты башка, — подумала Баяз, — знай себе, мелешь».
Она взяла в руки стакан, откашлялась:
— Не слушай ты никого, напрасно голову под пулю не подставляй, мол, глядите, вот он я, Мелкон. Ну, господь тебя храни, сынок.
— Я же не ребенок, — пробурчал Мелкон, — что скажут, то и сделаю.
Баяз выпила до дна. Шамрик посмотрела на свекровь, выпила, съела кусочек хашламы и пристально посмотрела на мужа. Остриженный, чуть съежившийся, Мелкон словно стал меньше и показался ей вдруг чужим. Будто и не были они четырнадцать лет мужем и женой.
— Мелкон… — вдруг позвала Шамрик.
— Что?..
— Пиши почаще, — невпопад, чуть помедлив, сказала жена.
— А то как же, дел у меня никаких, — наклонив голову, улыбнулся Мелкон, — как только буду свободен, напишу.
— Пиши, и у самого на сердце полегчает, и у нас, — Хачатур обмакнул зелень в соль, смачно захрустел.
Солнце, зайдя за соседний дом, отбрасывало тень, и в комнате царил полумрак.
В окно врывались и тотчас пропадали испуганные крики гоняющихся друг за другом ласточек. Во дворе, став в круг, махали руками и галдели детишки: «Гуси-гуси, га-га-га…» В детском гомоне Мелкон различал хрипловатый голос сына. Шамрик вновь внимательно посмотрела на мужа, почувствовала, что в комнате темно, встала, включила свет, вернулась и села, слегка коснувшись мужа.
— Мелкон, — прошептала она.
Мелкон не отозвался. Протянул под столом руку, на ощупь нашел руку жены и крепко сжал ее. Баяз вдруг заметила искорку в глазах невестки, заметила, что щеки ее зарделись. Четырнадцать лет прожили они вместе в одной комнате, и всегда Баяз с гордостью говорила соседкам: «Верно, невестке моей пальцы в рот не клади, но уж того, чтобы они были как муж с женой, за столько лет ни разу не заметила. Кабы внуки не были в Мелкона, заподозрила бы я неладное». И сейчас Баяз исподтишка наблюдала за невесткой, стараясь понять: верно ли угадала, а Шамрик, почувствовав ее взгляд, прятала глаза.
— Ну, я пошел, — поднялся Хосров. — Завтра приду на вокзал. Чего тебе принести?
— Ничего не нужно, — очнулась Баяз, — все, что надо, мы уже собрали, уложили.
— Ладно, — сказал Хосров, — мы люди свои: дам денег, пусть купит чего хочет.
Хачатур опорожнил свой стакан и тоже встал:
— И я пойду. Мало ли дел у вас перед дорогой.
Баяз вновь поглядела на невестку, потом на Мелкона и, неожиданно взяв Хосрова за руку, сказала:
— Погоди, я с тобой: давненько сестру не видела. Да и детишки по тете соскучились. И переодевать их не надо, так пойдут. Утром вернемся.
А после, когда Мелкон и Шамрик проводили их, Шамрик заперла дверь:
— Вот мы и одни…
Она подошла к мужу, хотела прильнуть к нему, но заметила, что окно открыто, соседи могут увидеть, отстранилась.
— Я уберу со стола.
— Ты приберись, а я спущусь вниз, уложу инструменты. Кто его знает, когда я еще к ним притронусь?
Он открыл маленькую дверцу в полу, спустился в подвал, зажег керосиновую лампу.
Подвал этот был на зависть всем соседям; Мелкон углубил его, зацементировал пол, побелил стены, открыл два оконца на улицу, приспособил в углу самодельную тахту. После обеда он частенько спускался в подвал поработать или просто растягивался на тахте, довольный собственным подвалом. И тогда Шамрик сетовала, что в комнате душно, дети шумят или ей вдруг надо спуститься в подвал посмотреть: как там соленья, не испортились ли? Она спускалась вслед за мужем и осторожно, чтобы не щелкнула задвижка, запирала дверь…
Мелкон чуть прибавил свет, поставил лампу на деревянный станок. Свет расплылся, осветил висевшие на стене инструменты. Он долго, неподвижно глядел на них, потом со вздохом наклонился, достал из-под станка наполненную дегтем жестяную банку и, снимая с гвоздя инструменты, стал покрывать их дегтем.
В подвале стояла тишина. Изредка слышалось звяканье металла да доносились шаги Шамрик — от стола к шкафу, от шкафа к столу. Мелкон покрыл все инструменты дегтем, отыскал изношенную блузу, разорвал ее на узкие полоски и обмотал ими металлические части. Сначала он обмотал пилу.
— Чтоб не заржавела, — сказал Мелкон, — я на войну иду.
У тесака была слаба ручка. Мелкон приспособил клин, укрепил ручку, проверил, ладно ли сидит, остался доволен.
Шамрик закончила убираться, пришла, приоткрыла дверцу:
— Мелкон…
— Кончаю, — не отрываясь от дела, отозвался муж.
Полоска света, просочившаяся через дверцу, сузилась и исчезла.
Мелкон уложил инструменты в ящик, посмотрел на голую стену, и руки у него опустились. Взяв лампу, он направился в другой конец подвала, оглядел сложенные до самого потолка доски для бочек. Одна доска выдалась вперед, он подтолкнул ее, подровнял, потом заметил металлические обручи, вздумал и их покрыть дегтем, но проворчал:
— Дай бог, вернусь живым-здоровым, тогда и за вас возьмусь.
Сверху снова донеслись шаги Шамрик. Теперь она стояла у платяного шкафа, и Мелкон даже услышал, как со скрипом открылась дверца.
Шамрик перебрала выглаженное, старательно сложенное белье, нашла, что ей было нужно, сменила простыни себе и Мелкону. Потом взбила подушки, сменила на них наволочки. Нагнулась, долго рылась и наконец вызволила из глубин шкафа шелковую ночную рубашку — подарок в день свадьбы, которую ни разу еще не надевала: берегла дочке в приданое. Она погасила свет и, стыдясь собственной наготы, скользнула в шелковую, приятно холодившую тело рубашку. В темноте Шамрик распустила свои густые волосы, расчесала их и рассыпала по плечам, нашла флакон дешевеньких духов, надушилась.
Мелкон проверил задвижки на окнах, в последний раз огляделся и, гася лампу, поднялся наверх.
— Ты что это свет погасила?..
— Легла уже, — прошептала Шамрик.
— А двери зачем заперла? — потянув за ручку,попенял Мелкон.
Шамрик услышала, как в коридоре загромыхал настенный умывальник, услышала удаляющиеся шаги мужа.
— Разве он когда так досадовал? — вздохнув, сказала Шамрик самой себе.
Бродившая в коридоре собака с грохотом опрокинула мусорное ведро Аник и, поскуливая, убежала. Аник вышла, громко чертыхаясь, подмела разбросанный мусор и ушла.
Мелкон вошел в дом, запер за собой дверь, медленно подошел к тахте, сел.
— Не ложишься?..
— Слушай-ка, что скажу, — зажигая папиросу, сказал Мелкон, — есть у нас немного денег. Так я сотню с собой заберу…
— Бери все…
— На что мне? Да и Хосров принесет. Сотню я заберу, а на остальное купи хорошего барана, отдай Хачатуру зарезать и приготовь кавурму.
Огонек папиросы долго теплился около губ Мелкона, затем, угасая, сполз вниз.
— Мелкон…
— Да?..
— Чего не ложишься?..
— Дров, говорю, нету, как вы тут зимой будете?..
— Может, до зимы вернешься?..
— Вернусь. Если ничего не достанете, в подвале доски возьмете. Доски крепкие и гореть будут хорошо.
— Те доски я не трону.
— Не дури. Детей застудишь.
— Дай бог, чтоб до зимы вернулся.
— Дай бог, — проворчал Мелкон. — Кто его знает, может, проведают, что бондарь хороший, и на фронт не пошлют.
— Хоть бы, хоть бы… очень уж я этого фронта боюсь.
— Бойся, не бойся — все одно, — Мелкон вытянулся на тахте. — Прикажут — надо делать.
— Ты хоть ружье-то брал в руки когда?
— Не-е. Да вон и Аршак не брал ведь. А тоже забирают.
— Держитесь друг за дружку.
— А то как же?.. Военком говорил, что нас стрелять научат.
На подоконнике в цветочном горшке что-то зашелестело. Раскачивался от ветра и скребся по стеклу засохший лист. Мелкон на ощупь нашел на столе спички, зажег потухшую папиросу. В свете спички лицо мужа показалось Шамрик побледневшим.
— Ты мне скажи, — нарушил тишину Мелкон, — как жить-то будете?..
— Бог милостив.
— Заладила: бог милостив да бог милостив! — неожиданно разозлился Мелкон. — Оба работали, и то еле концы с концами сводили.
— Не сердись: что тут поделаешь, вытянем как-нибудь.
— Ох, — покачал Мелкон головой, — изведут там меня ваши заботы.
— Будешь о нас думать, и сам в беду попадешь, — набросилась на него Шамрик. — Ты о нас не думай!
Мелкон не ответил. Нагнулся, развязал шнурки, снял ботинок, выпрямился, подумал немного и сказал:
— А то, не надо кавурму делать, а? Купи масла, посоли и держи.
— Лучше кавурму сделаю, уж очень ее дети любят.
— То-то, что любят, — выпустив из руки ботинок, повысил Мелкон голос, — прикончат все за месяц, а дальше что делать будешь?
— Куплю масло.
— За матерью моей хорошенько присматривай. И чтоб я не слышал, что ты с ней ругалась. — Он стянул с себя рубашку, нагнулся и, снимая носки, сказал со вздохом: — Эх, был бы Нерсик старшеньким, мало-много, а помог бы.
— Не нужна мне их помощь. Лишь бы учились.
— Да, — согласился Мелкон, — а то туго им будет.
Мелкон бросил брюки на тахту, приблизился. Шамрик откинула одеяло, подвинулась.
— В последний раз ложусь в постель, — кладя голову на подушку, сказал Мелкон.
— Все будет хорошо, — жена обняла мужа, прильнула головой к его груди.
— Дай подумать, что делать будем.
— Не уехал еще, а уже чужой какой-то, — вздохнула женщина.
— Почему это чужой?
— Да так.
Прижавшись к мужу, Шамрик замерла, умолкла. Под окном соседка Еран постукивала чугунным утюгом о землю, выбивая из него уголь, затем облила его водой; послышалось шипенье. Засохший лист вновь поскребся о стенку цветочного горшка.
— Завтра в это время в поезде буду, — заговорил наконец Мелкон, потом задумался и сказал жене: — Если не вернусь, даю тебе полную свободу: выходи замуж.
Мелкон не сразу понял, что жена плачет.
— Ты чего?
Шамрик не ответила. Прижавшись к мужу, она затряслась еще сильнее.
— Я тебя спрашиваю…
— Думаешь, до того мне, — рыдала жена, — не уехавши, замуж меня выдаешь?..
— Перестань!
— Да как ты можешь? — еще громче зарыдала жена. — Знай, ничего мне не нужно.
Мелкон хотел погладить ее по волосам, но она отстранилась.
— Да будет тебе, — сдался Мелкон.
— Ты езжай, не беспокойся, — подавляя плач, всхлипнула Шамрик. — Я твою честь не уроню…
— Ну, сказал человек глупость…
— Разве ж такое говорят?.. Разве ж такое говорят?..
Мелкон выбрался из постели, сел на тахту, закурил. Напротив, на втором этаже, засветился балкон, полоска света осветила лицо Мелкона. Какая-то старушка, опершись на перила, вытряхивала тряпки и, кончив, снова погасила свет.
— Нам и двух твоих строчек хватит, только пиши почаще.
Муж промолчал. Забрался с ногами на тахту и, ссутулившись, обнял колени.
— Иди ложись, простудишься.
— Как только обзаведусь деньгами — вышлю. Или пришлю детишкам одежонку.
— Ложись, простудишься, — Шамрик подумала немного и спросила: — А может, не возьмут, если заболеешь?
— «Не возьму-ут»! — передразнил Мелкон. — Сапожника Шмо вон с температурой взяли.
Мелкон слез с тахты, забрался в свою постель. Издалека донесся бой часов на площади. Шамрик хотела сосчитать удары, но дребезжанье трамвая помешало ей, сбило со счета. Громыхая ведрами, пошла за водой Аник. Вернулась поздно, видимо, заговорилась у крана. Соседский воришка-кот забрался на окно, просунул голову через прутья и замурлыкал; в темноте засветились кошачьи глаза.
— Мелкон, — тихо позвала Шамрик.
— А-а?..
— Не спишь?..
— Нет.
— Хочешь, приду к тебе?
— Иди, — помедлив, сказал Мелкон.
1969
НОЯБРЬ
Перевод Е. Шатирян
 В конце апреля директор высадил на пришкольном участке помидоры, перец, баклажаны, капусту, фасоль, и на грядках фасоли, словно рота солдат, выстроились в ряд прутья и палки. Речка Гетар, протекающая рядом с участком, весной, как обычно, вышла из берегов, затопила огород, разгромила и разметала палки, затем, угомонившись, вода отошла, оставив на земле толстый слой ила, из-под которого то тут, то там выглядывал хилый желтый цветок помидора. Директор, человек лет шестидесяти с лишним, истощенный сахарной болезнью, его жена и десяти-двенадцатилетний внук после полудня, разувшись, пошли на огород и принялись очищать от ила кустики, подняли полегший строй палок и прутьев, высадили новую рассаду. Потому часть урожая в этот год поспела к концу июля, а другая так и не успела созреть. Зато ученики смогли вблизи рассмотреть тонкие волосатые ноги директора, переходившего большими шагами от одной грядки к другой. Картина эта была настолько непривычной, что ученикам показалось, будто перед ними привидение.
А вот школьному сторожу — нет. Сторож не любил директора, потому что тот не позволил ему унести домой на топливо сломанные и списанные парты. Поэтому, увидев директора, сторож указал на него палкой и обратился к стоящим рядом ученикам:
— Поглядите-ка на него: ни дать ни взять настоящая цапля!
Урожай, созревший в июле — августе, присвоил себе сторож. Под вечер, когда в школе не оставалось ни души, он шел на огород, — что сорвет сегодня, а что оставит на завтра. Он бережно поворачивал помидоры так, чтобы сторона, оставшаяся в тени, увидела солнце. Уже покрасневшие помидоры он прикрывал листьями, чтобы директор не заметил и не сорвал их раньше. И так, ругая про себя директора, словно бы и не воруя, а лишь мстя ему, сторож унес весь урожай июля — августа. А в сентябре, когда начались занятия, прутья фасоли стали служить ребятам лошадками и ружьями, под зубами у них захрустели капустные кочерыжки, и директор после нескольких попыток урезонить их смирился с мыслью, что огород не его и он не имеет к нему никакого отношения. Директор произносил: «А плюс в в квадрате равняется…» Видел в окно учеников, перебегающих от грядки к грядке, жевал и проглатывал то, что собрался сказать дальше, потом, очнувшись, продолжал: «Равняется а квадрат, плюс два ав, плюс в квадрат».
Словом, сторож со своей семьей съел все спелое, ученики — полузрелое и недозрелое, а директор съел «а плюс в в квадрате», да к тому же заработал прозвище Цапля.
В конце апреля директор высадил на пришкольном участке помидоры, перец, баклажаны, капусту, фасоль, и на грядках фасоли, словно рота солдат, выстроились в ряд прутья и палки. Речка Гетар, протекающая рядом с участком, весной, как обычно, вышла из берегов, затопила огород, разгромила и разметала палки, затем, угомонившись, вода отошла, оставив на земле толстый слой ила, из-под которого то тут, то там выглядывал хилый желтый цветок помидора. Директор, человек лет шестидесяти с лишним, истощенный сахарной болезнью, его жена и десяти-двенадцатилетний внук после полудня, разувшись, пошли на огород и принялись очищать от ила кустики, подняли полегший строй палок и прутьев, высадили новую рассаду. Потому часть урожая в этот год поспела к концу июля, а другая так и не успела созреть. Зато ученики смогли вблизи рассмотреть тонкие волосатые ноги директора, переходившего большими шагами от одной грядки к другой. Картина эта была настолько непривычной, что ученикам показалось, будто перед ними привидение.
А вот школьному сторожу — нет. Сторож не любил директора, потому что тот не позволил ему унести домой на топливо сломанные и списанные парты. Поэтому, увидев директора, сторож указал на него палкой и обратился к стоящим рядом ученикам:
— Поглядите-ка на него: ни дать ни взять настоящая цапля!
Урожай, созревший в июле — августе, присвоил себе сторож. Под вечер, когда в школе не оставалось ни души, он шел на огород, — что сорвет сегодня, а что оставит на завтра. Он бережно поворачивал помидоры так, чтобы сторона, оставшаяся в тени, увидела солнце. Уже покрасневшие помидоры он прикрывал листьями, чтобы директор не заметил и не сорвал их раньше. И так, ругая про себя директора, словно бы и не воруя, а лишь мстя ему, сторож унес весь урожай июля — августа. А в сентябре, когда начались занятия, прутья фасоли стали служить ребятам лошадками и ружьями, под зубами у них захрустели капустные кочерыжки, и директор после нескольких попыток урезонить их смирился с мыслью, что огород не его и он не имеет к нему никакого отношения. Директор произносил: «А плюс в в квадрате равняется…» Видел в окно учеников, перебегающих от грядки к грядке, жевал и проглатывал то, что собрался сказать дальше, потом, очнувшись, продолжал: «Равняется а квадрат, плюс два ав, плюс в квадрат».
Словом, сторож со своей семьей съел все спелое, ученики — полузрелое и недозрелое, а директор съел «а плюс в в квадрате», да к тому же заработал прозвище Цапля.
* * *
С деревьев, посаженных вдоль школьной ограды, в начале сентября облетела листва. Ветер разнес по всему двору красные и желтые листья, забил ими небольшой ручеек, протекающий вдоль школьной стены. Вода смыла листья, собрала их в кучу, прибила к жухлой траве, растущей по берегу ручья, и продолжала течь под листьями, словно под землей. В начале ноября директор собрал учеников седьмого «Б» в классе у окна и сказал: — Посмотрите внимательно. Вам надо написать сочинение на тему «Листопад». Директор, правда, по специальности был математиком, но, поскольку заменить ушедшего на фронт учителя армянского языка было некому, он преподавал и армянский. На школьном дворе ученики увидели не только листопад. Преподаватель физкультуры раздал мальчишкам из третьего класса деревянные ружья, и они, не слушая его приказов, то валились на землю, то вставали, подтягивали штаны и целились из ружей друг в друга: — Тк-тк-тк-тк… Из окна седьмого «Б» третьеклассники в пестрой одежде очень были похожи на листья, разбросанные по двору. Ветер гонял по небу тучи, и от этого школьный двор освещался солнцем, становясь то золотисто-желтым, то пепельно-серым, а воздух был по-осеннему прозрачен. Казалось, от ветра на лицах мальчишек поднимался пушок, и они, сжав зубы, еще больше съеживались. — Встать! — скомандовал физрук, но не посмотрел, поднялись ли третьеклассники. Он заправил вылезший пустой рукав гимнастерки под ремень и большими шагами направился в другой конец двора к резвящимся ученикам, которые, размахивая ученическими сумками, сделанными из противогазных сумок, били друг друга по спинам и головам. Эти сумки были очень удобны для драки: держи за лямки, крути и бей. — Что вы делаете? — закричал физрук. — Ваши отцы кровь проливают, па-ни-ма-ешь! — Это слово он произнес по-русски. — А вы сумками от противогазов дубасите друг друга… Ребята из седьмого «Б» не смотрели на листья. Они смотрели на преподавателя физкультуры, который, поймав одного из мальчишек, шлепнул его. — Э-гей!.. — окликнул его пожарный, стоящий неподалеку от каланчи. Ему полагалось следить — не видно ли в городе дыма от пожара, но он больше смотрел на играющих на школьном дворе ребят. — Не стыдно тебе силу свою на детях показывать, эй?.. — Займись своим делом, — погрозил ему желтым от табака пальцем физрук. — Смотри, а то поднимусь к тебе, пожалеешь! — О-го!.. — с деланным испугом воскликнул пожарник. Дети загоготали. — Молчать! — крикнул на них физрук и хмурый вернулся такими же большими шагами к застывшим с ружьями в руках третьеклассникам. На школьном дворе на мгновение воцарилась тишина. С товарной станции донеслось шипение паровоза, потом с грохотом столкнулись пустые вагоны. Там кто-то засвистел. — Закройте окна и садитесь по местам, — сказал директор. Шаркая галошами, которые были на несколько размеров больше обуви, он отошел от окна, сел за стол и склонился над классным журналом: — Асланян!.. Класс оживился, затем со стуком откинулась крышка парты. — Здесь! — Андреасян. — Здесь. — Барсегян. Все оглянулись на средний ряд. Согласно заведенному порядку, должен был откликнуться бледный мальчик со второй парты. Он лениво поднялся с места, но вместо слова «здесь» сказал: — Это не наш журнал. Нет, ученики не боялись и не стеснялись директора, он был старым, даже дряхлым, поэтому они стукнули нарушителя по голове, и в классе поднялись шум и возня. — Прекратить! — поднявшись с места, крикнул директор. — Что вы за ученики? Ведь с таким трудом я прихожу в школу, чтобы научить вас хоть чему-нибудь, а вы устраиваете драку. Разве это дело?.. Сходи поменяй журнал. Какой у вас класс?.. — Седьмой «Б». — Принесешь журнал седьмого «Б», не спутай. Ведь и у меня есть внук, — покачивая головой, продолжал директор. — Ваш сверстник, но никогда не безобразничает… О своем внуке директор рассказывал постоянно. Он был просто ангелом — его внук: по всем предметам получал только «отлично», помогал по дому, каждый вечер перед сном писал письмо отцу и совершал еще тысячу добрых дел. Директор продолжал рассказывать, однако седьмому «Б» не к чему было знать, по каким предметам его внук получил «отлично». Они смотрели на рыжего, веснушчатого мальчика, который, привязав к нитке маленький подковообразный магнит и опустив его в щель между досками в полу, водил его взад-вперед в надежде найти старое перо. Директор вроде бы закончил свой рассказ о внуке, медленно прошелся, остановился возле второй парты в среднем ряду. — Ты правильно поступил, — сказал он и погладил бледного мальчика по голове. — Ваши отцы сражаются за то, чтобы вы чему-нибудь научились… Он хотел еще что-то сказать, но мальчик вдруг всхлипнул, опустил голову на руки, и плечи его затряслись. — Что такое? Что с тобой случилось?.. — Похоронка пришла… — Что?.. Что вы сказали?.. Сквозь закрытые окна донесся голос физрука: — Левой-правой, левой-правой!.. — Правду они говорят? Скажи, правду говорят?.. Мальчик, не отрывая головы от рук, кивнул. — Хочешь, отпущу тебя домой?.. Возле школы остановился грузовик, с шумом заработал мотор, и от этого на окнах зазвенели стекла. Затем грузовик тронулся с места, и гул мотора постепенно стих. — Открой окно, душно, — сказал директор и ослабил старый лоснящийся галстук. — Что вы молчите?.. Ну что же вы молчите?.. Рассердившись непонятно на кого, он подошел к открытому окну, скрестил руки на груди и застыл в такой позе. Сидящий в углу возле стены ученик заметил таракана, ползущего вверх по стене, дал ему подняться повыше, затем щелчком сбросил его на пол и, вновь оглянувшись на стоящего спиной к классу учителя, замер на месте. Рыжий веснушчатый мальчик осторожно вытащил из щели магнит, намотал на него нитку и положил в карман. — Я должен закурить, — сказал директор. Он достал коробку с табаком, скрутил дрожащими пальцами самокрутку. — Где погиб твой отец?.. — В Сталинграде. — В Сталинграде?.. — Он ладонью вытер со лба холодный пот. — А мой сын под Москвой. Директор неожиданно закашлялся. Когда он кашлял, на его тонкой длинной шее вздувалась и опускалась жила, а сам он содрогался всем телом. Директор долго кашлял, выбросил самокрутку в окно и посмотрел ей вслед. Самокрутка упала на металлолом, сваленный возле школьной стены. Его притащили сюда ученики — для фронта. — Левой, правой!.. Сколько вам повторять — крепче прижимайте винтовку к груди!.. — Чудак! — наконец отдышавшись, буркнул директор, но так, что все слышали. — Разве могут этакие малыши прижать такую огромную винтовку к груди?.. — Опустив голову, он задумчиво прошелся от стены к стене, все так же шаркая галошами. — Сочинение мы писать не будем?.. — Что?.. — Сочинение. — Гм… Какое там сочинение!.. Не путайте вы меня, не то у меня настроение. Сочинение должен писать девятый класс. Что вам задано?.. — Прилагательные. — Прилагательные? — он остановился, уставившись в пол, на секунду прикрыл глаза. — Это хорошо. Кто может составить предложение с прилагательным?.. Ну-ка ты ответь! — Черный хлеб. — Правильно. Скажи ты. — Белый хлеб. — А?.. Верно… ну, а теперь ты. — Матнакаш[8] и буханка! — Хватит насчет хлеба!.. Кончайте с хлебом!.. — Он сжал голову ладонями, помолчал и затем проговорил: — Сейчас я приведу предложение, а вы найдите в нем прилагательное. Как тебя зовут?.. — Саак. — Очень хорошо. Саак, Саак… У Саака кривой нос. Где тут прилагательное? — Кривой. — Молодец. Как тебя зовут?.. — Размик. — Ну вот. У Размика длинные, как у зайца, уши. — Длинные!.. — с хохотом выкрикнул класс. И на лице учителя появилась улыбка. Он составил еще несколько смешных предложений, и, когда вместе со всеми засмеялся бледный мальчик, сидящий за второй партой в среднем ряду, директор сказал: — Откройте тетради с домашним заданием. Он стал диктовать, ученики записывали, время от времени повторяя вслух слова. Предложения, которые он диктовал, не были смешными. Продиктованные им предложения были об опустевших осенних полях, пожелтевших лесах и холодных ручьях. Перья скрипели на бумаге, порой слышалось поскрипыванье ручек. С соседней улицы донесся звон колокола керосинщика, а когда звон прекратился, послышалось протяжное ржание. Это была лошадь керосинщика. — Опустевшие поля покрыл первый снег… — Учитель умолк, поднял очки на лоб. — Да перестаньте вы тормошить друг друга! Что вы делаете?.. Ученики, сидящие на задней парте в среднем ряду, что-то прятали друг от друга. — Они едят жмых. — Жмых?.. — директор опустил книгу на стол. — Жмых сои. — Дай-ка сюда. Он взял довольно большой желтый брусок, подошел к окну и, вновь опустив очки на нос, стал рассматривать его. Одна сторона бруска была влажной, на ней остались следы зубов, а другая сторона местами была перепачкана чернилами. — Вы же можете отравиться, — воскликнул директор и постучал пальцем по куску жмыха. — Нет, — по-взрослому ответил владелец бруска, — из него и обед готовят. — Много его у вас?.. — Да пока хватает. — Что за безобразие! — неожиданно рассердился директор. — Где это видано, чтобы во время урока ели жмых? — Он засунул жмых в карман, снова взял книгу. — После уроков подойдешь, отдам. А теперь продолжайте писать. Что я диктовал?.. — Опустевшие поля покрыл первый снег… — Да… Опустевшие поля покрыл первый снег, — раздельно продиктовал он. С соседней улицы вновь послышался звон колокола керосинщика.* * *
На берегу Гетара вдоль всего участка директор посеял семена веника. Вначале ученикам казалось, что это кукуруза, и они ждали, когда на ней повиснут зеленые и желтые кисточки. Потом, сообразив, что это, они переломали, перетоптали ростки, а если где веник и остался, зацвел и дал семена — ребята оборвали эти семена и во время уроков выдували их через металлические трубочки друг другу в лицо. Очень удобная штука эти семена: они летят далеко и больно бьют. В жаркие дни ребята, побросав свои портфели возле стеблей, раздевались и заходили в воду. Они углубили в том месте русло речки, перегородили камнями, вода поднялась и замедлила течение. А когда наступили холода, ученики группами забирались в заросли и, спрятавшись там от посторонних глаз, играли в перышки или в бабки, отчего земля там была утоптанной и ровной. После уроков седьмой «Б» не сразу пошел в заросли. Они сначала проверили дверь директорского кабинета, она была заперта, потом побежали в учительскую — и там его не было, затем с шумом пробежали по этажам, открывая двери всех классов и раздражая учителей второй смены. — Кого вы ищете? — зевая спросил сторож. — Директора?.. Какой там директор, скажи просто Цапля, и все. Никуда он не уходил, вон сидит у себя в кабинете. Седьмой «Б» помчался обратно. Нет, директора не было. Они пытались заглянуть в замочную скважину, это им не удалось. Из-за ключа в скважине ничего не было видно. Затаив дыхание, они прислушались — ни звука. Убедившись, что директора нет, ученики загалдели и, забыв про жмых, размахивая портфелями, ударяя друг друга, побежали к зарослям веника. Был солнечный полдень. Чуть дальше зарослей, возле растоптанных листьев капусты, лежала, закрыв глаза, черная собака, обычно бродившая возле хлебного магазина, и кормила своих щенят. Какая-то старуха, стоя на краю огорода, следила за своим единственным гусем, плавающим в реке. Из мусорного ящика, стоявшего возле фонарного столба, валил густой дым, хотя пламени не было видно. Когда поднимался ветерок — дым колебался, покачивались пожелтевшие стебли, шуршали листья, и, если седьмой «Б», присевший в зарослях, на секунду замолкал, со школьного двора доносился голос преподавателя физкультуры: — Раз-два, раз-два, левое плечо — вперед!.. Неожиданно заросли раздвинулись, и над головами у седьмого «Б» появился директор. Ученики замерли. Затем они медленно, по одному поднялись, оставляя на земле тонкие, сточенные по бокам, перепачканные чернилами бабки. Снова заколыхался дымок, зашуршали листья, с противоположного берега Гетара возле глинобитных домишек послышался голос керосинщика: — По четвертому купону, по четвертому!.. Сколько раз говорить?!.. Директор задумчиво смотрел на учеников и молчал. Начал что-то говорить, но голос у него сорвался, а может, у него пересохло в горле? Крепко сжав губы, он безостановочно двигал кадыком, и вместе с кадыком приходили в движение обвисшие щеки. Наконец он проглотил слюну и сказал: — А вы не ешьте жмых во время урока. Ведь есть же для этого перемена?.. Ребята увидели в руках у директора кусок жмыха. Он аккуратно завернул его в исписанный листок из ученической тетради. На листке кое-где были сделаны исправления красным карандашом. Он сунул жмых первому попавшемуся ученику и, не глядя ни на кого, буркнул: — Вы что, думаете, мой внук не хочет есть? Директор повернулся и медленно пошел прочь, собирая отворотами брюк семена верблюжьей колючки. Наверное, он на ходу говорил сам с собою, так как ученики видели его правую жестикулирующую руку. — Встать!.. Лечь!.. Винтовку вперед!.. — донесся до зарослей голос учителя физкультуры. На товарной станции паровоз с шумом выпустил облачко пара, оно поднялось за пожарной каланчой, превратилось в лоскутья и растаяло в воздухе. 1969ЦМАКУТ
Перевод К. Кафиевой
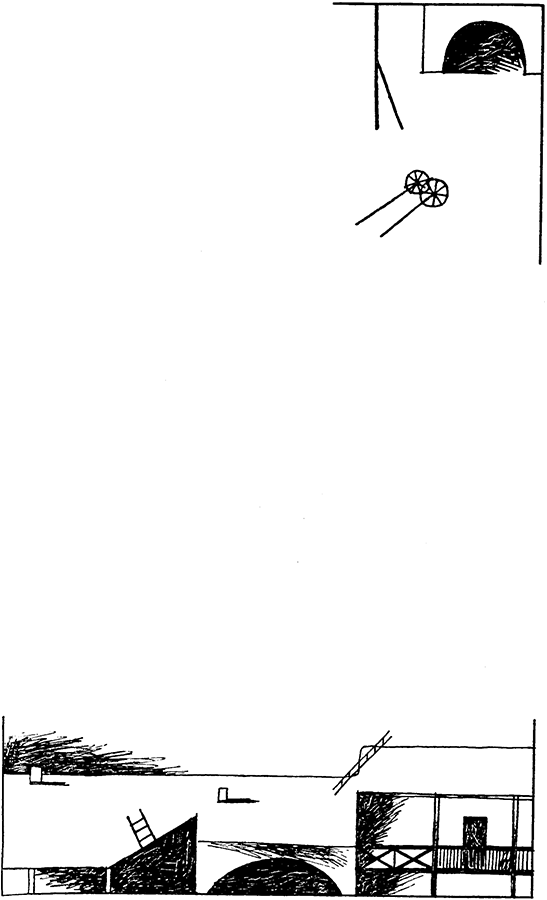 — Вот шлагбаум, видите? Ступайте к нему да подождите. Бывает, машины туда заезжают за грузом. Попроситесь — может, и подвезут вас.
— Чего там проситься? — бросил малый, подпиравший стенку.
Я взглянул на него. Это был смуглолицый парень лет двадцати, в брюках модного покроя «холидей». Брюки были неглаженые, грязные.
— Подбросьте чего-нибудь, — продолжал парень, — так и вас подбросят. Чего там проситься? — И стал высвистывать одну из песенок Рози Армен.
У самого шлагбаума стоял вагон. Голый по пояс мужчина, тоже насвистывая, грузил дрова; мелькали руки его напарника, выглядывавшего из вагона. Рабочий свистел с усердием, и, хотя среди поленьев попадались тяжеленные, свист его нисколько не ослабевал.
В тени вагона сидело рядышком человек десять — двенадцать. Тень постепенно укорачивалась, и люди сбивались все теснее, время от времени лениво обмахиваясь мокрыми платками.
— Ну, жарища!
Они вяло роняли слова, разморенные длительным ожиданием, и иногда внимательно и молча упирались глазами в нас — в меня и жену, опустивших рюкзаки на землю и стоявших на солнцепеке. Понятно, мы были чужаками. Они молчали, молчали, и наконец один не выдержал:
— Куда это путь держите?
Я подошел к ним.
— В село Цмакут.
— Ц-ма-кут?
— Что же в этом особенного?
— Да ничего.
— Цмакут?
— Ну да, нам надо в Цмакут.
— Гм-гм-м… трудненько это…
Я много слышал о Цмакуте, знал, что от станции Туманян до Цмакута около тридцати километров пути. Так что же тут «трудненького»?
— Дорога трудная, дорога! — пояснили они. — Туда маловато ездят.
— Небось по делу вы, не ради забавы, — сказал мужчина с рябым лицом и насмешливо уставился на мои темные очки.
Я снял очки.
— Слава богу, — оживился он, — хоть увидим, какое у тебя лицо. К кому едете?
— К товарищу.
— А что, разве автобус здесь не ходит? — наивно удивилась моя жена. Мы, мол, городские, привыкли к автобусу.
Мы сели на грузовик, перевозивший муку. Ладно, это не беда. Нам-то всего день вытерпеть, несколько часов. Вытерпим. Машину вот жаль, машину… Она ныла, постанывала, жаловалась… Да, дорога была, прямо скажем, не гладкая. Сидевший рядом со мной старичок разговорился — о картошке, о сенокосе, о том о сем. Потом заерзал, устраиваясь поудобнее, и вдруг завел речь о скотине. Скотина болеет…
— Отец, а ты что, работаешь?
— А как же! — Он разгладил усы, приосанился, прокашлялся. — Я пастухом работаю. По-вашему — животноводом. — Подумав и словно с кем-то мысленно споря, он нахмурился и добавил: — Пока есть в руках сила, буду работать.
…Моя жена, вскрикнув, закрыла глаза: мы замерли на краю пропасти. Храбрясь, я стал успокаивать ее, а водитель высунулся из кабины и как ни в чем не бывало спросил:
— Что случилось, сестренка?
Уже потом, когда машина снова запричитала на ухабах, я взорвался:
— Ну ладно, скажем, дорогу не отутюжишь. А вертолет приобрести — тоже проблема?
— Вот если бы из тех, больших… — подхватил старичок.
Это он об «Ил-18».
Село Туманян прервало наш разговор.
— Вот шлагбаум, видите? Ступайте к нему да подождите. Бывает, машины туда заезжают за грузом. Попроситесь — может, и подвезут вас.
— Чего там проситься? — бросил малый, подпиравший стенку.
Я взглянул на него. Это был смуглолицый парень лет двадцати, в брюках модного покроя «холидей». Брюки были неглаженые, грязные.
— Подбросьте чего-нибудь, — продолжал парень, — так и вас подбросят. Чего там проситься? — И стал высвистывать одну из песенок Рози Армен.
У самого шлагбаума стоял вагон. Голый по пояс мужчина, тоже насвистывая, грузил дрова; мелькали руки его напарника, выглядывавшего из вагона. Рабочий свистел с усердием, и, хотя среди поленьев попадались тяжеленные, свист его нисколько не ослабевал.
В тени вагона сидело рядышком человек десять — двенадцать. Тень постепенно укорачивалась, и люди сбивались все теснее, время от времени лениво обмахиваясь мокрыми платками.
— Ну, жарища!
Они вяло роняли слова, разморенные длительным ожиданием, и иногда внимательно и молча упирались глазами в нас — в меня и жену, опустивших рюкзаки на землю и стоявших на солнцепеке. Понятно, мы были чужаками. Они молчали, молчали, и наконец один не выдержал:
— Куда это путь держите?
Я подошел к ним.
— В село Цмакут.
— Ц-ма-кут?
— Что же в этом особенного?
— Да ничего.
— Цмакут?
— Ну да, нам надо в Цмакут.
— Гм-гм-м… трудненько это…
Я много слышал о Цмакуте, знал, что от станции Туманян до Цмакута около тридцати километров пути. Так что же тут «трудненького»?
— Дорога трудная, дорога! — пояснили они. — Туда маловато ездят.
— Небось по делу вы, не ради забавы, — сказал мужчина с рябым лицом и насмешливо уставился на мои темные очки.
Я снял очки.
— Слава богу, — оживился он, — хоть увидим, какое у тебя лицо. К кому едете?
— К товарищу.
— А что, разве автобус здесь не ходит? — наивно удивилась моя жена. Мы, мол, городские, привыкли к автобусу.
Мы сели на грузовик, перевозивший муку. Ладно, это не беда. Нам-то всего день вытерпеть, несколько часов. Вытерпим. Машину вот жаль, машину… Она ныла, постанывала, жаловалась… Да, дорога была, прямо скажем, не гладкая. Сидевший рядом со мной старичок разговорился — о картошке, о сенокосе, о том о сем. Потом заерзал, устраиваясь поудобнее, и вдруг завел речь о скотине. Скотина болеет…
— Отец, а ты что, работаешь?
— А как же! — Он разгладил усы, приосанился, прокашлялся. — Я пастухом работаю. По-вашему — животноводом. — Подумав и словно с кем-то мысленно споря, он нахмурился и добавил: — Пока есть в руках сила, буду работать.
…Моя жена, вскрикнув, закрыла глаза: мы замерли на краю пропасти. Храбрясь, я стал успокаивать ее, а водитель высунулся из кабины и как ни в чем не бывало спросил:
— Что случилось, сестренка?
Уже потом, когда машина снова запричитала на ухабах, я взорвался:
— Ну ладно, скажем, дорогу не отутюжишь. А вертолет приобрести — тоже проблема?
— Вот если бы из тех, больших… — подхватил старичок.
Это он об «Ил-18».
Село Туманян прервало наш разговор.
* * *
Утром мы встали спозаранок. Солнце еще не всходило. Авет в новой рубахе, привезенной братом, включил радиоприемник, который загорланил на все село какой-то марш. Уста прилаживал веревку к рогам ягненка, а ягненок не давался, мотал головой. После стрижки он выглядел совсем крохотным. Мать остановила мою жену: — А ну — назад! Надевай самое нарядное. Наша процессия двинулась по дороге, огибавшей село. Ягненок упирался, отставал, ковыляя на больных ножках, подскакивая от боли, уста тянул его за веревку. Не поднимая головы, мать и жена моя шли со свечками в руках. Несколько раз нас останавливали. — За внука матах? — Ага. — Айваз не вернулся? Уста отвечал: — Какая разница? Товарища прислал. А это жена его… Из холодной тишины утра до нас доносились звуки марша. Зоравором назывался каменный крест, установленный на скале.ТОСКА
Перевод Л. Бояджяна
 Машина мусорщика, как и всегда, приехала в тот же ранний утренний час, мусорщик забил в свой колокол, поднял во дворе переполох; на лестницах встретились женщины с ведрами — заспанные, нечесаные, — вполголоса сказали друг другу «доброе утро», заторопились к машине, потом, помахивая пустыми ведрами, прошли обратно.
На дворе было еще темно. Неспешно, словно ленясь, падал на землю снег. Бродячая собака с поджатым хвостом, зябко дрожа, посматривала на ведра, с грохотом опрокидывающиеся в кузов машины, и тихонько поскуливала. Потом машина отъехала, и собака затрусила за ней.
Когда Анна с пустым ведром вернулась домой, Баграт в ночной пижаме, свесившись с кухонной тахты, на ощупь искал под ней шлепанцы. Один шлепанец он уже нашел и надел, второго не находил. Анна прошла вперед, поддела ногой шлепанец, валявшийся у двери, подтолкнула к мужу, поставила ведро на место и, еще поеживаясь от уличного холода, зажгла газ под чайником. Баграт зевнул, чесанул затылок, потянулся, хрустнув суставами, и, слегка пошатываясь, вошел в ванную.
Со двора соседнего здания снова донесся набат мусорщика.
Анна взяла с кухонной тахты постель Баграта, отнесла в комнату, кинула на свою неприбранную постель.
— Вставайте, — повернулась она к детям, спящим в кроватках с металлическими прутьями.
Дети и не шевельнулись. Анна включила свет, подошла к кроваткам, стянула с детей одеяла и шлепнула их по голым ягодицам. От прикосновения ее холодной руки сын подскочил, вцепился в край одеяла, снова натянул на себя и съежился под ним.
— Пусть сначала Нунэ встанет, потом я, — пробормотал он, не открывая глаз.
— Началось, — нахмурившись, вздохнула Анна и повысила голос: — Кому говорят, вставайте!
Шум воды в ванной оборвался, затем в дверях с полотенцем в руках появился Баграт.
— Козлятушки-ребятушки, вставайте!
— Это все ты их портишь, — проворчала Анна и, слегка оттолкнув мужа, прошла на кухню, принялась готовить завтрак. — По арифметике получили двойки, — нарезая сыр, сказала она, — эти твои козлятушки… Сто раз говорила: унеси эту дрянь, не надо мне…
«Эта дрянь» — был телевизор, который Баграт недавно купил специально для Анны. Не предупредив, ни слова ей не сказав, он притащил телевизор домой и, шатаясь под его тяжестью, улыбнулся Анне.
— Что ты наделал?! — растерялась Анна. — Теперь их разве усадишь за уроки? О чем ты думал?
— Пусть только попробуют, — глянул отец на визжащих от восторга детей. — Тебе же надо чем-то развлечься…
— …Вот теперь попробуй — оторви! Сидят как приклеенные, — продолжила из кухни Анна, сняла с плиты кипящий чайник и, прислушиваясь к радостному визгу из комнаты, позвала: — Баграт, да хватит же, Баграт!..
Она и не глядя знала, что Баграт повалил детей на кровать сына, и все трое визжат и кричат от восторга и радости. Игра была все та же: дети — козлятушки, а отец — волк. Баграт рычал, кусал — кого за щеку, кого за ногу, а дети, задыхаясь от смеха, тянули отца за уши, за нос, наскакивали на него, душили. И если б не Анна, кто знает, как долго длились бы эти самозабвенные мгновения утоления тоски?.. Конечно, Анна понимала, что они тоскуют друг по другу. Но ведь детям надо еще одеться, умыться, позавтракать и потом в школу…
С напускным гневом на лице она вошла в комнату и увидела, что муж лежит на полу, а дети сидят на его спине.
— Баграт, Баграт… — укоризненно сказала она. — Нет, у меня не двое детей, у меня их трое. Я же вчера выстирала, выгладила, — вздохнула она, глядя на ночную пижаму мужа, вышла на кухню, включила радио.
Радио захрипело. Все знали, что когда сосед за стеной включает электробритву, радио начинает хрипеть, а это означает, что уже действительно поздно.
— Да, поздно, — очнулся Баграт и поднялся. — Одевайтесь, — сказал он детям и сам начал одеваться.
Дети все еще были в игре, рычали и брыкались, нехотя натягивая одежду. Мать, озабоченно смотревшая на их щупленькие тельца, вдруг встряхнулась:
— Долго я буду ждать?
— Почему по арифметике двойки? — надевая туфли, спросил Баграт.
— Из-за задачки про бассейн, — сердито глянула на детей Анна. — Я и решила, и объяснила… Их к доске вызвали, а они как воды в рот набрали.
— Сколько раз говорил, не решай вместо них задач…
— Эх, — вздохнула Анна, — посидел бы ты с ними денек, тогда бы я с тобой поговорила. — И что-то сердито бормоча, ушла на кухню, начала разливать по стаканам чай.
Пока муж и дети пили чай, Анна завернула в бумагу завтраки, сунула в портфели сына и дочери, положила сушившиеся на батарее башмаки у двери, вспомнила, что на пальто дочери оторвана пуговица, быстренько, не присаживаясь, пришила ее.
Спустя немного Баграт и дети вышли из дома.
Машина мусорщика, как и всегда, приехала в тот же ранний утренний час, мусорщик забил в свой колокол, поднял во дворе переполох; на лестницах встретились женщины с ведрами — заспанные, нечесаные, — вполголоса сказали друг другу «доброе утро», заторопились к машине, потом, помахивая пустыми ведрами, прошли обратно.
На дворе было еще темно. Неспешно, словно ленясь, падал на землю снег. Бродячая собака с поджатым хвостом, зябко дрожа, посматривала на ведра, с грохотом опрокидывающиеся в кузов машины, и тихонько поскуливала. Потом машина отъехала, и собака затрусила за ней.
Когда Анна с пустым ведром вернулась домой, Баграт в ночной пижаме, свесившись с кухонной тахты, на ощупь искал под ней шлепанцы. Один шлепанец он уже нашел и надел, второго не находил. Анна прошла вперед, поддела ногой шлепанец, валявшийся у двери, подтолкнула к мужу, поставила ведро на место и, еще поеживаясь от уличного холода, зажгла газ под чайником. Баграт зевнул, чесанул затылок, потянулся, хрустнув суставами, и, слегка пошатываясь, вошел в ванную.
Со двора соседнего здания снова донесся набат мусорщика.
Анна взяла с кухонной тахты постель Баграта, отнесла в комнату, кинула на свою неприбранную постель.
— Вставайте, — повернулась она к детям, спящим в кроватках с металлическими прутьями.
Дети и не шевельнулись. Анна включила свет, подошла к кроваткам, стянула с детей одеяла и шлепнула их по голым ягодицам. От прикосновения ее холодной руки сын подскочил, вцепился в край одеяла, снова натянул на себя и съежился под ним.
— Пусть сначала Нунэ встанет, потом я, — пробормотал он, не открывая глаз.
— Началось, — нахмурившись, вздохнула Анна и повысила голос: — Кому говорят, вставайте!
Шум воды в ванной оборвался, затем в дверях с полотенцем в руках появился Баграт.
— Козлятушки-ребятушки, вставайте!
— Это все ты их портишь, — проворчала Анна и, слегка оттолкнув мужа, прошла на кухню, принялась готовить завтрак. — По арифметике получили двойки, — нарезая сыр, сказала она, — эти твои козлятушки… Сто раз говорила: унеси эту дрянь, не надо мне…
«Эта дрянь» — был телевизор, который Баграт недавно купил специально для Анны. Не предупредив, ни слова ей не сказав, он притащил телевизор домой и, шатаясь под его тяжестью, улыбнулся Анне.
— Что ты наделал?! — растерялась Анна. — Теперь их разве усадишь за уроки? О чем ты думал?
— Пусть только попробуют, — глянул отец на визжащих от восторга детей. — Тебе же надо чем-то развлечься…
— …Вот теперь попробуй — оторви! Сидят как приклеенные, — продолжила из кухни Анна, сняла с плиты кипящий чайник и, прислушиваясь к радостному визгу из комнаты, позвала: — Баграт, да хватит же, Баграт!..
Она и не глядя знала, что Баграт повалил детей на кровать сына, и все трое визжат и кричат от восторга и радости. Игра была все та же: дети — козлятушки, а отец — волк. Баграт рычал, кусал — кого за щеку, кого за ногу, а дети, задыхаясь от смеха, тянули отца за уши, за нос, наскакивали на него, душили. И если б не Анна, кто знает, как долго длились бы эти самозабвенные мгновения утоления тоски?.. Конечно, Анна понимала, что они тоскуют друг по другу. Но ведь детям надо еще одеться, умыться, позавтракать и потом в школу…
С напускным гневом на лице она вошла в комнату и увидела, что муж лежит на полу, а дети сидят на его спине.
— Баграт, Баграт… — укоризненно сказала она. — Нет, у меня не двое детей, у меня их трое. Я же вчера выстирала, выгладила, — вздохнула она, глядя на ночную пижаму мужа, вышла на кухню, включила радио.
Радио захрипело. Все знали, что когда сосед за стеной включает электробритву, радио начинает хрипеть, а это означает, что уже действительно поздно.
— Да, поздно, — очнулся Баграт и поднялся. — Одевайтесь, — сказал он детям и сам начал одеваться.
Дети все еще были в игре, рычали и брыкались, нехотя натягивая одежду. Мать, озабоченно смотревшая на их щупленькие тельца, вдруг встряхнулась:
— Долго я буду ждать?
— Почему по арифметике двойки? — надевая туфли, спросил Баграт.
— Из-за задачки про бассейн, — сердито глянула на детей Анна. — Я и решила, и объяснила… Их к доске вызвали, а они как воды в рот набрали.
— Сколько раз говорил, не решай вместо них задач…
— Эх, — вздохнула Анна, — посидел бы ты с ними денек, тогда бы я с тобой поговорила. — И что-то сердито бормоча, ушла на кухню, начала разливать по стаканам чай.
Пока муж и дети пили чай, Анна завернула в бумагу завтраки, сунула в портфели сына и дочери, положила сушившиеся на батарее башмаки у двери, вспомнила, что на пальто дочери оторвана пуговица, быстренько, не присаживаясь, пришила ее.
Спустя немного Баграт и дети вышли из дома.
* * *
Баграт и Анна знали друг друга давно. Годы назад они учились в одном и том же институте, на одном и том же курсе, в одной и той же группе. В то время высокая красивая Анна не замечала Баграта, у нее и в мыслях не было, что она свяжет свою жизнь с этим незаметным, тихим парнем. В то время и сердцем, и умом ее владел учившийся двумя курсами старше Ваграм — вечно улыбающийся, неуемный гитарист, способный свести с ума любую девушку. Никто не понимал, зачем Ваграм пошел в политехнический. Ему бы певцом быть, киноартистом, а вот поди, когда хотел — учился, и даже на «отлично». В то время отец частенько корил Анну. — Ну, что ты нашла в этом шалопае? — говорил он и поглядывал на туфли дочери. — На таких плясунь не напасешься обуви! Дожить бы мне да поглядеть, как он будет семью содержать… — Ничего, — успокаивала мать отца, — молода еще, пусть дружит с кем хочет. Это-то и не забывается. Мать говорила, улыбаясь печально, а Анна мысленно удивлялась ее наивности: а почему и после замужества нельзя дружить? Анна ясно представляла свою будущую жизнь с Ваграмом: сыграют свадьбу, поженятся, а друзей им, слава богу, не занимать — сегодня у одних соберутся, повеселятся, завтра — у других, и так всегда… Но приехавшая из России голубоглазая красавица заарканила Ваграма и увезла с собой в Ленинград, а Баграт, сразу после защиты диплома, в институтском коридоре взял ее за руку и вот так сразу, ни с того ни с сего сказал: — Люблю тебя… — Как так? — Да вот так. Кому другому Анна, может, и не поверила бы, но Баграт словами не бросался, и Анна чистосердечно призналась ему: — О тебе я никогда не думала. — Думай, — сказал он, отпустил ее руку и ушел. Потом серьезность и молчаливость Баграта, его задумчивый взгляд, его слова и поступки стали постепенно осмысляться в сознании Анны, и она даже удивилась: как до сих пор не замечала его? Спустя год Ваграм вернулся из Ленинграда, снова позвонил, и уже по голосу Анна почувствовала, что Ваграм изменился. — Прошу мне не звонить, — с трудом сдерживая волнение, сказала Анна. — У меня муж. А если попробуешь звонить… а если попробуешь звонить — скажу Баграту. — Не позвоню. Будьте счастливы. — Ваграм помолчал, потом сказал: — Конечно, твой Баграт, по масштабам его деревни, чемпион мира. — А ты не изменился. Все тот же. — Тот же? Тот самый? — Да, тот самый. — Где уж там… — Ну что, уму-разуму поучили да назад отправили? — Ничего, бывает. — Самолюбия у тебя ни на грош! — крикнула Анна и бросила трубку. Вечером, когда она рассказала об этом Баграту, он сказал: — Зря обидела. Если еще позвонит, пригласи к нам. Ваграм больше не звонил. После окончания института Анна поработала недолго. Вместе с мужем они поступили в один и тот же НИИ, в один и тот же отдел. Анна очень тяжело переносила беременность. Правда, руководитель делал вид, что не замечает многочасовую бездеятельность Анны, иногда отпускал ее с работы пораньше, но Баграт не хотел оставаться в долгу: уносил домой работу жены, чертил по ночам, утром сдавал руководителю. Потом родились двойняшки. Обрадовались, наспех устроили пирушку, покутили… и растерялись: кто приглядит за малышами? Мать Анны едва успевала с другими внуками. Баграт надумал было привезти из деревни мать, но на кого оставить старика отца? А если и отца привезти, как им всем уместиться в одной комнате? О яслях они и не думали: дети были слабые, болезненные, и единственный выход был в том, чтоб Анна оставила работу. Забирая трудовую книжку в отделе кадров, Анна, смущаясь, сказала: — Подрастут немного, вернусь на работу. Но когда завертелась она по дому, как начались стирки-постирушки да кашки-манки, а после детей в школу водить, и из школы приводить, и по вечерам уроки с ними готовить, и еще не забыть массу мелочей… когда эта домашняя круговерть до предела, до пресыщения заполняющая ее день, стала непреложным фактом, Анна мало-помалу примирилась с мыслью, что еще не скоро вернется к работе. Всю заботу о доме она взвалила на свои плечи, лишь бы Баграт поскорее защитил диссертацию. Она хорошо понимала, что с защитой диссертации многое изменится: зарплата Баграта удвоится, реальнее станет возможность получить квартиру, и вообще изменится очень многое. Теперь она была рада, что родила двойню, что не с каждым в отдельности готовит уроки, что для обоих она решает одни и те же задачки по арифметике. Теперь Баграт приходил с работы, торопливо обедал, забирал свои бумаги и уходил в библиотеку, а вернувшись домой, на цыпочках, чтоб не разбудить жену и детей, проходил на кухню, съедал приготовленный для него и заботливо прикрытый бумажной салфеткой ужин и ложился в постель, расстеленную на кухонной тахте. Теперь для Анны и Баграта самым лучшим из всех дней недели была суббота, когда дети уходили в школу, когда Баграт оставался дома и они могли долго нежиться в постели. Но и сладкий дурман постели не был всесилен, не дарил полного забытья, и в постели не забывались ни диссертация, ни домашние заботы и нужды, и все это медленно и незаметно стирало, притупляло желание близости… И все равно, для них обоих самым желанным из всех дней недели была суббота.* * *
Проводив мужа и детей, Анна допила оставленный дочерью чай, с аппетитом позавтракала, убрала со стола, вымыла грязные стаканы и тарелки и поставила их сушиться. Намечалась глажка: Анна уложила белье на кухонный стол, побрызгала водой, свернула в комок и пошла в спальню прибрать постели. По радио передавали приятную музыку; Анна начала тихонько подпевать и, забыв даже о глажке, взялась за веник. Снег прекратился. На мгновение даже солнце заиграло, луч пронзил окно. Анна открыла балконную дверь, там лежал снег, и Анна не пошла дальше, осталась стоять в дверях. Приятен был бодрящий морозный утренний воздух. Во дворе Арус собирала развешанное на ночь белье. Простыни задеревенели, смерзлись с веревкой; Арус подтягивалась, отдирала простыню от веревки, с хрустом ломала ее, укладывала в таз и, согрев руки дыханием, снова тянулась к веревке. Анна вспомнила, что муж Арус — заведующий магазином — всегда с неприкрытым вожделением смотрит на нее, Анну. Еще издали завидев ее, останавливается, ощупывает взглядом с ног до головы. — Ни в чем не нуждаешься? — спрашивает он с многозначительной улыбкой. — Нет, спасибо. — Ты помни: для соседа я и жизни своей не пожалею. Анна, опустив глаза, проходит мимо, и еще долго ощущает на своем затылке, да и ниже, его липкий, оголяющий взгляд. Зазвонил телефон. Анна встряхнулась, закрыла балконную дверь, с веником в руках подошла к телефону. Обычно в это время звонила мать. — Это я, — сказал Баграт. — Что делаешь? — А ты не знаешь? — Меня вызвал Григорян. — По квартирному вопросу? — Да нет, совсем другое дело. — Ну? — Пригласил к себе домой. Сказал, что Новый год будем встречать вместе. — А-а! — разочарованно протянула Анна. — Вместе пойдем. — Куда пойдем? — К ним домой. — А я тут при чем? — Да ты что? — выдохнул Баграт, и Анна почувствовала, что муж взволнован. — Если тебе так хочется — иди, — нахмурилась Анна. — Хоть раз в году могли бы побыть все вместе… — Да ты понимаешь или нет? Ведь вместе и пойдем. — Легко говорить. А детей на кого оставим? — Отведем к вашим. — Нет, — отрезала Анна. — Ты-то иди куда хочешь. А в такой день я детей одних не оставлю. — Послушай, — смягчился Баграт, — я приду пораньше, вместе с детьми нарядим елку, весь вечер проведу с ними, часов в одиннадцать отведем их к вашим и… — Не хочу. — Пойдем, и точка! — сказал Баграт и прервал разговор. — Какой же ты!.. — потрясая трубкой, воскликнула Анна со слезами на глазах. — Ну какой ты!.. — И, всячески попрекая мужа, она пошла на кухню, достала из своего тайника в шкафу сигарету, закурила и села на тахту. Никто не знал, что Анна курит. Правда, когда она встречалась с Ваграмом, он на вечеринках предлагал ей сигарету, сам подносил огонек, сам вкладывал ей сигарету в губы и ждал, пока она незаметно поцелует его пальцы. Но это было попросту кокетничанье, девичьи шалости, подражание красавицам экрана. А пристрастилась Анна к курению гораздо позже, когда свыклась с одиночеством, когда, устав от хлопот по дому, опустошенная, усаживалась на минутку в своем любимом уголке на кухне и чувствовала, как давит на нее молчание стен. Анна закурила, подумала о Григоряне — этом известном ученом с внушительным лицом и седыми волосами, который был односельчанином мужа, директором мужа и руководителем его диссертации. К Баграту он относился хорошо, просматривая проделанную работу, всегда похлопывал его по плечу и приговаривал: «Вроде бы все правильно. Но ты еще раз проверь, человече, не то и себя осрамишь, и меня, и всю нашу деревню…» — Ну, что мне делать у них дома?! — снова заспорила с мужем Анна. — Тебе надо — ну и иди! Красная лампочка теплорегулятора утюга то зажигалась, то гасла, но Анна этого не замечала. Какая-то ленная слабость окутала ее, и делать ей ничего не хотелось. «Вставай!» — мысленно приказывала она себе и оставалась сидеть. От маленькой церквушки, с четырех сторон зажатой новыми высотными зданиями, до Анны дошел перезвон колоколов: дин-дон дин-дон… Анна встала, погасила сигарету и принялась за глажку, мысленно продолжая ссориться с мужем. Платье дочери, сорочки мужа и сына… Она гладила старательно и бережно, укладывала в стопку, снова бралась за утюг. Анна так была поглощена работой, что не услышала стука в дверь, и в дверь постучали снова. В дверях со стаканом в руках стояла соседка Седа. — Мука кончилась. Дай немного… Пока Анна возилась в шкафу, Седа прошла за ней на кухню и недовольно сказала: — И кто придумал этот Новый год? — Мужчины придумали. Женщины на это бы не пошли. — Мучное приготовила? — спросила Седа. — Вот собираюсь. Обещала детям гату. — А когда успеешь? — Не знаю. Глажку еще надо кончить, на рынок сходить, из школы привести… — Да, — самодовольно сказала Седа, — а я свои дела почти закончила. — Обед еще надо приготовить, — чуть покраснев от смущения, продолжила Анна. — А он все свое твердит. — Кто? — Баграт, кто еще… — А что случилось? — Говорит, вечером в гости пойдем. — Куда? — К его директору. — A-а, — словно завидуя, улыбнулась Седа. — Ничего, успеешь. — Скажем, успела. А детей на кого оставлю? — Приведи к нам. С моими малышами порезвятся, Новый год встретят… — Я никогда их одних не оставляла. — Ничего страшного… Ты волосы накрути. Или в парикмахерскую пойдешь? — Какая еще парикмахерская… Седа с завистью оглядела густые черные волосы Анны. — За детей будь спокойна. — А останутся? — С чего не остаться? А спать захотят — уложу. Ты волосы накрути. — Нет, — сказала Анна, — не накручу. Если пойдем, сделаю прическу… Анна подошла к зеркалу, распустила волосы, тряхнула головой и осмотрела себя. — Да ты помолодела, девчонкой стала… — А? — сказала Анна. — Ничего? — Сзади надо чуть подправить. Хочешь, подрежу? — Подрежь. Соседка подложила под ее волосы полотенце, защелкала ножницами, словно заправский парикмахер, отступила на шаг, глянула, прищурившись, и снова щелкнула ножницами. — К этой прическе пойдет платье с глубоким вырезом. Анна открыла дверцу гардероба. Нарядов было немного: в основном платья времен девичества, со следами былой роскоши. — Если хочешь, можешь выбрать что-нибудь у меня. — Нет, — сказала Анна, достала голубое платье, чуть приподняла, повертела его и снова повесила на место. — Разве мы женщины! — глубоко вздохнув, начала Седа, но Анна, поняв, что ее монолог будет не краток, тут же прервала ее: — Что печешь? — Торт. Наши гату не любят. — Извини, — заставила себя улыбнуться Анна, — глажка… Соседка взяла полный стакан муки и молча вышла.* * *
Когда Баграт с деревянным крестом для елки вернулся домой, было уже темно. — Ну-ка! — сняв пальто, весело крикнул он и высоко поднял свежевыструганный крест. Дети не двинулись с места. Услышав голос отца, брат и сестра, сидящие в углу комнаты лицом к стене, заревели еще громче. — Что это они? — войдя на кухню, спросил Баграт. Анна не взглянула на мужа. Наклонилась, мокрой тряпкой подправила противень с гатой в духовке газовой плиты. — Анна… — Что тебе?! — выпрямившись, выдохнула жена, отошла, села на тахту с мокрой тряпкой в руках. Ее лоб был в мелких капельках пота, в пятнах муки, взгляд тупой, усталый. — Что вы хотите от меня? — спокойно и равнодушно сказала она. Баграт вернулся в комнату, подошел к детям и только сейчас заметил, что платье дочери разорвано от подола до талии. — Хватит, — сказал он. — Сейчас будем наряжать елку. — Не нужна нам елка, — всхлипывая, сказал сын. — Почему она нас побила? — И очень хорошо сделала! — повернувшись к двери, нарочито громко сказал Баграт. — Очень хорошо сделала! — Он вышел на балкон, стряхнул осевший на елку снег, вернулся с елкой в комнату. — Куда ее поставим? В комнате было тесно. Угол, где обычно ставили елку, теперь занимал телевизор. Баграт огляделся, поразмыслил и наконец решился. — Подержи елку, — сказал он дочери. Затем отец и сын подняли кровать, стоящую под стеной и, приставив ее к другой кровати, освободили место для елки. Сын все еще хныкал, и Баграт рассердился всерьез. — Еще раз пикнешь — задам трепку! — сквозь зубы прошипел он, и мальчик затих. — Спусти со шкафа игрушки. К десяти вечера елка была разукрашена. Разноцветные маленькие лампочки, гирляндами свисающие с веток, гасли и зажигались, то погружая комнату в мрак, то расцвечивая ее всеми цветами радуги. Баграт накрывал на стол. Он навалил туда гату, изюм, орехи, соленые огурцы, сыр, хлеб… Потом вспомнил, что дома есть выпивка, поставил на стол две рюмки и принес початую бутылку водки. Анна была в ванной. Баграт постучал в дверь. — Я сейчас, — сказала она, — сейчас. Баграт вернулся в комнату, сел рядом с детьми. Шла развлекательная программа, дети смеялись, повторяли понравившиеся шутки. Баграт тоже увлекся передачей и не заметил, как жена с обвязанной полотенцем головой вошла в комнату и, полуголая, встала перед зеркалом. Анна стянула с головы полотенце, расчесала волосы, подсушила и вдруг в зеркале увидела сына, который с удивлением и любопытством смотрел на нее. Анна инстинктивно скрестила руки на груди и строго сказала: — Мужчинам из комнаты выйти! Сын отвел глаза и снова уставился в телевизор. — Выдумаешь тоже, — пробурчал Баграт. — Мужчинам из комнаты выйти! Я должна одеться!* * *
Гостей было немного: два старых приятеля Григоряна с женами да Анна с Багратом. — Чтоб лучше понять и ощутить друг друга, — сразу же объяснил Григорян. — Когда людей много, человек и самого себя не слышит. От его слов все почувствовали себя польщенными. Все потекло по установленному порядку. В двенадцать часов встали, чокнулись, поздравили друг друга с Новым годом, потом выпили за здоровье присутствующих супружеских пар, пожелали счастья и удачи, потом спокойно и неспешно вкусили всех яств со стола, и теперь сытая и сонная лень охватила застолье. Баграт, подсев к Григоряну, говорил с ним о своей диссертации, иногда чертил на бумажной салфетке какие-то кривые; приятели Григоряна, чуть отодвинувшись от стола, вполголоса говорили о болезнях печени и в связи с этим — о вреде курения; их жены, перебивая друг друга, делились воспоминаниями о круизе вокруг Европы; хозяйка дома на кухне собирала к чайному столу. Хотя Анне было скучно, одиночества она не чувствовала. От хорошего коньяка ее охватила какая-то приятная истома, и она то ловила краешком уха щебет дам, то, отключившись, поигрывала языком с застрявшей между зубами мясной нитью и обводила комнату медленным взглядом. Хрустальная люстра понравилась Анне, но она постыдилась долго ее разглядывать и перевела взгляд вниз, на пианино. Пианино она сравнила со старой девой: такой же терпеливой и ожидающей. Взглянув на огромные часы, стоящие у стены, Анна подумала, что через двадцать минут часы глухо пробьют три раза, и после третьего удара она встанет, поблагодарит хозяев, и Баграт, конечно, последует за ней. А когда вернутся домой, — забирать детей от соседки или не забирать? Додумать ей помешал звонок в прихожей. Кто-то нажал на кнопку звонка и, по всей видимости, не намерен был отпускать палец. Разговоры за столом оборвались, и в тишине слышалась только упорная трель звонка. — Сурен! — позвала из кухни хозяйка. — Кого это несет? — проворчал Григорян, прошел в прихожую, открыл дверь, и в ту же секунду квартира наполнилась громкими молодыми голосами, смехом, музыкой, веселым шумом, среди которого выделялся густой мужской голос: — Сурен-джан, душа моя! Пока гости удивленно переглядывались, из прихожей доносились звуки поцелуев, топот ног, многоголосый шум… Потом вновь прибывшие ворвались в комнату. С ног до головы обваленные в снегу двадцатилетние парни и девушки, с пунцовыми от мороза щеками, с глазами, искрящимися радостью и смехом. Ворвались и в одно мгновение изгнали тусклый покой, настоянный на ароматах кулинарии. Во главе этой оравы выступала невысокая девушка с хлопьями снега на волосах; она громко пела, в ритм песни хлопала в ладоши и в ритм хлопков пританцовывала. Некоторые вторили ей, остальные попросту бестолково шумели, а парень с гитарой декламировал какие-то стихи. Прочитал четверостишие, вынул изо рта товарища сигарету, затянулся и снова начал декламировать. Анна, поначалу изумленно взиравшая на них, не заметила, как улыбка с их лиц перекинулась на ее лицо, и она тоже заулыбалась тепло и безмятежно. Из кухни донеслось рычание. В гостиную с хозяйкой на руках ввалился мужчина лет сорока, остановился в центре комнаты. Хозяйка визжала сквозь смех, дрыгала ногами, пытаясь вырваться из его объятий, а мужчина не отпускал ее, целовал, кружился с ней по комнате и снова целовал. Потом, когда он опустил хозяйку на пол и перевел дыхание, Анна заметила, что у мужчины красивые голубые глаза. От хмеля его глаза были слегка сощурены, и потому, наверное, улыбка его казалась чуть печальной. — Замолчите! — подняв руку, повернулся мужчина к молодежи. — Да замолчите на минуту! — И когда ему показалось, что они замолчали, поклонился сидящим за столом: — Здравствуйте! — Здравствуйте! — вслед за ним закричали ребята и снова загалдели, но из кухни пришел Григорян, постучал ножом по бутылке, утихомирил их. — Разбойники, — улыбаясь, сказал Григорян, — настоящие разбойники! — Он указал ножом на голубоглазого мужчину: — Это Хорен, родной брат моей жены! Как он сам говорит: испил воды из Куры! Помните и остерегайтесь — он атаман этих разбойников. Вот эти, — он указал на двух девушек, — мои домашние разбойники. А все остальные — друзья-разбойники моих домашних разбойников… — Ура! — завопили разбойники. — Ура!.. То ли коньяк был тому причиной, то ли заразительность юношеского задора разбойников, то ли память молодости, прорвав многолетнюю плотину домашних тягот и забот, вырвалась на волю, — неожиданно и для себя самой Анна вместе со всеми закричала «ура!», захлопала в ладоши вместе со всеми и, взяв сумочку, пошла в ванную. — Разбойники, — глядя на себя в зеркало, прошептала Анна, освежила помадой губы, попудрилась. — Разбойники, — повторила она, пригладила волосы и осталась довольна своим отражением. Из гостиной доносились звуки магнитофона. Непонятная сила, вселившаяся в Анну, играла в ней, заставляла беспокойно постукивать каблучком по кафельным плиткам пола. Она задержалась в ванной, и когда вернулась в гостиную, все уже сидели за столом и разливали вино. Хозяйка половой тряпкой вытирала мокрые следы на паркете. Анна слегка прищурилась, разыскивая свое место. — Сюда пожалуйте! — хлопнул рукой по стулу Хорен. — Сюда! — Будь осторожен! — глянув на него, сказал Григорян. — Ее супруг не меньший разбойник… — Он положил руку на плечо Баграта. Все засмеялись. — Да я с его супругой еще и словом не перекинулся, — сказал Хорен и повернулся к Анне: — Знаете, какой снег валит! Какой снег!.. От голоса Хорена, от взгляда ли его — а может, это залетевшая в окно снежинка коснулась Анны, — по ее телу пробежала какая-то приятная дрожь. Хорен налил в два больших бокала вина, чуть пошатываясь, подошел к Баграту, протянул ему один бокал. — Это тебе. А теперь слушайте все. Атаман Хорен пьет за здоровье атамана Баграта. А Баграт за Хорена. На этом — квиты. Разбою — конец! Переходим к мирному строительству. Туш! Под смех и аплодисменты, под звуки гитары Хорен до дна выпил свой бокал, со стуком поставил его на стол, вернулся на свое место и с аппетитом принялся есть. Баграт все еще с авторучкой в руке ждал, когда уляжется шум, чтоб закончить столь важный разговор с руководителем. Пить ему не хотелось, но, поскольку все смотрели на него, пришлось выпить. Он осушил бокал, чуть не закашлялся, но, застыдившись, сдержал себя и взглянул на бумажную салфетку, испещренную кривыми линиями. Несколько пар встали из-за стола, начали танцевать. Анна не поняла, в шутку или всерьез сказал своей веснушчатой соседке юноша, сидящий напротив: — Хочешь, полчаса буду держать на стуле стойку? Хочешь? Она видела, как белокурый юноша, положив руку на плечо черноглазой девушке, поигрывал ее локоном; видела, как гитарист, перебирая струны пальцами, касался губами сидящей рядом красавицы, нашептывал что-то и как красавица то заливалась смехом, то напряженно вслушивалась в его слова… Анна взгрустнула. Глубоко вздохнув, она поднесла к губам рюмку с коньяком. Было заметно, что приятелям Григоряна и их женам не совсем по душе этот веселый шум, музыка и праздничная суета. Они хотели бы за тихой и мирной беседой попить чаю и распрощаться, довольные друг другом, но прибытие новых гостей, что вначале развлекло их, теперь стесняло, и они колебались: уйти сразу или побыть еще — из приличия. Наконец лысый не выдержал: — Пусть молодежь веселится, не будем мешать… Григорян и Баграт проводили их, вернулись, о чем-то переговариваясь, собрали со стола исписанные салфетки и удалились в кабинет Григоряна. Хозяйка с подносом в руках приводила в порядок стол. Анна подумала было помочь хозяйке, но с места не двинулась. Магнитофон пел голосом Тома Джонса. Том Джонс конечно же знал Анну, и эта его песня конечно же была об Анне: чуть печальная, чуть задумчивая и хмельная. Анна медленно подняла рюмку, сделала еще глоток. — Пьешь? Хорен… Не поняла Анна, отчего всколыхнулось сердце. Улыбнулась грустно, хотела что-то сказать, но тут чья-то твердая рука схватила под столом ее руку и сжала крепко и жестко. Анна вздрогнула, попыталась выпростать руку, но та рука была сильная, властная и уверенная. «Спокойно!» — приказала себе Анна, желая утихомирить охватившее ее волнение, и попыталась вспомнить что-то такое, что смогло бы успокоить ее, и, с чего бы это? — вспомнила задачку о бассейне: «Так, бассейн имеет две трубы…» Но вот из трубы льется на ладонь Анны горячая вода, согревает ее всю, и это тепло переполняет сердце, останавливает дыхание. — Пусти, — прошептала Анна, сделала еще одну слабую попытку высвободить руку и уже не нашла сил противиться этому прикосновению. Потом — она и сама не поняла как, оказалась среди танцующих напротив Хорена. Том Джонс танцевал шейк. От топота танцующих содрогался пол, покачивалась хрустальная люстра под потолком, и пальцы какого-то юноши легко и быстро бегали по черно-белым клавишам пианино… Анна, которая ни разу в жизни не танцевала шейк, сейчас всецело принадлежала бешеному ритму танца. Как и остальные, она умело управляла своим гибким телом, трясла годовой, разбросав по плечам волосы, улыбалась Хорену, и все это казалось ей сказкой. — Твои глаза сводят с ума… Во сне ли услышала Анна голос Хорена? Пьян ли был Хорен, шатался ли он или ей это только показалось?.. И, словно желая рассеять иллюзию, Анна еще сильнее забилась в танце, и движения ее стали нервными и истеричными…* * *
К утру снег прекратился. Баграт и Анна шли по безлюдным улицам. Было тихо. Только снег скрипел у них под ногами. Со двора жилого здания громко залаяла собака. Они прошли мимо, но собачий лай все преследовал их. Когда дошли до цирка, Баграт наконец очнулся от мыслей и нарушил молчание: — Как здорово все получилось, а? Григорян сказал, что я могу защититься. Невероятно здорово!.. Анна медленно отпустила руку мужа, чуть приотстала, потом вдруг прижала ладони к лицу и зарыдала. И когда растерявшийся Баграт попытался оторвать ее руки от лица, Анна обняла мужа и, обливаясь слезами, начала целовать, целовать, целовать его…ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
Перевод М. Мазманян
 «И стоит ради одной стекляшки столько крови портить…» — подумал снова Роланд Сарибекович, устремив взгляд в одну точку, медленно покачал головой и, шумно фыркнув, выпустил из ноздрей густой сигаретный дым. Шофер краем глаза глянул на него и понял, что настроение у начальника неважнецкое.
«Разбил, ну и черт с ней, мало у тебя этого добра?..»
Он вспомнил помятое лицо жены, ее вздувшуюся от напряжения голубую жилку на шее.
— Сто раз говорила, выпил, помой, поставь на место…
Из-под расстегнутого халата выпячивался толстый живот, обтянутый зеленой комбинацией.
Он, брезгливо морщась, все повторял: «Вместо того чтобы о стекляшках думать, последила бы лучше за собой, раздалась, поперек себя толще…»
Было солнечное осеннее утро. Асфальт сверкал, подпрыгивали на ветру облетевшие за ночь золотистые листья.
Машина притормозила. Роланд Сарибекович очнулся, поднял глаза. На машинах, проезжавших переулок, отражались солнечные лучи, и его грустное лицо то и дело освещалось. Он вспомнил вдруг, что чуть выше по этой улице, в музыкальной школе, работает Лусик, и в его сердце нежно затрепетала какая-то струнка и затихла… Когда машина проехала перекресток, промчалась мимо музыкальной школы, Роланд Сарибекович снова мысленно обратился к жене: «Раздалась, поперек себя толще…»
«И стоит ради одной стекляшки столько крови портить…» — подумал снова Роланд Сарибекович, устремив взгляд в одну точку, медленно покачал головой и, шумно фыркнув, выпустил из ноздрей густой сигаретный дым. Шофер краем глаза глянул на него и понял, что настроение у начальника неважнецкое.
«Разбил, ну и черт с ней, мало у тебя этого добра?..»
Он вспомнил помятое лицо жены, ее вздувшуюся от напряжения голубую жилку на шее.
— Сто раз говорила, выпил, помой, поставь на место…
Из-под расстегнутого халата выпячивался толстый живот, обтянутый зеленой комбинацией.
Он, брезгливо морщась, все повторял: «Вместо того чтобы о стекляшках думать, последила бы лучше за собой, раздалась, поперек себя толще…»
Было солнечное осеннее утро. Асфальт сверкал, подпрыгивали на ветру облетевшие за ночь золотистые листья.
Машина притормозила. Роланд Сарибекович очнулся, поднял глаза. На машинах, проезжавших переулок, отражались солнечные лучи, и его грустное лицо то и дело освещалось. Он вспомнил вдруг, что чуть выше по этой улице, в музыкальной школе, работает Лусик, и в его сердце нежно затрепетала какая-то струнка и затихла… Когда машина проехала перекресток, промчалась мимо музыкальной школы, Роланд Сарибекович снова мысленно обратился к жене: «Раздалась, поперек себя толще…»
* * *
Их первая встреча была неожиданной. В кабинет вошла высокая, красивая, длинноногая женщина с карими глазами, подошла, уселась на стул и бросила: — Мне нужен чешский кафель для моей ванной. Женщина говорила таким тоном, будто они были уже сто лет знакомы. Управляющий строительным трестом Роланд Мовсесян завтракал. Склонившись над столом, он ел принесенную шофером из закусочной курицу; бесшумно работал вентилятор, под струей воздуха то поднимался, то опускался краешек газеты, лежавшей на столе. В присутствии другого управляющий, быть может, перестал бы жевать и подтянулся или, может, сердито попросил бы выйти. Но созданная этой миловидной женщиной иллюзия давнишнего знакомства передалась и ему, — управляющий не спеша вытер рот и улыбнулся. — Что еще нужно? Женщина лукаво повела глазами. — Не знаю, мне сказали, чешский кафель… — Как я смогу вас найти? Может, еще что-нибудь понадобится? — Пожалуйста. — Женщина взяла со стола лист бумаги и ручку, написала что-то, протянула управляющему. — Вот вам телефон и адрес, позвоните, перед тем как прийти. Меня зовут Лусик. Роланд Сарибекович не утерпел, в тот же день зашел к Лусик. Вернулся домой поздно ночью, чуть покачиваясь от винных паров. Жена почему-то не спала. Глянув на еемрачное лицо, он беспечно бросил: — Ребята встретились, посидели… В глазах жены застыло напряженное молчание, она крепко сжала зубы, еле сдерживая себя. Роланд Сарибекович, видимо, почувствовал напряженность момента, иначе не крикнул бы: — Что, не нравится? Из спальной в ночной рубашке вышла старшая дочь. Она обняла мать за плечи и грустно, молча посмотрела на отца. В первую ночь все между ними произошло так легко и просто, что на следующий день, перебирая мысленно случившееся, он даже сожалел об этой легкости. Позднее, узнав Лусик поближе, Роланд Сарибекович осмыслил естественность первой ночи. Как вести себя одинокой женщине в подобной ситуации? Отец Лусик был профессором, даже дед был профессором, известным хирургом, получившим в свое время образование в Германии. Когда в Тифлисе шли бои между большевиками и известными и неизвестными партиями, многие, собрав свои пожитки, удрали за границу. Дед Лусик никуда не уехал. «Народу нужен врач, а не власть», — сказал он, став предметом насмешек. Портрет деда в золоченой раме, как музейный экспонат, висел в квартире Лусик. Когда Роланд Сарибекович в первый раз зашел к Лусик, он смущенно и растерянно оглядел комнату, остановился взглядом на портрете, на тяжелой свисающей цепочке часов. — Видать, золотая, — бросил он. — Может быть. — На все сто граммов потянет, — сказал он. — А кто тот буржуй? — решил пошутить он. — Мой дед. Мать Лусик после смерти мужа забрала шестилетнего внука к себе: то ли она не могла свыкнуться с одиночеством, то ли надеялась, что дочь устроит свою жизнь. В свое время, блестяще закончив консерваторию, Лусик мечтала стать пианисткой. Но потом вышла замуж; повседневные ли заботы, ребенок, пьяница муж или гены, унаследованные от предков, утратили свой гордый аристократизм и, не успев развиться, обессилели и потеряли свою жизнестойкость, — Лусик поняла, что ни на что, кроме преподавания в музыкальной школе, не способна. Ее мечта стать пианисткой выцвела, поблекла, уступив место безудержному желанию заиметь ванную комнату с чешским кафелем. Если ее приятельницы имеют такие ванные, так почему бы и ей не иметь. Но когда она решила раздобыть необходимые материалы для ремонта квартиры, началась такая канитель, что она быстро почувствовала усталость и вконец отчаялась. Все, начиная с директора магазина и кончая складчиком, стали делать ей двусмысленные намеки, и когда работавшие в ее доме мастера подсказали ей адрес управляющего трестом, сказали, что он-то ей непременно поможет, Лусик, не колеблясь, направилась к нему. Управляющий понравился ей с первого взгляда. У Лусик, конечно, были поклонники, все из мира искусства — бледные, изнеженные, излишне утонченные в своих комплиментах. Управляющий же властно восседал в своем кресле, здоровый, плечистый, с обожженным от солнца лицом. Нет, управляющий был другим… Роланду Сарибековичу было уже за сорок, это был высокий мужчина, с правильными чертами лица, с поседевшими висками. Родом он был из деревни. В первый год учебы в политехническом институте он часто вспоминал свое маленькое село, прикорнувшее у склона леса, полного сказок и детских фантазий; весною лес зеленый, солнечно-зеленый, и тогда он говорил ему: «Эй, зеленый брат!»[15] — осенью — пурпурно-желтый, золотистый — в солнечные дни, в пасмурные — неприветливый и хмурый. И, погружаясь в воспоминания, отвлекаясь от теории механизмов и машин, сердце его тоскливо сжималось. Он откладывал в сторону карандаш, отходил от чертежной доски и, закрыв глаза, мысленно переносился в деревню, входил в лес своего детства… Была война, что отняла у него отца, в селе были голод и лишения, но в эти близкие сердцу минуты забвения он не вспоминал об этом: «Эй, зеленый брат!» В последние годы учебы, откуда ни возьмись, в институт вторгся джаз, принеся с собой туфли на толстой каучуковой подошве, брюки дудочкой, пестрые дорогие сорочки, галстуки и многое другое. Для приехавших из деревни ребят, в отличие от городских, лишиться таких нарядов было просто невыносимо. Все они были дружно влюблены в сестер-близнецов, приехавших из Тбилиси, одетых по последней моде, кокетливо поводящих влажными глазами. Ребята требовали из дома денег или же, живя впроголодь, откладывали стипендию, лихорадочно приобретая у спекулянтов туфли, рубашки и галстуки, разодевались в пух и прах, натирали бриолином волосы и, кривляясь на студенческих вечерах под ритмы джаза, воображали себя Робертами Тейлорами, окончательно и бесповоротно забыв и свое родное село, и происхождение, и разрывали все связи с прошлым, видя в нем что-то унизительное. У Мовсесяна Роланда все произошло гораздо быстрее. Осенью, когда он уже учился на пятом курсе, скончалась мать. Похоронил мать, дома ни души — сестры были уже замужем, — продал дом и с кругленькой суммой в кармане вернулся в столицу.* * *
У ворот строительного треста машина притормозила. Роланд Сарибекович вышел из машины, с кислой миной уставился на фонтанчик. Вода из чаши с шумом стекала на асфальт, образуя лужи под разбросанными во дворе выгоревшими на солнце ящиками. В ящиках находились запасные части экскаватора, и кладовщик, уверенный в том, что никто на них не позарится, преспокойно оставил ящики во дворе. Сторож треста лениво водил у ворот метлой, прихрамывая, сметал с асфальта листья. Управляющий обычно здоровался с ним по утрам, спрашивал изредка о житье-бытье, но сегодня прошел мимо с опущенной головой, не обращая внимания на его угодливую улыбку. Роланд Сарибекович направился к кабинету и вдруг неизвестно почему обратил внимание на Доску почета, мимо которой проходил сто раз на дню, и неожиданно остановился. Видно было, что над всеми портретами поработал один и тот же фотограф: одного и того же размера, на одной и той же бумаге, с той же стандартной улыбкой смотрели на управляющего чуть пожелтевшие от времени портреты передовиков. Роланд Сарибекович скользнул взглядом по фотографиям и остановился на последней во втором ряду. Он попытался прочесть фамилию и имя, не смог. Надел очки, снова посмотрел и припомнил: «Ноги, кажись, кривоватые были… — И вдруг разозлился: — Больше года у нас не работает, а вот, пожалуйста, красуется на Доске почета!» Управляющий хотел излить на кого-то свой гнев, но в коридоре никого, кроме уборщицы, не было. Это его еще больше распалило, он покачал головой, фыркнул и направился к кабинету. Проходя через приемную, он увидел, что секретарша склонилась над зеркальцем, приставленным к календарю, и выщипывает брови. Не здороваясь, он зашел в кабинет, швырнул на стол папку, распахнул окна и нажал на кнопку звонка. Дверь открылась, показалась секретарша. — Позови Ованесяна… — Его нет. — Бадаляна. — Роланд Сарибекович, он еще не пришел. — Кто же пришел? — повысил голос управляющий. — Почем я знаю, кого вы хотите? — обиделась секретарша. — Кто же пришел? — крикнул управляющий. — Я ж не виновата, — пробормотала секретарша. — Утром же вы всегда сначала заходите в министерство, а потом приходите в трест. — «Заходите в министерство»… — передразнил он секретаршу. Он достал из ящика пачку сигарет, закурил. Со двора донесся грохот грузовика и умолк. — Всех заведующих отделами вызовешь ко мне.* * *
Ветер проносился по ущелью мимо ноздреватого камня, ударялся о скалу, сворачивал в сторону, раскачивал ветви росшего на скале орешника, его голос то слабел, сливаясь с шумом реки, то, окрепнув, заглушал ее шум и пропадал в тихой долине, что начиналась с ущелья. На закате над домами голубел струящийся из ердыков дым и, попав в когти ветра, стлался понизу, разнося в сумеречном тумане тонкий запах деревни. В дверях дома, что стоял на краю села, появлялась высокая худая женщина в черном платье, с черным платком на голове и, глядя в сторону ноздреватого камня, кричала: — Роланд… эй, Роланд… чтоб тебе пусто было… Дед, а дед, отправь-ка этого щенка домой!.. Дед Барсег, облокотившись о ноздреватый камень, выпускал из-под пожелтевших усов дым чубука. До него доносился голос снохи, но что она кричала, он не слышал и слышать не хотел. — Поди надорвалась от крика, сучья дочка, — ворчал он и, прищурив глаза, глубоко затягивался и вздыхал: — Ох, Сарибек, Сарибек… Чуть ниже Роланд и его сверстники, мальчишки лет восьми — десяти, визжа, кидались голышом в воду и мигом выскакивали точно ошпаренные, лязгая зубами, бросались на землю, прижимались к гладким голубым галькам. Слышался мерный шум реки. Босоногая девчушка в лохмотьях срывалась от дома, что на краю села, добегала до ноздреватого камня. Она стеснялась подойти к голым мальчишкам и, сложив худые, костлявые ручки у рта, кричала: — Братик… а, братик, мама тебя кличет… — Скажи ей, что не приду, — слышался совсем рядом его голос. — Говорит, ежели не придет, так отстегаю… — Еще чего, из дома удеру… — Не удерешь, — кричала из-за камня сестренка и всхлипывала: — Не удирай!.. — Катись-ка отсюда, — дрожа всем телом, кричал Роланд. — Не то высеку как сидорову козу. Солнце пряталось за горой. Тень леса падала на ущелье. Плач сестры все отдалялся и гас в густеющем тумане. Из деревни доносился крик петуха. Знакомые камни и деревья преображались, превращаясь в злых духов. Ребята медленно разбредались по домам. Постепенно отдаляясь, вспыхивали тут и там и исчезали огоньки сигарет. Роланд подходил к деду. — Сукин ты сын, угораздило тебя в такой холод купаться… — дед поднимался, опираясь о дубинку, распахивал телогрейку, прижимал внука к себе: — Мой внучек шальной, козлик мой… — И, вспомнив вдруг что-то, поворачивался к картофельному полю и орал во всю глотку: — Эй, кто там забрался в картофель!.. В бога, в душу вашу мать… Он был сторожем картофельного поля. Заходил кто-либо в поле или нет, дед кричал для острастки, размахивая дубинкой: — Погодите, доберусь до вас, ироды… — Дед, есть хочу, — ерзал под телогрейкой Роланд. Дед доставал из мешка пару картофелин. — Положь за пазуху, чтоб никто не видел, — шептал он, — и сестрицам дашь…* * *
— Мовсесян не в духе, — предупреждала всех, кто входил в приемную, секретарша. — У-у, рвет и мечет. Ответственные работники треста, оторопев на секунду, смотрели на тупое, самодовольное лицо секретарши и, ничего не поняв, вытянувшись в струнку, тихонько приоткрывали дверь кабинета. До приемной доходил их испуганный голос: — Можно?.. В кабинете царило молчание. Сидя в кресле, опираясь локтями о стол, опустив голову на сжатые кулаки, управляющий краем глаза глядел на входящего, поднимал голову, нервно закуривал и снова подпирал лоб кулаками. Работники робко присаживались, переглядывались, стараясь понять, в чем дело, и, ничего не поняв, застывали в ожидании. Главный механик треста Айвазян, видимо, не выдержал, кашлянул, прочистил горло. Сидящие слегка оживились, но, заметив устремленный на них мрачный взгляд управляющего, снова посерьезнели. Дверь с размаху открылась. Вошел инженер по технике безопасности Даниелян, который одновременно был и председателем месткома. По натуре он был веселый человек, с вечной улыбкой на лице. Он бросил всем «доброе утро» и хотел было сесть, когда управляющий остановил его. — А ты чего опаздываешь, обалдуй? — бросил управляющий с язвительной улыбкой. То ли присутствующие не усекли скрытое ехидство, то ли их уж очень рассмешило неожиданно брошенное слово «обалдуй», оно повторилось тут и там, и все прыснули. — Молчать, — крикнул управляющий и обратился к еще не успевшему прийти в себя Даниеляну: — И семьи у тебя нет, чтобы сказать, задержался по делу… — Роланд Сарибекович… — промямлил Даниелян. — Что Роланд Сарибекович? — неожиданно взорвался управляющий и встал. — Роланд Сарибекович… Ни стыда, ни совести нет у вас. Вы что, ослепли?.. Или управляющий должен все видеть? — Что случилось? — тут же протрезвел секретарь парторганизации Оганесян. — Что еще должно случиться? — сказал управляющий. — Человек больше года у нас не работает, а портрет его все красуется на Доске почета… — Не может быть, — привстал председатель месткома. — Это уже ни на что не похоже, — бросил заместитель начальника производственного отдела Закарян, заерзал на стуле и заискивающе улыбнулся управляющему. — Конечно, не может быть, — съязвил управляющий. — Если и я каждый день буду опаздывать на работу, если и я в год раз буду проверять технику безопасности на объектах, я тоже могу сказать — не может быть. Управляющий сел, зажег потухшую сигарету. Начальнику техотделом Бадаляну показалось, что гроза уже миновала, иначе он не спросил бы, улыбаясь: — А кто это?.. — «Кто это»?.. — передразнил управляющий. — Та, которая в твоем отделе работала и больше года как уволилась… Бадалян напряг память. — Да разве всех упомнишь, — почесывая затылок, сказал Бадалян. — Все приходят и уходят… — Значит, я должен вместо вас помнить, — рассердился управляющий. И снова встал. — Не выполняете план, я должен отвечать. — Он загнул палец. — Нет товара, доставай, — он загнул второй палец. — Перерасход фонда зарплаты — опять отвечай за вас. Во время работы закрываетесь в комнатах, в шахматы играете, управляющий должен следить за вами, не разрешать… — Он загнул третий палец и обратился к Закаряну: — Не улыбайся, это в первую очередь к тебе относится. Нет, Бадалян никак не мог вспомнить, чей же портрет висит на Доске почета. Он беспомощно посмотрел на заведующего отделом кадров. — Агаронян Роза, — официально и сдержанно бросил заведующий отделом кадров. — А… — хлопнул себя по лбу Бадалян. — Да какой из нее работник… Из-за этой-то дуры такой сыр-бор разгорелся… Все дружно загоготали. Управляющий попытался придать своему лицу серьезное выражение, но не смог, морщины разгладились, и он широко улыбнулся. Хохот стал громче. — А что, разве я не прав? — воодушевился Бадалян. — Ох, Бадалян, ну и сказанул, — хлопнув в ладоши, бросил главный механик Айвазян. — Говорит, какой из нее работник… — Святая правда… Послышалось постукивание карандаша. Когда хохот затих, все заметили, что лицо управляющего помрачнело. Воцарилось молчание. Управляющий швырнул карандаш на стол. — Значит, никудышнего работника на Доску почета повесили?.. — раздался голос заведующего отделом. — Я был в отпуске, — попытался оправдаться Бадалян. — Приехал, вижу она уже на Доске почета. Верно ведь, Даниелян?.. — Привели фотографа, а, кроме нее, в комнате ни души. Ее и сфотографировали, — проворчал Даниелян. Удар кулака о стол смыл новую волну смеха. — Где ваша совесть? — крикнул управляющий. — Я спрашиваю, где ваша совесть?.. Вдали со звоном проехал трамвай. — Не кричите на нас, — тихо сказал, поднявшись, секретарь парторганизации Оганесян. — Не кри-чи-те!.. — Он задыхался, лицо его побелело. Он прикрыл глаза, глубоко вздохнул и, подняв левую руку, показал культю. — Когда ты в лапту играл, я Родину защищал. Не тебе говорить о совести. Все ждали нового взрыва, но управляющий потер ладонью лицо и хрипло бросил: — Идите…* * *
Крыша протекала. Под течью поставили миску — кап-кап, кап-кап… На дворе стояла осень, моросил дождь, тучи стлались над лесом, окутав его туманом. Дождевая вода пропитывалась в стену, стена покрывалась плесенью. В доме — хоть шаром покати, прогнали пса, конуру разобрали на дрова — сожгли. Пес днем пропадал в лесу, появлялся по вечеру, конуры не было, он устраивался под стеной сарая и выл… Роланд, сунув ноги в брезентовые сапоги отца, выходил во двор, скрючившись от дождя, глядел на единственную ведущую в деревню дорогу. Деда все не было. Хлюпая сапогами по луже, он заходил в комнату, ходил взад-вперед и, не удержавшись, снова выходил во двор. — Чтоб тебе неповадно было, — кричала мать. — Все тепло в доме выветрил. И чего ты не угомонишься, носишься как оглашенный взад-вперед. Роланд не слушал мать. От голода сводило кишки. Когда ведущая в деревню дорога сливалась с темнотой, Роланд, сложив ладони рупором, кричал, заглушая вой собаки… — Дед!.. А дед!.. Знал, что дед всегда приходил затемно, чтобы другие не видели, что он что-то несет в мешке, но все равно кричал: — Дед, а дед… Мать, не выдержав, давала ему подзатыльник. — Чего ты народ скликаешь на наши головы… Ступай покачай сестру, надорвалась, поди, от крика. — Есть хочу. — Все мы есть хотим… — Она смотрела на застывшее лицо сына, вздыхала и, не выдержав, ласково шептала: — Ох, сынок, ты теперь наша опора… Пламя коптилки плясало, тень от люльки, которую он качал, то увеличивалась, то уменьшалась, увеличивалась и уменьшалась… Кап-кап, кап-кап… Капля со звоном ударялась о миску. Если не слышно звона, значит, она уже наполнилась. Коли забывали, не выливали, вода стекала, просачивалась в земляной пол. Роланд начинал медленнее качать люльку и, затаив дыхание, склонялся над сестрой. Глаза сестренки были закрыты, но она чмокала губами. Мать клала на лоскуток несколько изюминок, завязывала в узелок и совала в рот младенцу. Молока нет, что ей было делать? Сколько раз Роланд переворачивал дом вверх дном в поисках изюма — и не находил. Где мать прятала изюм?.. Совсем уже близко слышался хриплый голос деда. Роланд бросал качать девочку, бежал к тоныру[16]. Малышка плакала вслед брату. — Устал. Пусть и она немного покачает, — кивал он в сторону сестры. — Только погляжу, что дедушка принес, и приду, ладно, братик? В темноте пекарни светился лишь огонь тоныра, и в этой полутьме принесенное дедом казалось более желанным и загадочным: несколько картофелин, попавшая в силок перепелка или чья-то курица. — Не стыдно?.. — пряча улыбку, говорила мать. — Не подыхать же с голоду. Когда кончали есть, мать снова говорила: — Грех берем на душу. Что скажет господь? Услышав слово «господь», дед мрачнел, ничего не говорил, устраивался на тахте, прислонившись спиной к стене, и в полутьме по комнате стлался дым чубука, густея у пламени коптилки. — Ох, Сарибек, Сарибек… Когда лицо его освещалось, все видели, как в глазах деда блестела слеза и исчезала в белой щетине. — Подойди-ка. Роланд присаживался рядом с дедом. — Отца-то помнишь, внучек? — Конечно, помню. Два года, как уехал… — Два года, — вздыхала мать. — А для меня цельных двадцать лет, — горестно качал головой дед. — Знать бы, какая сволочь его убила, куда пуля попала? В жилах Роланда бурлила отцовская кровь, она подступала к горлу, сжимала его. Роланду хотелось плакать, крикнуть самое забористое ругательство, но он стискивал зубы, скрежетал. — Гляди, внучек, не забывай отца, — грозил ему пальцем дед. — Будешь вспоминать его каждый день — не забудешь… Роланд закрывал глаза и вспоминал отца — худого, высокого, чуть сутулого и… с улыбкой на лице. — Помнишь, сноха, говорил все, мой Роланд силен в математике. Вырастет, счетоводом в колхозе станет… — А ты спроси у него — он в школу-то ходит? — говорила мать, не отрываясь от корыта с бельем. — Гляди, встану — за уши отдеру… — грозился дед, будто Роланд был не рядом, а где-то далеко. — Чего в школу не ходишь, сукин сын?.. — Не пойду, — отвечал Роланд. — Не могу голодным на уроке сидеть…* * *
В жилах внука Барсега, сына Сарибека, не заиграла, не вскипела в ту минуту кровь отца и деда, не ударила в голову и не заставила его крикнуть: «Не размахивай перед носом культей… Мой дед воевал за советскую власть, отец погиб на войне. Я имею право говорить о совести». Он в эту минуту не вспомнил ни отца, ни деда. Не тогда ли заглох и исчез в нем этот зов крови предков, когда он, продав дедовский дом, забыв дорогу в родную деревню, уехал в город, где с закрытыми глазами находил дорогу в любой ресторан. Управляющий трестом поднял усталый взгляд и, убедившись, что в кабинете никого нет, взял трубку, набрал номер. — Что делаешь? — Доброе утро, — сказала Лусик. — Тоже мне, ханум. Для тебя только доброе утро, а я уже два часа вкалываю. — Это твоя жена ханум… Роланд Сарибекович поморщился, вспомнив лицо жены, со стоном выдохнул в трубку. — Что, не понравилось? — усмехнулась Лусик. — А что, если я сейчас возьму и приеду к тебе? — Ты что, спятил? Мне пора в школу. — Когда кончаешь? — В три. — Да… в три… Что же делать? — Закончишь дела, позвони. — Эх, конца и края нет этой чертовой работе… Может, посидим где-нибудь? Машину пришлю за тобой. — А кто будет? — Почем я знаю. — Каждый раз приходишь с новой компанией. — Ха-ха-ха, — самодовольно загоготал управляющий. — Они тоже люди, пусть рубают на здоровье. — А обо мне не думаешь? Весь город скоро начнет склонять мое имя… — Пусть только посмеют! — помрачнел Роланд Сарибекович. — Голову оторву. Лусик решила поменять тему разговора. — Что ты сейчас делаешь? — Слышишь, машина приедет за тобой. — Только обещай, что не напьешься. А то не приду. — Чего? Чего? Насильно повезу. — Обещай, что не напьешься. И годы не те. — А мне-то что… Ты что, жена мне? Сегодня я должен напиться. — Сумасшедший строитель, — бросила Лусик, и Роланд понял, что она улыбается. Это было ее самое ласковое слово. — Ой, я уже опаздываю. — Значит, после работы — прямо домой и ждешь машину. — Есть, товарищ управляющий, — Лусик положила трубку. Управляющий нажал на кнопку звонка. В дверях появилась секретарша. — Соедини со вторым стройуправлением, — устало бросил управляющий. Секретарша направилась к двери. — Открой-ка окно, — бросил он ей вслед. Секретарша открыла окно, вышла и вскоре появилась в дверях, кивнула в сторону телефона. — Григорян звонит. — Григорян, — подняв трубку, усмехнулся он под нос. — Не слыхать тебя что-то, братец… — Зашиваюсь, Роланд Сарибекович. Хочу сегодня приехать к вам. — Нет, — сказал управляющий. — Не приезжай. Если ваше высочество позволит, я приеду к вам. — Добро, Роланд Сарибекович… — Добро, — усмехнулся управляющий. — Значит, берешь машину и прямо на 1724-й объект. Я сейчас выезжаю. И управляющий вышел из кабинета: — Еду на 1724-й объект, оттуда — на 1719-й.* * *
Начальник второго строительного управления Григорян, конечно, раньше прибыл на объект и уже успел сказать пару «теплых» слов прорабу, когда подкатила «Волга» управляющего. Недалеко растапливали битум для настилки паркета. Ветер уносил густой запах горящей автошины в угловую квартиру недостроенного дома. Начальник распекал прораба именно из-за этого. Увидев машину управляющего, он подошел. Григорян был лет на десять старше управляющего, с живыми синими глазами, с обожженным от солнца лицом. — Добро пожаловать, Роланд Сарибекович, — улыбнулся Григорян и пожал руку управляющему. — Мы тут заработались, забыли про вас, а вы нас не забываете… Управляющему было приятно, что человек, который намного старше его, заискивает перед ним, но ему ли не знать, когда и как реагировать на лесть своих подчиненных. Он приподнял брови и с едва заметной улыбкой в глазах бросил: — Государство за это мне деньги платит. Думаешь, ради твоих прекрасных глаз я сюда приезжаю… — Не говорите так, Роланд Сарибекович, есть управляющие, которые даже не знают, где находятся их объекты… — Григорян широко улыбнулся, легонько коснулся ладонью спины управляющего. — Ты уж больно не радуйся, что я приехал. Почему не благоустраиваете двор?.. Он повернулся, поманил рукой стоящего неподалеку прораба. Вместе с прорабом подошли несколько рабочих. — У нас тут не собрание, — прикрикнул он на рабочих. — Занимайтесь своим делом. — Видишь, — обратился Григорян к прорабу. — Роланд Сарибекович тоже говорит о благоустройстве. Имеет право, виноваты мы… — Почему это виноваты? — возмутился прораб. — Дайте механизмы — сделаю. — Да, — приложив руку к груди, склонив голову, улыбнулся Григорян. — Вы же нам бульдозеры обещали, Роланд Сарибекович. — Управляющий я или работник отдела снабжения! — распалился Роланд Сарибекович. — Сами доставайте. Приучил вас на свою голову. — Верно все, — виновато улыбнулся Григорян. — Но ваше слово… — «Ваше слово»!.. — передразнил управляющий. — Попробуйте до конца недели не привести в порядок двор. — Да как приведешь его в порядок, да и чем? — возмутился прораб. — Рабочих заставь. А то слоняются тут без дела. — Это я-то слоняюсь без дела? Вон на верхних этажах некому раствор подавать. — Что прикажешь? Может, мне раздобыть для тебя рабочих? — Он повернулся к Григоряну: — А? — Болтает только, — вмешался Григорян. — Сделаем, Роланд Сарибекович. Придумаем что-нибудь. — У меня нет для этого рабочих, — обиделся прораб. — Дайте механизмы — сделаю. — Морду себе наел!.. — закричал управляющий. — Дайте механизмы! Тоже мне министр объявился, приказывает еще! Засучишь рукава, возьмешь лопату и сделаешь, как миленький! — Ладно, — смягчился вдруг прораб, — рабочих ведь жалко, нелегкое это дело. — Вот как, — насмешливо улыбнулся управляющий, — выходит, рабочих жалко, а управляющего — нет, его не мать родила. — Но ведь, Роланд Сарибекович, — сказал прораб, — вы же обещали нам бульдозер. Не пообещали бы — другое дело. Управляющий действительно обещал им бульдозер. Сегодня утром он должен был пойти в министерство и попросить, чтобы из других трестов им временно выделили стоящий на простое бульдозер, но утром ему испортили настроение и он совершенно забыл об этом. — Пообещать — пообещал, — сказал управляющий, — говорят, нет бульдозера. — Не беда, — сказал Григорян, — что-нибудь придумаем. — Ничего не поделаешь, — вставил прораб. — Как у вас обстоят дела с паркетом? — спросил управляющий. — Стелем. — Хватит? — Думаю, что да, — ответил прораб. — Слушай, парень, — уже успокоившись, сказал управляющий, — работайте на совесть, чтобы и мне легче было просить… Чтоб не было как с тем домом, пока сдал, всю душу вымотали… — Сделаем, сделаем, — сказал Григорян. — Все вы твердите одно — сделаем, сделаем, но палец о палец не ударяете. — Все — другое, я — другой, — сказал Григорян, кивнул прорабу, чтобы тот ушел. Опустив голову, прораб медленно побрел к подъемному крану, крикнул крановщице: — Кончишь с известью, панели поднимешь! — Говоришь, ты — другой, — сказал управляющий, — поживем — увидим. — Он направился к машине. Григорян пошел за ним, он хотел что-то сказать, но колебался и, решившись вдруг, взял управляющего за локоть. — Можно спросить, если, конечно, не обидитесь? Куда вы сейчас? — А что? — Скоро перерыв, может, сходим куда-нибудь, закусим. — Чего? — управляющий напрягся, подумал. — Не могу, работы много. — Работа не волк, в лес не убежит, — улыбнулся Григорян. — Знаю одно укромное местечко. — За городом? — Да, но не очень далеко. Недавно открыл… — Поехали на 1719-й, там будет видно. — Вы езжайте, а я — следом.* * *
Ресторан находился довольно далеко от города, посреди деревьев, на краю ущелья. Пока начальники обходили 1719-й объект, шофер Григоряна заранее приехал в ресторан, заказал все, что надо. И когда приехали управляющий и его неразлучный друг лектор университета Сафарян, Григорян и начальник третьего строительного управления Бабаян, стол был уже накрыт. — Что за прекрасное место, а я и не знал, — потирая ладони, огляделся управляющий. — Говорил ведь, — обрадовался Григорян. — Григорян на мокрое место не сядет, — сказал Бабаян. Они сели, предлагая друг другу стулья. Управляющий краем глаза окинул стол и, видимо, оставшись довольным, обратился к товарищу: — Ну, что новенького, товарищ лектор? — Ничего, — ответил Сафарян, — живем помаленьку. — А вам-то что, — улыбнулся под нос управляющий, — ни тебе плана, ни обязательств. Что скажешь? — подмигнул он Григоряну. — Да, — подтвердил Григорян, — прекрасная работа. — Прекрасная — не то слово… Ставят хорошеньким студенточкам двойки и водят их за нос, сегодня-завтра, завтра-послезавтра… Все засмеялись. — Не ставить же им пятерку, если они ни черта не знают, — улыбнулся Сафарян. — Нет, — сказал управляющий. — Пятерку не надо. Человек, если он даже ничего не знает, все равно что-то да знает. Значит, тройку со спокойной совестью можно поставить. Коли нет у вас ничего на уме, так чего же, спрашивается, двойки ставите и водите за нос, в особенности симпатичных девчонок? — Эти сделают, — сказал Бабаян. — На них креста нет. — Точно… — оживился управляющий. — Сидят себе на мягких стульях, спят преспокойно… Был у нас такой лектор, слушает он тебя, не слушает — не поймешь. А потом — плохо занимался, ступай. — Ох, Роланд Сарибекович, и как вы все помните, — засмеялся Григорян. — Конечно, — управляющий сделал знак рукой, — или… стоит перед ними молоденькая студентка, а эти изучают ее с ног до головы. Иди, говорят ей, будто защищают интересы науки, потом придешь. — Может, выпьем? — перестав смеяться, предложил Бабаян. — Можно. — Управляющий поднял бокал. — Выпьем по стопочке… Они чокнулись, выпили. — Ты, брат, путаешь нас со строителями, — проглотив кусок, начал Сафарян. — Это вы можете с грехом пополам построить дом и сдать его со спокойной совестью… — Все равно ведь вселяетесь и живете себе припеваючи. — А что прикажешь делать? Народу нужны дома. Пусть будет хуже, зато быстрее. Люди вселяются, доделывают что-то и живут себе, зато не остаются без крова. Официант, высокий симпатичный парень лет двадцати пяти, подошел, шепнул что-то на ухо Григоряну. — Как насчет рыбы? — спросил Григорян. — Какой рыбы? — Ишхан, — улыбнулся официант. — Рыба — высший сорт. — У каких это разбойников вы покупаете рыбу? — лукаво спросил управляющий. — Секрет фирмы, — заискивающе улыбнулся официант. Управляющий глянул на часы. — Подождем с рыбой, еды еще много. Он послал машину за Лусик и уже беспокоился. Темнело, ущелье заволокло туманом, а Лусик все не было.* * *
На вершине горы, возвышающейся над лесом, появились первые солнечные лучи. В ущелье все еще было темно. — Иди, не отставай, не то спасу не будет нам от этого безбожника. «Безбожник» — это хромой на обе ноги бригадир, единственный на всю бригаду мужчина, который появлялся на заре во дворах и кричал: — А ну, побыстрее, сукины дочки, скоро полдень. Собирал их и вел на картофельное поле на прополку. — А ежели не идти? — говорил Роланд. — Спать больно хочется. — Еще чуток, сынок, скоро дойдем… — Скоро дойдем, — недовольно бормотал мальчик. — Вон наш дом, а ты — еще чуток. В ущелье, в полумраке, прямо под ногами журчала речка. Мать наклонялась, плескала в лицо воду, вытиралась передником. «Умереть мне за твое могущество, Иисус Христос, да будет добрым твой свет», — шептала она и обращалась к мальчику: — Умойся-ка, сынок. — Холодно… — Опять заладил, — повышала голос мать. — Перед вратами господними неумытыми не предстают… Мальчик знал, что она не отстанет, наклонялся, плескал в лицо пригоршню воды, ежился от холода. — Что ты ко мне пристала… Выспаться не даешь. — Ты невинен, сынок… Невинное слово скорее доходит до бога. По узкой тропинке поднимались в лес. Под ногами трещали сухие ветки, будя пташек, и вскоре лес наполнялся птичьим гомоном. — Поскорее, сынок, вон Парик уже зажгла свой тоныр. Парик была женой бригадира. Мать убыстряла шаги, сын — за матерью, и вскоре они добирались до часовни. По дороге они никого не встречали. Мать радовалась — «Мы первые…». Одному богу известно, кто и когда построил в этом лесу часовню, когда она разрушилась и когда собрали разбросанные тут и там камни и поставили на них хачкар. Этот камень так и называли — «святой камень». Приметив его издали, мать останавливалась, крестилась и шептала: «Умереть мне за твое могущество…» Мальчик тоже останавливался. — Перекрестился? — шептала мать. — Перекрестился. — Думай только об отце, о другом не думай, — подсказывала мать. — Знаю. — Скажешь: господи, взгляни на меня, на моих сестер и пожалей нас. Мать медленно шла вперед, мальчик следовал за ней, останавливался вместе с матерью у хачкара, подносил свою свечу к горящей свече матери, отходил в сторонку и застывал. Мать молилась, клала поклоны, вставала, снова кланялась. Мальчик не слышал слов матери, он прикрывал веки, и его пробирала дрожь — от холода ли, тишины, треска свечи или причащения с богом кровь бурлила в нем, ударяла в лицо, распаляя детское воображение. «Господи, взгляни на меня, моих сестер и пожалей, верни нашего отца живым и здоровым с фронта…» Затем — «не оставляй нас голодными…» — заканчивал он свою молитву, украдкой глядя на мать. Мать молилась. Он снова смотрел на хачкар и повторял свою просьбу. Отец в то время был еще жив.* * *
Ехали молча. Сидя с шофером, Лусик смотрела сбоку на его мрачное лицо и чувствовала себя виноватой. И наконец не выдержала. — Извини, что опоздала. На собрании была. Шофер не ответил. Он угрюмо смотрел вперед. Проехав значительную часть пути, он достал сигарету, закурил и сказал вдруг, глядя вперед: — Ведь я вас немного знаю? — Да, как будто, — удивилась Лусик. — Так вот, только не обижайтесь, вы на сто голов выше его, — сказал он медленно, словно взвешивая каждое слово. Наверное, его слова были очень неожиданны. Комок подступил к горлу, слезы брызнули из глаз. Лусик всхлипнула, закрыла лицо руками. Выплакавшись, она вытерла платком глаза, откинула назад голову и сказала неожиданно для самой себя: — Я люблю его. — Поэтому вы и выше его, — снова угрюмо бросил шофер. Когда они доехали, уже стемнело. Лусик не вошла в зал, осталась на балконе. — Привез? — заметив шофера, издали крикнул управляющий. Шофер подошел, прошептал что-то на ухо. — Чего ломается, — бросил управляющий. — Скажи, пусть идет. Шофер вышел. — Говорит, пусть войдет. — А кто там? — Всех знаете. — Пьяные? — Навеселе. Лусик вздохнула, вошла и, опустив глаза, подошла к столу. Григорян поднялся, предложил Лусик свой стул, взял у соседнего столика свободный, сел. — Скажи этому обалдую, пусть принесет прибор, — бросил Бабаяну управляющий. — Где вы задержались, мадам?.. — На собрании была. — Не могла удрать? — Нет. — Мы не виноваты, — попытался пошутить управляющий. — Ждали тебя, ждали — не дождались, съели рыбу. Что же делать?.. — Снова закажем, — сказал Григорян. — Пустяки. — Я не голодная. — Дома поела? — не то удивился, не то разозлился управляющий. — Нет, в буфете. — Чего? — усмехнулся управляющий. — В буфете… Скажи, пусть принесут рыбы… — Он протянул руку, чтобы погладить Лусик по волосам. Она отстранилась. — Ты что, не в духе? Может, на собрании досталось? — Нет, — улыбнулась Лусик. Бабаян встал, пошел на кухню и вернулся. — Скажи, пусть принесут коньяк «Наири». Моя Лусик пьет только «Наири». — Знаю, — кивнул Бабаян, — уже заказал. Музыканты снова заняли свои места. В ресторане было немало свободных мест. В дальнем углу сидели туристы, они соединили два стола и собрались все вместе. Когда заиграла музыка, они вскочили и начали танцевать. Они были молоды, и танец их был легким и красивым. Сафарян, вспомнив что-то, оторвал взгляд от танцующих и сказал: — Не позвать ли шоферов?.. Ребята, наверное, проголодались. — Когда это они с нами садились за стол? — сказал управляющий. — И зачем им слышать наш разговор? — Я уже распорядился, им отнесут поесть, — сказал Бабаян. Официант убрал со стола лишние тарелки, принес дымящийся ишхан и коньяк «Наири». — Послушай, — обратился к официанту управляющий. — Вот гляжу я на тебя, красивый ты парень, молодой. И не стыдно тебе официантом работать? — Ежели сюда будут приходить такие люди, как вы, мне грех жаловаться. — Такие, как мы? — повторил управляющий. — Здорово сказал, молодец. Только, пока не поздно, возьмись за ум. Официант попытался что-то сказать, Григорян перебил его: — Тост мой остался незавершенным. Роланд Сарибекович, а теперь я хочу выпить за ваших детишек. Сафарян налил Лусик коньяку, положил в тарелку рыбы. — За ваших деточек, — сказал Бабаян. — Почему только за его детей? — прервала Лусик. — Давайте выпьем за здоровье всех наших детей. — За здоровье наших детей, дорогая Лусик, — сказал Григорян, — и в первую очередь за детей Роланда Сарибековича. — Хорошие девочки, — сказал Сафарян. — Одна лучше другой. Знай же, младшая моей невесткой будет. Чокнулись, и все, кроме управляющего, выпили. Держа рюмку в руке, он молчал, устремив взгляд в одну точку. Затем поставил рюмку, медленно засунул руку в карман, вытащил двадцатипятирублевку и протянул Бабаяну. — Отдай этим обалдуям, пусть помолчат минут десять, голова раскалывается… — Я… Роланд Сарибекович… — Тебе что говорят! — зарычал управляющий. Бабаян молча взял двадцатипятирублевку и направился к музыкантам. — Зачем? — возмутилась Лусик. — Люди ведь танцуют, веселятся… — А им-то что, — бросил управляющий. — До утра могут плясать. Музыканты прекратили играть, положили инструменты и вышли. Управляющий посмотрел им вслед, поднял бокал и сказал с грустной улыбкой: — Говоришь, младшая невесткой твоей будет… и старшую возьмут, и среднюю… нет у них совести, уведут ведь всех. — Он заскрежетал зубами, стукнул кулаком по столу. — А кто мой род будет продолжать?.. Чтобы такой человек, как я, не имел сына?.. — Роланд, Роланд, — забеспокоился Сафарян. — Сумасшедший, — бросила Лусик. — Да, я сумасшедший, — управляющий схватил ее за руку. — Может, и ты с ума сойдешь, родишь мне сына… Григорян зажал ладонью рот, чтобы не прыснуть, стиснул руку Бабаяна. — О деньгах не думай, — потряс руку Лусик управляющий. — И ребенка обеспечу, и тебя, и твоего сына, и твою мать… — Ну и что? — усмехнулась Лусик. — Что, что, не твое это дело. Григорян подтолкнул Бабаяна. — Я — хозяин своего слова, — ударил себя в грудь кулаком управляющий. — Недаром меня Роландом Сарибековичем зовут. — Что я скажу людям, в школе? Ты думаешь, что говоришь? — Лусик залпом выпила полную рюмку коньяка, выдохнула, в глазах заблестели слезы. — Хватит того, что один ребенок растет без отца, еще второго заведу? — Кончай, Роланд, — сказал Сафарян. — Погоди, — он грубо оттолкнул его руку, прищурил глаза. — А говоришь — люблю. — Коли любишь, почему не разводишься? — рассердилась Лусик. — Кого стесняешься? — Что за глупый разговор? — возмутился Сафарян. — Вот возьму и уйду… Управляющий не обратил внимания на слова товарища, провел рукой по волосам, задумался на минуту. — Ты себя со мной не равняй, с моим положением и должностью, — медленно произнес он. — Я не такой старый, как эти, я еще могу продвинуться. Понятно? — он снова опустил кулак на стол. — Молчи, — шепнул Григорян на ухо Бабаяну. — Сейчас к нам пристанет. Сидящие за соседним столом стали смотреть в их сторону. — Скажите, пусть сыграют, — попросила Лусик. — Стыдно… — Никакой музыки, — отрезал управляющий. — Роланд, люди хотят танцевать, — сказала Лусик, — смотри, какие они славные, молодые, ну, прошу тебя… — Ну, ладно, пусть танцуют. Только вот подойду к ним и от имени армянского народа выпью за их здоровье. Какой они национальности? Слышишь, как только взмахну рукой, пусть заиграют. Понял? — обратился он к Бабаяну. Управляющий поднялся качаясь, выпрямился, стараясь сохранить равновесие, но тут вскочил Сафарян и схватил его за руку. — Ты не имеешь права говорить от имени народа. Не имеешь права… — Верно, — закричал вдруг Бабаян. — Вчерашний щенок, вести себя не умеешь… Музыканты заиграли. Сидящие в углу туристы вскочили, стали танцевать. Управляющий продолжал стоять. Он тупо смотрел куда-то, никак не мог прийти в себя и осмыслить происходящее. — Я хочу домой, — сказала Лусик. — Погоди, сестрица, — Григорян встал, взял управляющего за руку и направился в глубь ресторана. — Роланд Сарибекович, малость перебрал ты, — сказал ему в туалете Григорян. — Облегчиться надо, сразу полегчает, — он указал пальцем на рот. — Считаешь?.. — наконец пришел в себя управляющий. — Ну да, — засмеялся Григорян. — Говорю, не помешало бы вам малость облегчиться… — Катись отсюда… Григорян вернулся к столу. — Золотой он человек, но как выпьет, никого не хочет слушать. Чтоб не сказали, что я лезу к нему, вот за глаза пью за его здоровье. — Он одним духом выпил рюмку и стукнул ею об стол, улыбнулся всем: — Ой, как хорошо! — Мы уходим, — Сафарян встал. — Отвезешь его домой. Лусик и Бабаян тоже поднялись. — Погодите, — захлопал глазами Григорян. — Как же так? — Не наше дело, — отрезал Сафарян. — Ты тоже уходишь, Бабаян?.. — Да, счет я закрыл, — он, покачиваясь, пошел за Лусик и Сафаряном.* * *
Около десяти часов вечера Роланд Сарибекович вернулся домой. Его влажные волосы были тщательно зачесаны. Он медленно зашел в комнату и, заметив удивленный взгляд жены, попытался отшутиться: — Ну, а сегодня к чему придерешься, ханум? — и ущипнул старшую дочь за щеку. — Подогреть обед? — спросила жена. — Устал я, устал, как собака. Спать хочу. Вошел в спальню, разделся, и вскоре раздался его монотонный храп. Никто так и не узнал, что этой ночью на ничтожную долю миллиметра выросла возникшая в его желудке раковая опухоль. 1976НА ПАСЕКЕ
Перевод К. Кафиевой
 Пчеломатка выпорхнула из улья, за ней роем потянулись трутни. Дед Торгом мог и не увидеть этого. Он сидел на ящике возле палатки, укрыв плечи латаным-перелатаным пиджаком, и грелся на солнышке. Он все подставлял солнцу спину, поворачиваясь вслед за ним, но все равно не мог согреться. Был ли этому виной ветер, задувший из Агверана, или солнце позднего августа грело вполсилы, а может, годы его подошли, — только не мог он никак согреться, и все. На коленях деда шуршала, сворачивалась от ветра газета, но он не читал ее. Была она недельной давности — валялась на сиденье Володиной машины, дед подобрал ее,почитал, на следующий день тоже почитал, дошел до конца, а потом, сам не зная зачем, все расстилал ее на коленях, неподвижно просиживая час, другой, третий… Когда же у летка началась возня и тишина наполнилась тягучим жужжанием, старик повернул голову и заметил, что пчеломатка улетела, а за ней потянулись трутни.
— Куда же ты, бестолковая, ведь ветер дует…
Он медленно прищурился, чтобы увидеть весь рой, и, зевая, добавил:
— И конца-то вам нет, бесстыжие… Ну, валяйте, посмотрим, кто из вас вернется.
Дед Торгом снова зевнул, показав два-три зуба, оставшиеся у него во рту, потом снова съежился и замер.
Пасека принадлежала колхозу. Надвигалась осень. Пора было грузить улья на Володину машину, везти их в село. Недалеко от пасеки грелись на солнце, уткнувшись в лапы мордами, два рыжих волкодава. Они лежали не двигаясь, как неживые, а ведь им надо бы быть возле овец, возле скота, там, где поблизости волки. Наверное, и сами собаки не могли взять в толк, что у них общего с пчелами. Они лениво лаяли разок-другой за ночь, считая, что с них довольно. Дед Торгом готовил им похлебку, наполнял корыто, а эти бессовестные даже к еде ленились подходить.
«Ну да, я же ваш прислужник. Выходит, что так. Вот как дам пинка, чтоб убирались подальше, с глаз долой!» Но это только на словах. Садился, подперев голову, и оставался так сидеть часами, забывши обо всем. Дай ему шестьдесят лет — вроде подходит, семьдесят — тоже подходит, да и восемьдесят, пожалуй, дать можно. Каждой весной он уходил из села в горы, расставлял там улья и оставался с ними, дожидаясь августа. А что еще ему было делать, как не ждать? Старуха его померла, сыновья все отделились, живут своим домом, каждый сам по себе. Правда, твердят они ему: «Брось ты это дело, приходи к нам жить». Да только говорят это нехотя, а сами похваливают мед, который он им дает. Вот тот, что живет в городе, приезжал как-то повидаться с отцом: говорил, воздух хорош, вода отличная, шума нет, от асфальта далеко. Это и есть настоящая жизнь. Потом небрежно бросал на сиденье машины заветную банку меда, сбереженную отцом, бросал так, словно и не был краденым этот мед, словно, отдавая ему банку, не озирался отец по сторонам. После его отъезда Торгом сообщил собаке Чало:
— Нет, никуда не годится мой младший…
Однако спустя некоторое время младший снова приехал и, сняв с шеи ремешок транзистора, отдал отцу радиоприемник. «Вот привез, чтоб развлек он тебя, одному-то скучно!» Заметив сомнение в глазах отца, сын усмехнулся: «Повернешь сюда — включишь, повернешь туда — выключишь. А вот это покрутишь — поймаешь, что душе твоей угодно». Потом сам стал крутить, даже запарился, а ничего, кроме Еревана, так и не поймал. Разозлился и буркнул: «Смотри, не оставляй подолгу включенным, испортишь!..»
После его отъезда дед Торгом поискал глазами собаку Чало, не нашел ее, удивился, потом забыл о ней и сказал другой собаке Ало:
— Душа-то у младшего лежит ко мне, выходит, что так…
А теперь был уже конец августа, цветов — раз, два и обчелся. Пчелы летали подолгу, возле ульев было тихо, жужжания почти не слышно. Поэтому, когда вылетела пчеломатка и около летка началась возня, дед Торгом это заметил. Он хоть и продолжал сидеть, согнув спину, но уже не ощущал прежнего покоя. Он думал о пчеломатке. Ведь как-никак уже конец августа, ветрено, кто знает, какая может беда с ней стрястись? Он хотел закурить, потом передумал, поднялся с места, вошел в палатку. Там он снял висевший на столбе приемник, перекинул ремень через шею. «Повернешь сюда — включишь».
Дед так и делал, потом вернулся и снова уселся на ящик, чинно и серьезно. Приемник заговорил, но какое дело было Торгому до того, что приборостроительный завод выполнил план годовой продукции на сто четыре процента? Да вот хоть никакого дела и не было, но ведь приемник-то был маленький, был он новостью, был дивом, подвешенным к шее, да и сын ведь велел: «Не включай надолго, испортишь…» — и поскольку все это имело место, то он, включая, не давал приемнику работать впустую, а слушал.
— Дай бог вам жизни, — заворчал Торгом, не разобравшись в «валовой» продукции, — а что дело заваливаете, это нехорошо. Тьфу, — вдруг вспомнил он о Володе, — разве ты не из рода бебутовских приблудков… так вот у вас все и получается, ведь четвертый день жду…
Дед Володи, Ишхан, лет пятьдесят — шестьдесят назад покинул деревню и ушел в Баку. Проработав пару лет в городе, оставил там лапти и чуху, принял фамилию хозяина Бебутова да и заявился обратно в деревню. Исхудавший с лица, пожелтевший, зато в ботинках да пиджаке. Заявился, выставился посреди деревни и давай болтать: «Я — Ишхан Бебутов, да… так и знайте!» А деревне для смеха много ли надо? «Бебутовский приблудок». И все. Окрестили, и точка. Дед Торгом не без удовольствия выволок из памяти эту шестидесятилетней давности кличку и припечатал ею Володю. А что еще оставалось бедняге? Чем еще мог он облегчить душу? Разделавшись с Володей, дед переключился на председателя:
— Ладно, пусть не Володя, пусть кто другой. Машина-то остается машиной, какая разница?.. Да разве он соображает?.. Знай погуливает себе, ручки за спину, — Торгом скорчил гримасу. — Улья надо расставлять по квадратно-гнездовому методу, дедушка Торгом! Ха, ха, ха, — передразнил он, потом нахмурился, — я бы тебе показал квадратно-гнездовым способом, я твою…
Расправившись и с этим обидчиком, дед Торгом вроде бы выложился, успокоился и снова пристроился на ящике под солнышком.
Приемничек уже говорил о другом. Теперь речь шла о каком-то лауреате Нобелевской премии, подсчитавшем, что одна атомная бомба может вызвать такие же разрушения, как тысячи самолетов, бомбящих непрерывно в течение пятнадцати лет. Торгом прислушался, сдвинул шапку на лоб, почесал за ухом. Потом протяжно зевнул, выключил приемник и снова вернулся мыслями к пчеломатке: «И куда тебя понесло, бестолочь несчастная, ведь ветер сильный!..»
Пчеломатка выпорхнула из улья, за ней роем потянулись трутни. Дед Торгом мог и не увидеть этого. Он сидел на ящике возле палатки, укрыв плечи латаным-перелатаным пиджаком, и грелся на солнышке. Он все подставлял солнцу спину, поворачиваясь вслед за ним, но все равно не мог согреться. Был ли этому виной ветер, задувший из Агверана, или солнце позднего августа грело вполсилы, а может, годы его подошли, — только не мог он никак согреться, и все. На коленях деда шуршала, сворачивалась от ветра газета, но он не читал ее. Была она недельной давности — валялась на сиденье Володиной машины, дед подобрал ее,почитал, на следующий день тоже почитал, дошел до конца, а потом, сам не зная зачем, все расстилал ее на коленях, неподвижно просиживая час, другой, третий… Когда же у летка началась возня и тишина наполнилась тягучим жужжанием, старик повернул голову и заметил, что пчеломатка улетела, а за ней потянулись трутни.
— Куда же ты, бестолковая, ведь ветер дует…
Он медленно прищурился, чтобы увидеть весь рой, и, зевая, добавил:
— И конца-то вам нет, бесстыжие… Ну, валяйте, посмотрим, кто из вас вернется.
Дед Торгом снова зевнул, показав два-три зуба, оставшиеся у него во рту, потом снова съежился и замер.
Пасека принадлежала колхозу. Надвигалась осень. Пора было грузить улья на Володину машину, везти их в село. Недалеко от пасеки грелись на солнце, уткнувшись в лапы мордами, два рыжих волкодава. Они лежали не двигаясь, как неживые, а ведь им надо бы быть возле овец, возле скота, там, где поблизости волки. Наверное, и сами собаки не могли взять в толк, что у них общего с пчелами. Они лениво лаяли разок-другой за ночь, считая, что с них довольно. Дед Торгом готовил им похлебку, наполнял корыто, а эти бессовестные даже к еде ленились подходить.
«Ну да, я же ваш прислужник. Выходит, что так. Вот как дам пинка, чтоб убирались подальше, с глаз долой!» Но это только на словах. Садился, подперев голову, и оставался так сидеть часами, забывши обо всем. Дай ему шестьдесят лет — вроде подходит, семьдесят — тоже подходит, да и восемьдесят, пожалуй, дать можно. Каждой весной он уходил из села в горы, расставлял там улья и оставался с ними, дожидаясь августа. А что еще ему было делать, как не ждать? Старуха его померла, сыновья все отделились, живут своим домом, каждый сам по себе. Правда, твердят они ему: «Брось ты это дело, приходи к нам жить». Да только говорят это нехотя, а сами похваливают мед, который он им дает. Вот тот, что живет в городе, приезжал как-то повидаться с отцом: говорил, воздух хорош, вода отличная, шума нет, от асфальта далеко. Это и есть настоящая жизнь. Потом небрежно бросал на сиденье машины заветную банку меда, сбереженную отцом, бросал так, словно и не был краденым этот мед, словно, отдавая ему банку, не озирался отец по сторонам. После его отъезда Торгом сообщил собаке Чало:
— Нет, никуда не годится мой младший…
Однако спустя некоторое время младший снова приехал и, сняв с шеи ремешок транзистора, отдал отцу радиоприемник. «Вот привез, чтоб развлек он тебя, одному-то скучно!» Заметив сомнение в глазах отца, сын усмехнулся: «Повернешь сюда — включишь, повернешь туда — выключишь. А вот это покрутишь — поймаешь, что душе твоей угодно». Потом сам стал крутить, даже запарился, а ничего, кроме Еревана, так и не поймал. Разозлился и буркнул: «Смотри, не оставляй подолгу включенным, испортишь!..»
После его отъезда дед Торгом поискал глазами собаку Чало, не нашел ее, удивился, потом забыл о ней и сказал другой собаке Ало:
— Душа-то у младшего лежит ко мне, выходит, что так…
А теперь был уже конец августа, цветов — раз, два и обчелся. Пчелы летали подолгу, возле ульев было тихо, жужжания почти не слышно. Поэтому, когда вылетела пчеломатка и около летка началась возня, дед Торгом это заметил. Он хоть и продолжал сидеть, согнув спину, но уже не ощущал прежнего покоя. Он думал о пчеломатке. Ведь как-никак уже конец августа, ветрено, кто знает, какая может беда с ней стрястись? Он хотел закурить, потом передумал, поднялся с места, вошел в палатку. Там он снял висевший на столбе приемник, перекинул ремень через шею. «Повернешь сюда — включишь».
Дед так и делал, потом вернулся и снова уселся на ящик, чинно и серьезно. Приемник заговорил, но какое дело было Торгому до того, что приборостроительный завод выполнил план годовой продукции на сто четыре процента? Да вот хоть никакого дела и не было, но ведь приемник-то был маленький, был он новостью, был дивом, подвешенным к шее, да и сын ведь велел: «Не включай надолго, испортишь…» — и поскольку все это имело место, то он, включая, не давал приемнику работать впустую, а слушал.
— Дай бог вам жизни, — заворчал Торгом, не разобравшись в «валовой» продукции, — а что дело заваливаете, это нехорошо. Тьфу, — вдруг вспомнил он о Володе, — разве ты не из рода бебутовских приблудков… так вот у вас все и получается, ведь четвертый день жду…
Дед Володи, Ишхан, лет пятьдесят — шестьдесят назад покинул деревню и ушел в Баку. Проработав пару лет в городе, оставил там лапти и чуху, принял фамилию хозяина Бебутова да и заявился обратно в деревню. Исхудавший с лица, пожелтевший, зато в ботинках да пиджаке. Заявился, выставился посреди деревни и давай болтать: «Я — Ишхан Бебутов, да… так и знайте!» А деревне для смеха много ли надо? «Бебутовский приблудок». И все. Окрестили, и точка. Дед Торгом не без удовольствия выволок из памяти эту шестидесятилетней давности кличку и припечатал ею Володю. А что еще оставалось бедняге? Чем еще мог он облегчить душу? Разделавшись с Володей, дед переключился на председателя:
— Ладно, пусть не Володя, пусть кто другой. Машина-то остается машиной, какая разница?.. Да разве он соображает?.. Знай погуливает себе, ручки за спину, — Торгом скорчил гримасу. — Улья надо расставлять по квадратно-гнездовому методу, дедушка Торгом! Ха, ха, ха, — передразнил он, потом нахмурился, — я бы тебе показал квадратно-гнездовым способом, я твою…
Расправившись и с этим обидчиком, дед Торгом вроде бы выложился, успокоился и снова пристроился на ящике под солнышком.
Приемничек уже говорил о другом. Теперь речь шла о каком-то лауреате Нобелевской премии, подсчитавшем, что одна атомная бомба может вызвать такие же разрушения, как тысячи самолетов, бомбящих непрерывно в течение пятнадцати лет. Торгом прислушался, сдвинул шапку на лоб, почесал за ухом. Потом протяжно зевнул, выключил приемник и снова вернулся мыслями к пчеломатке: «И куда тебя понесло, бестолочь несчастная, ведь ветер сильный!..»
* * *
Володя явился в середине следующего дня. Грохоча, сигналя, гоня машину через колдобины и ямы. Ну и пыли же стояло позади!.. И хоть бы кто спросил, мол, эй, Володя, разве собственная у тебя машина, не ты ли все ходишь на поклон к кладовщику, шею гнешь перед ним: «Дядя Мелкон, покрышки прохудились. Придумай чего-нибудь, а то детишкам нечего есть будет!..» Да только было бы у кого спрашивать! Ну конечно, был он под хмельком, а то ехал бы потише. Мало того, еще выискал какую-то горожанку, усадил рядом с собой в машину да и примчал одним духом в горы. Волосы у нее — цвета пшеницы, кожа солнца не видала, глаза синие. Может, оттого и захмелел Володя? Черный, небритый, с лицом, выжженным, как земля в засуху, с черным огнем в глазах… Кажется, припади он к ней — всю ее, как капельку, вберет в себя без остатка. Дед Торгом, чтобы скоротать время, спустился было в ущелье, но, заслышав машину, встрепенулся и, сам не зная как, очутился возле пасеки. Всю дорогу до пасеки об одном и думал дед: «Как бы шельмец не поворотил обратно, не дождавшись!..» Добежал и видит: Володя с девушкой присели около собак, играют с ними. — Вай, да как же тебя человеком назвать, Володя, то не было его, не было, а теперь смотри пожалуйста… — проворчал старик, еще задыхаясь от бега, а сам не смог сдержать радости. — Что, прибыл, дедушка Торгом? — Это ты меня спрашиваешь, малый? — Хорошо, хоть прибыл. Не иначе бабку себе в ущелье завел. — А?.. Ты поговори еще у меня!.. Но Володя и не глядел в сторону Торгома. Сидя на корточках около девушки, он ласкал собак, трепал им загривки и, заливаясь смехом, хлопал по мордам. Да и собаки тоже были порядком рады. Девушка, правда, при виде старика будто застеснялась, перестала смеяться, а потом, освоившись, снова захохотала вместе с Володей, а то и громче, чем тот. Она подносила руку к морде собаки, но, пугаясь, отдергивала ее. Дед Торгом помолчал, потом спросил: — Эй, Валод, русская она, что ли? — А тебе что — русская, армянка, курдянка?.. Володя снова хлопнул по морде пса Чало, а тот, рыча, взялся зубами за Володины пальцы и тряхнул головой. Ишь ты, баловник! — А откуда она, парень? — С юго-севера, понял? — Мое понимание давно уже прошло… — Твист, это твист. Знаешь, что такое твист?.. — Жена-то твоя знает? — ухмыльнулся дед Торгом. — Ты ее оставь, жену мою. Если сболтнешь кому — пропал! — Отстань ты от меня, — Торгом помрачнел, — давай улья грузить, день-то на исходе. — Колбаски поешь? — Слушай, парень, дело тебе говорю… Да только кому он говорил? Володя оставил собак, пошел к кабине, вернулся со свертком в руках. В свертке была дешевая колбаса, нераспечатанная бутылка водки, буханка хлеба. Девушка стояла чуть поодаль, удивленно оглядывая все вокруг. Для нее были неслыханным открытием стоявшие торчком скалы, горы, этот старик, собаки, Володя. Все это ее удивляло и приводило в восторг. Ведь она, истратив массу денег, проехала тысячи километров, чтобы добраться до этой не то языческой, не то христианской страны. Природа здесь и впрямь поклоняется солнцу, утопает в нем, а люди то язычники, то христиане, когда как. Вот Володя сейчас наверняка поклоняется этой девушке. Он стоит со свертком в руках, не может сделать ни шагу, не отрывает от нее глаз. Да что там Володя? Вон и дед Торгом малость ошалел. Ветер колышет подол ее платья, бросает его то вверх, то вниз, а девушке это нипочем, она распростерла руки, запрокинула голову, — волосы на ветру точно пламя, грудь как отлитая, словно рукой ощущаешь ее упругость и тепло, — халла, халла!.. Дед Торгом вновь почувствовал давно забытый жар, в нем то вспыхивало что-то, то снова гасло, то вспыхивало, то гасло… Кто эта девушка, ангел ли, ведьма ли? Откуда взялась, вся из солнца и молока, почему попала на эту гору, да еще заливается звонким смехом, кружится на месте, полуприкрыв глаза, и жизнь благодаря ей кажется наполненной и сладкой. А если хотите знать правду, то и красавицей ведь ее нельзя назвать! Обыкновенная девушка, даже и похуже обыкновенной… — Володя… — Чего? — Валод… — Ну, чего? — Меду она поест?.. Он не стал дожидаться ответа. Стыдясь самого себя, заспешил к палатке, взял миску, заметил висевший на столбе приемник, прихватил и его, вынес и протянул то и другое девушке. Туристической группе, с которой путешествовала девушка, показали языческий храм в Гарни, церковь в Гегарде, Звартноц и Эчмиадзин, монастырь на Севане, и теперь для нее в этой горной скалистой стране все казалось божественным. А дед Торгом со своей пасекой на склоне горы, с палаткой, собаками и одиночеством, беловолосый и белобородый, представлялся добрым и щедрым получеловеком-полубожеством. А Володя — нет. Володя был измазан мазутом, и слишком горячи и красноречивы были его глаза. Девушка с рюкзачком в руке собиралась подняться в горы. Володя приметил ее, остановил машину. Хотел сказать «садись», да постеснялся. Вышел из машины, словно проверяя колеса, вроде не обращая никакого внимания на девушку. Потом полез под машину, неизвестно что проверил и, уже не в силах сдерживаться, прямо так, лежа на земле, посмотрел в ее сторону. Она стояла над его головой, что греха таить, увидел Володя ее голые ноги, что стройно тянулись вверх, чуть выше колен, а дальше были прикрыты юбкой. Сердце его заколотилось как бешеное. — Садись! — выдохнул Володя. Их односельчанин Сэпан три года прослужил в городе Гродно. Был он раньше неловок, ходил как пришибленный. «Слушай, Сэпан, смотри не перепутай, каким концом из винтовки стрелять…» — провожая его, подтрунивали односельчане. «Если Сэпан солдатом будет, можем спокойно есть свой хлеб». Сэпан ничего не отвечал. Он не отрывал влажных глаз от матери, горестно скрестившей руки. Три года прошли как три дня. Сэпан воротился домой и рассказывал, посверкивая глазами: «Ну и девушки в Гродно, ах… золотце»? — А что значит «золотце»? — А то, что вам и не снилось, — Сэпан глядел многозначительно, глаза его блестели еще ярче. Володя вдруг весь напрягся. — Садись, — выпалил он, — золотце… Девушка рассмеялась, указала пальцем на горы, проговорила что-то. А Володя, если б и разобрал, все равно не понял бы ничего. Вначале он ехал медленно, изредка краем глаза поглядывал на девушку и, не зная, о чем говорить, хранил молчание. Потом ему пришло в голову, что нельзя так долго молчать, надо что-то сказать, и тогда он, высунув руку в окошко кабины, стал объяснять. Он показывал пальцем на гору и говорил «гора», показывал на дерево, говорил «дерево»… Девушка заложила одну ногу за другую, обнажила коленки и все смеялась, смеялась. А когда на первых же колдобинах ее подбросило к Володе, того как жаром обдало, и он прибавил скорость. Теперь уж колдобин было предостаточно. Так они и добрались до дедушки Торгома. — Повернешь сюда, включишь, — улыбался Торгом и, держа руку девушки, «повернул сюда». Девушка, понятно, знала и как сюда повернуть, и как туда повернуть, но ей было приятно, что старик ей это показывает, и она дружелюбно и широко заулыбалась. — Хорошая девушка, — сказал дед Торгом. — Чего? — обозлился Володя. — Молодость вспомнил, что ли? Дед и ухом не повел. Он сходил, принес соты, сыр, масло, лаваш, принес и сливки. Они стали есть. Володя с каким-то недовольством откупорил бутылку, приложил ее ко рту, отпил. Дед Торгом намазал лист лаваша маслом, медом и сливками, свернул из него «пастуший посох» и подал девушке. А она все смеялась, да и только! Держа свернутый в трубку хлеб обеими руками, откусывала, встряхивала головой, мед стекал, она пальцем прихватывала медовую струйку, облизывала палец, прикладывалась щекой к щеке Торгома и заливалась, заливалась счастливым смехом… Володя закурил сигарету, еще больше помрачнел и подал девушке бутылку. — Да не вешай ты носа, — сквозь смех проговорила девушка, — я из бутылки не могу. — Что она говорит, Валод? — дед Торгом озорно поглядывал то на девушку, то на Володю. Володя пошел к машине, принес стакан, до краев наполнил его водкой, протянул девушке. — Я столько не одолею. — Что она говорит, Валод?.. Володя отпил из стакана, отдал его девушке, а бутылку поставил у ног старика. А это тебе, мол. Девушка выпила, закашлялась, тряхнув волосами, откусила лаваш и, улыбаясь, по слогам произнесла: — Ес кез си-рум-ем! Я те-бя люб-лю! Одну руку она приложила к груди, другой — указала на деда Торгома. — Смотри, что говорит, Валод! — вдруг, разобравшись, разгорячился дед Торгом. — Смотри, что говорит! Володя вразвалку пошел к машине и стал сигналить. Девушка стояла около старика и, вытянув руку с лавашным «посохом», мазала медом вершины гор и облака, говорила, говорила, а дед и не понимал о чем. Володя просигналил еще раз. — Ты чего заторопился, а, парень?.. Девушка наконец оторвалась от гор, обняла деда Торгома, а может и «спасибо» сказала, и села в кабину рядом с Володей. — Теперь куда повезешь? — К черту на рога. — Эй, Валод, коли что прознаю — ты у меня наплачешься! — вдруг крикнул Торгом, перебивая шум мотора. Машина рванулась, и слова старика потонули в густом облаке пыли. Торгом, держа руку козырьком, проводил машину глазами, пока она не скрылась за поворотом. Потом он медленно побрел назад, сел на ящик, лежащий у входа в палатку, и, то ли озябнув, то ли еще от чего, сжался и замер на месте. 1967СВАДЬБА
Перевод К. Кафиевой
 Ниоткуда не открывается такой прекрасный вид на гору Арарат, как из нашего села. Не потому ли и пришло на ум людям, что настоящее название села — Арарат?
Есть у меня двоюродный брат по имени Размик. Прибыл он как-то в город прямо из нашего села. В город, то есть в Ереван. Ведь теперь многие и поспорить могут — какой, мол, город имеешь в виду: Ереван ли, Кировакан, а может, Алаверди? Что ж, городов у нас стало много, сразу не перечтешь. Так вот, приехал этот Размик в Ереван, в институт поступать, и к нам зашел, а я, по правде говоря, и не знал, что у меня есть двоюродный брат, да еще Размик. Если хорошенько копнуть в наших родственных связях, выяснится, что он — младший сын дочери сына брата моего прадеда. Но ему велели зайти в город в дом дяди — он и зашел к нам. Отец мой вспомнил его, расцеловал и сказал, что это мой двоюродный брат. Ну, двоюродный так двоюродный. Он подошел, пожал мне, как водится, руку и сел напротив с каким-то не то насмешливым, не то почтительным видом. На селе ему внушили, что я непременно помогу ему поступить в институт, поскольку и сам выучился, стал инженером, и уж худо-бедно, если не с десятью, то хоть с одним каким-нибудь начальником да знаком. Коротко и ясно. Вот он и прибыл и сидит напротив меня, не то смущенно, не то посмеиваясь, упершись в колени громадными своими ладонями. А я разглядываю его и, слегка поддевая, задаю вопросы:
— А плюс бэ в квадрате чему равно, знаешь?
— Может, и знаю.
— Ну, чему?
— Да уж чему-нибудь… — мямлит он, по-ребячьи краснея.
Уже к вечеру, когда мы как будто немного привыкли друг к другу, он меня спросил: «Вытянет „Спартак“?» Я уверенно ответил: «Вытянет». Помолчав, он сказал: «Правда, эта Бриджит Бардо ни на что не похожа?» — а я подтвердил: «Ни на что не похожа». И тогда он ухмыльнулся:
— А плюс бэ в квадрате равняется… — и сказал все правильно.
Я потрепал его по плечу, а он буркнул:
— Спроси что-нибудь поприличнее, тоже мне вопрос!
Вскоре он сдал документы в политехнический институт, получил тройку по математике, тройку по физике, четверку по химии и заявил мне:
— Так и не возьму в толк, какой факультет лучше?
— Ты же подал на химический, чего спрашиваешь?
— А я почем знаю, у нас в селе цемзавод, вот я и подал на химический…
По русскому языку он срезался. Домой вернулся мрачный. Мы уже привыкли к тому, что он всегда после экзамена ударом ноги распахивал дверь и, ухмыляясь, объявлял:
— Отвечал хорошо, но поставили «три». Ну, ясное дело, я парень деревенский…
Но в этот раз он был мрачен, даже от обеда отказался. Я подошел, положил руку ему на плечо. Он мотнул головой и, не глядя на меня, пробормотал:
— Э-э, я же знаю русский. — И, забавно выговаривая слова, произнес по-русски: — Куда вы спешите, девушка? — Криво усмехнулся и снова помотал головой.
— Ну, не беда, бывает, — сказал я.
Размик задумался, потом спросил:
— А ведь говорили, что, если ты захочешь, придумаешь что-нибудь…
Я неопределенно хмыкнул. Он понял меня и на другой день уехал в село. Месяца через два явилась его мать и стала просить, чтобы я пристроил его на работу, потому что, «сам знаешь, город все-таки… Жалко мальчика…».
Я пошел с Размиком к знакомому — главному инженеру завода.
Главный посмотрел на Размика и, словно не сумев сразу разглядеть его, сел и смерил с ног до головы взглядом. Оглядел и расплылся в улыбке.
— Дай ему работенку, пусть трудится, парень он смирный, — сказал я.
— Образование у тебя какое? — спросил главный.
Размик потоптался на месте, покосился на меня.
— Говори.
— Десять классов.
— Отец работает?
Размик снова взглянул на меня. Я кивнул головой.
— Работает…
— Сколько получает?
Размик удивленно уставился на меня. Я снова кивнул, но он, вместо того чтобы ответить, захохотал.
— Чего гогочешь? — спросил главный.
Размик продолжал громко, от души хохотать. Потом наконец перестал и спросил неожиданно:
— А ты можешь мешок муки на себя взвалить?
Главный тоже рассмеялся, покрутил головой, написал что-то на листке бумаги и протянул его мне:
— Пройдите в отдел кадров.
Но в отдел кадров мы так и не пошли. Размик вернулся в село…
Почему я все это вспомнил?
Сейчас, на свадьбе, мы сидим рядом; он уже немного хмельной и, тоскливо поводя глазами, тихонько мурлычет себе под нос: «А не ты ли меня поймешь?..»
Вот уже около шести лет он работает экскаваторщиком на цементном заводе. Женат, трех дочерей имеет. Другим он стал, изменился, а может, просто повзрослел на шесть лет…
Давно я не был в нашем селе, не видал его.
Наше село…
Удивительное дело — не было у нас связи с селом. Отец, не поладив с земляками, укатил оттуда в Ереван в двадцать девятом году и ни разу не возвращался обратно. И все же мы, дети жителей села, нынче ставших настоящими горожанами, говорим «наше село», да еще с такой уверенностью, с какой и не каждый деревенский скажет.
А сейчас, на свадьбе, сидящий рядом со мной Размик приговаривает:
— Ну, конечно, до вашего «Двина» или «Армении» нам далеко, но уж чем богаты…
Он подмигивает мне. А я гляжу на него и мысленно твержу: «Размик, милый ты мой, жить в городе — еще не значит пить „Двин“ и „Армению“. Да и не „наши“ они вовсе, если хочешь знать. У вас вот — худо ли, хорошо ли, да свое. А для нас все в магазине». Я молча выпиваю. Ух ты, крепко! Он смеется, заметив, как меня перекосило.
— А мы что, каменные, что ли? — И поворачивается к музыкантам: — А ну давайте что-нибудь такое, да повеселее!
У кларнетиста волосы растрепаны, он небрит, но при галстуке. Зачем он его надел? Понимаю. Половина приглашенных — из Еревана, пусть видят, что и здешние не лыком шиты…
— А ну давай, Аршо-джан! Жми! — подзадоривает Размик, и Аршо «жмет» такую стремительную мелодию — румынскую или молдавскую, не разберу, что будь здесь настоящий музыкант — молдаванин или румын, — и тот бы позавидовал.
— Ну, что скажешь? — гудит мне в ухо Размик. — Правда, мы люди деревенские…
Аршо, понятно, знает цену своему искусству. Как бы там ни было, «деревенская часть» гостей довольна и горда его игрой. Все деревенские то смотрят поощрительно на Аршо, то чуть-чуть насмешливо на гостей из города. Мол, не воображайте… А «городским» — нипочем, едят себе, разговаривают, шумят. Дело доходит до того, что Размик вскакивает и орет:
— Эй! Вы же не на профсоюзном собрании! Здесь слушать надо!
Ну, ясно: это не только для того, чтобы заставить уважать труд музыкантов. Или я ничего не понимаю, или слишком хорошо понимаю, что в представлении местных жителей у них с городскими счет 0:1, который они хотели бы сравнять чем-то не своим — не то румынским, не то молдавским. Одним словом — «не воображайте» …
Но тут произошло нечто совсем неожиданное.
Встал с места один из наших родственников (все деревенские говорили о нем: «Настоящий министр — по виду и по всему!») и сделал знак музыкантам. Те перестали играть.
— Ребята, дорогие, — сказал министр, — играете вы здорово, это верно, но давайте-ка что-нибудь наше, деревенское, а? Вы же араратцы, черт побери!
Музыканты недоуменно уставились на Размика, а Размик, которого тамада назначил «руководителем по музыкальной части», недовольно поморщился и пробурчал:
Ниоткуда не открывается такой прекрасный вид на гору Арарат, как из нашего села. Не потому ли и пришло на ум людям, что настоящее название села — Арарат?
Есть у меня двоюродный брат по имени Размик. Прибыл он как-то в город прямо из нашего села. В город, то есть в Ереван. Ведь теперь многие и поспорить могут — какой, мол, город имеешь в виду: Ереван ли, Кировакан, а может, Алаверди? Что ж, городов у нас стало много, сразу не перечтешь. Так вот, приехал этот Размик в Ереван, в институт поступать, и к нам зашел, а я, по правде говоря, и не знал, что у меня есть двоюродный брат, да еще Размик. Если хорошенько копнуть в наших родственных связях, выяснится, что он — младший сын дочери сына брата моего прадеда. Но ему велели зайти в город в дом дяди — он и зашел к нам. Отец мой вспомнил его, расцеловал и сказал, что это мой двоюродный брат. Ну, двоюродный так двоюродный. Он подошел, пожал мне, как водится, руку и сел напротив с каким-то не то насмешливым, не то почтительным видом. На селе ему внушили, что я непременно помогу ему поступить в институт, поскольку и сам выучился, стал инженером, и уж худо-бедно, если не с десятью, то хоть с одним каким-нибудь начальником да знаком. Коротко и ясно. Вот он и прибыл и сидит напротив меня, не то смущенно, не то посмеиваясь, упершись в колени громадными своими ладонями. А я разглядываю его и, слегка поддевая, задаю вопросы:
— А плюс бэ в квадрате чему равно, знаешь?
— Может, и знаю.
— Ну, чему?
— Да уж чему-нибудь… — мямлит он, по-ребячьи краснея.
Уже к вечеру, когда мы как будто немного привыкли друг к другу, он меня спросил: «Вытянет „Спартак“?» Я уверенно ответил: «Вытянет». Помолчав, он сказал: «Правда, эта Бриджит Бардо ни на что не похожа?» — а я подтвердил: «Ни на что не похожа». И тогда он ухмыльнулся:
— А плюс бэ в квадрате равняется… — и сказал все правильно.
Я потрепал его по плечу, а он буркнул:
— Спроси что-нибудь поприличнее, тоже мне вопрос!
Вскоре он сдал документы в политехнический институт, получил тройку по математике, тройку по физике, четверку по химии и заявил мне:
— Так и не возьму в толк, какой факультет лучше?
— Ты же подал на химический, чего спрашиваешь?
— А я почем знаю, у нас в селе цемзавод, вот я и подал на химический…
По русскому языку он срезался. Домой вернулся мрачный. Мы уже привыкли к тому, что он всегда после экзамена ударом ноги распахивал дверь и, ухмыляясь, объявлял:
— Отвечал хорошо, но поставили «три». Ну, ясное дело, я парень деревенский…
Но в этот раз он был мрачен, даже от обеда отказался. Я подошел, положил руку ему на плечо. Он мотнул головой и, не глядя на меня, пробормотал:
— Э-э, я же знаю русский. — И, забавно выговаривая слова, произнес по-русски: — Куда вы спешите, девушка? — Криво усмехнулся и снова помотал головой.
— Ну, не беда, бывает, — сказал я.
Размик задумался, потом спросил:
— А ведь говорили, что, если ты захочешь, придумаешь что-нибудь…
Я неопределенно хмыкнул. Он понял меня и на другой день уехал в село. Месяца через два явилась его мать и стала просить, чтобы я пристроил его на работу, потому что, «сам знаешь, город все-таки… Жалко мальчика…».
Я пошел с Размиком к знакомому — главному инженеру завода.
Главный посмотрел на Размика и, словно не сумев сразу разглядеть его, сел и смерил с ног до головы взглядом. Оглядел и расплылся в улыбке.
— Дай ему работенку, пусть трудится, парень он смирный, — сказал я.
— Образование у тебя какое? — спросил главный.
Размик потоптался на месте, покосился на меня.
— Говори.
— Десять классов.
— Отец работает?
Размик снова взглянул на меня. Я кивнул головой.
— Работает…
— Сколько получает?
Размик удивленно уставился на меня. Я снова кивнул, но он, вместо того чтобы ответить, захохотал.
— Чего гогочешь? — спросил главный.
Размик продолжал громко, от души хохотать. Потом наконец перестал и спросил неожиданно:
— А ты можешь мешок муки на себя взвалить?
Главный тоже рассмеялся, покрутил головой, написал что-то на листке бумаги и протянул его мне:
— Пройдите в отдел кадров.
Но в отдел кадров мы так и не пошли. Размик вернулся в село…
Почему я все это вспомнил?
Сейчас, на свадьбе, мы сидим рядом; он уже немного хмельной и, тоскливо поводя глазами, тихонько мурлычет себе под нос: «А не ты ли меня поймешь?..»
Вот уже около шести лет он работает экскаваторщиком на цементном заводе. Женат, трех дочерей имеет. Другим он стал, изменился, а может, просто повзрослел на шесть лет…
Давно я не был в нашем селе, не видал его.
Наше село…
Удивительное дело — не было у нас связи с селом. Отец, не поладив с земляками, укатил оттуда в Ереван в двадцать девятом году и ни разу не возвращался обратно. И все же мы, дети жителей села, нынче ставших настоящими горожанами, говорим «наше село», да еще с такой уверенностью, с какой и не каждый деревенский скажет.
А сейчас, на свадьбе, сидящий рядом со мной Размик приговаривает:
— Ну, конечно, до вашего «Двина» или «Армении» нам далеко, но уж чем богаты…
Он подмигивает мне. А я гляжу на него и мысленно твержу: «Размик, милый ты мой, жить в городе — еще не значит пить „Двин“ и „Армению“. Да и не „наши“ они вовсе, если хочешь знать. У вас вот — худо ли, хорошо ли, да свое. А для нас все в магазине». Я молча выпиваю. Ух ты, крепко! Он смеется, заметив, как меня перекосило.
— А мы что, каменные, что ли? — И поворачивается к музыкантам: — А ну давайте что-нибудь такое, да повеселее!
У кларнетиста волосы растрепаны, он небрит, но при галстуке. Зачем он его надел? Понимаю. Половина приглашенных — из Еревана, пусть видят, что и здешние не лыком шиты…
— А ну давай, Аршо-джан! Жми! — подзадоривает Размик, и Аршо «жмет» такую стремительную мелодию — румынскую или молдавскую, не разберу, что будь здесь настоящий музыкант — молдаванин или румын, — и тот бы позавидовал.
— Ну, что скажешь? — гудит мне в ухо Размик. — Правда, мы люди деревенские…
Аршо, понятно, знает цену своему искусству. Как бы там ни было, «деревенская часть» гостей довольна и горда его игрой. Все деревенские то смотрят поощрительно на Аршо, то чуть-чуть насмешливо на гостей из города. Мол, не воображайте… А «городским» — нипочем, едят себе, разговаривают, шумят. Дело доходит до того, что Размик вскакивает и орет:
— Эй! Вы же не на профсоюзном собрании! Здесь слушать надо!
Ну, ясно: это не только для того, чтобы заставить уважать труд музыкантов. Или я ничего не понимаю, или слишком хорошо понимаю, что в представлении местных жителей у них с городскими счет 0:1, который они хотели бы сравнять чем-то не своим — не то румынским, не то молдавским. Одним словом — «не воображайте» …
Но тут произошло нечто совсем неожиданное.
Встал с места один из наших родственников (все деревенские говорили о нем: «Настоящий министр — по виду и по всему!») и сделал знак музыкантам. Те перестали играть.
— Ребята, дорогие, — сказал министр, — играете вы здорово, это верно, но давайте-ка что-нибудь наше, деревенское, а? Вы же араратцы, черт побери!
Музыканты недоуменно уставились на Размика, а Размик, которого тамада назначил «руководителем по музыкальной части», недовольно поморщился и пробурчал:
БАГДАСАР
Перевод Е. Шатирян
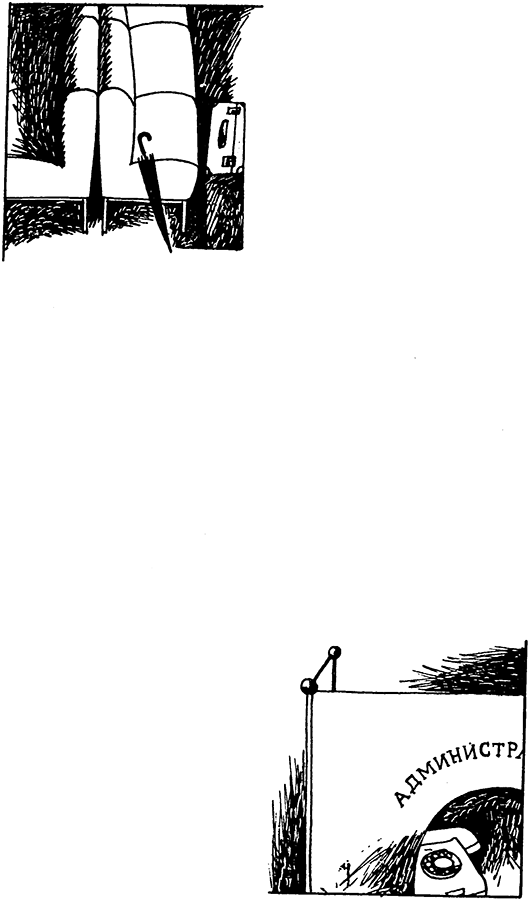 Лишь когда «Ил-18», сверкнув хвостом, взмыл в небо и в аэропорту внезапно наступила тишина, Багдасар заметил своих друзей: они стояли неподалеку и весело ухмылялись, глядя на него.
— Ну вот, явились! — пробурчал Багдасар, оставаясь сидеть на скамейке.
Было тепло, хотя под деревьями еще лежал грязный подтаявший снег. И было необыкновенно приятно чувствовать на спине тепло первого весеннего солнца, которое растекалось по всему телу, вызывая легкую истому.
Друзья гурьбой подошли к Багдасару и стали по очереди хлопать его по плечу. Тот даже не пытался протестовать; добродушно улыбаясь, он только чуть приподнимал после каждого удара плечо, молча ожидая очередного проявления дружеских чувств.
— А ты что не подходишь? — обратился Багдасар к самому молодому из них, который, стоя в стороне, с интересом наблюдал за ними. — Подойди уж, тоже стукни, и покончим с этим.
— Не-е, — засмущался парень.
— Зачем же ты тогда пришел? — Багдасар даже обиделся.
— Ну давай хлопни разок! — Ребята стали подталкивать парня к Багдасару, и он, вконец смутившись, подошел и дотронулся до его плеча.
— Ничего, — заверил его Багдасар, — скоро и ты станешь таким же нахалом, как эти. Все плечо мне отбили…
Его слова вызвали новый взрыв смеха, а один из ребят грустно спросил:
— Едешь, значит?
— Еду… Наконец-то отдохну от вас!
— А мы от тебя…
И они снова засмеялись.
Это были заводские ребята, грубоватые и прямодушные. Пришли они проводить Багдасара, своего товарища по работе, который уезжал на неделю в командировку, в шутку названную ими «особым заданием».
— Да, чуть не забыл, — сказал один из них, — береги себя, смотри не простудись.
— Пиши чаще…
— Веди себя прилично, не забывай, что ты отец семейства…
Так они то шутили с притворной серьезностью, то шутя говорили о серьезном и то и дело заливались смехом. Компания привлекала всеобщее внимание. Кто посматривал на них с удивлением, кто — с улыбкой. Видимо, они где-то выпили — не зря ведь черноглазый парень с густыми бровями постукивал указательным пальцем по горлышку бутылки, выглядывающей из внутреннего кармана пальто.
— А не выпить ли нам на дорогу? — предложил он.
— Еще чего! — возразили ребята. — Мы же эти бутылки Багдасару принесли.
— Что ж, будь по-вашему, — покорно сказал черноглазый и, достав из кармана бутылку трехзвездочного коньяка, поставил ее на скамейку, рядом с Багдасаром. — Пусть тебе там икнется…
— Прими и от меня, — доставая из кармана бутылку, произнес другой.
Так, шутя и смеясь, друзья выложили на скамейку дюжину бутылок коньяка.
День был воскресный, в аэропорту было многолюдно, и многие продолжали с нескрываемым интересом смотреть на эту шумную компанию и на Багдасара, по обе стороны которого на скамейке выстроилась батарея бутылок.
— Да не позорьте вы меня! — возмутился наконец Багдасар и хотел было встать, но друзья придержали его сзади за плечи. — Ну куда я их дену?..
— Да ты что? — неожиданно накинулся на него один из товарищей, ровесник Багдасара, мужчина лет сорока пяти. — Если ты там чего и добьешься, так только благодаря им… А за красивые глазки тебе никто ничего не даст…
Было непонятно — шутит он или сердится всерьез.
— Ты думаешь — пригодятся?.. — с сомнением спросил Багдасар.
— Сейчас объясню…
— Лучше объясни своей теще, — огрызнулся Багдасар.
Двое ребят, пошептавшись о чем-то, отделились от компании и отправились в сторону аэровокзала.
— Куда вы? — окликнул их кто-то, но ответа не последовало.
Отсутствовали они недолго, а вернувшись, поставили перед Багдасаром дешевенький картонный чемодан.
— А не разобьются? — забеспокоились ребята.
— И об этом подумали, — сказал один из них. Многозначительно подмигнув, он открыл чемодан и выложил его содержимое на скамейку: это были дешевые разноцветные женские панталоны.
— Ну и ну! — оживились ребята, — вот тебе и Або!.. — И, смеясь, начали заворачивать бутылки.
Багдасар остановил их.
— Погодите, — сказал он и, достав из кармана ручку, принялся надписывать на этикетках бутылок имена: Або, Зарзанд, Рубо, Серож, Авет, Феликс, Нерсес… Написав очередное имя, он вручал бутылку товарищам, чтобы те ее завернули.
— Зачем ты это делаешь?..
— Должен же я знать — из чьей бутылки пью?..
— Ты пить едешь или делом заниматься?..
— Так вот, послушай, — наставительно начал старший из товарищей. — Четыре бутылки вручишь Фролу Романычу. Это начальник производства…
— А как я это сделаю?
— Скажешь: «Пламенный привет из солнечной Армении» — и вручишь, — подсказал другой.
— Не мешай, — прервал его старший. — Он выпить любит, поможет тебе в деле…
— Одну бутылку отдашь администратору гостиницы. Но сделаешь это в двенадцать часов ночи — не раньше…
— Две бутылки начальнику отдела сбыта…
— Нет, лучше завскладом, чтобы не тянул с отгрузкой…
— Но если увидишь, что дело не ладится, — коньяк зря не раздавай. Позвони директору, скажи — из Еревана, четыре тысячи километров проехал, дважды делал пересадку.
— Да ведь всего одна пересадка!
— А ты скажи, что две, ему-то откуда знать?
— Ты думаешь, он меньше твоего знает?
По радио объявили, что пассажиры могут пройти на посадку. Багдасар по очереди пожал руки товарищам, дошел до выхода на летное поле, но тут обернулся и, не сказав ни слова, побежал обратно к зданию аэровокзала. Друзья удивленно глядели ему вслед, пока не заметили семейство Багдасара: пятеро детей, выстроившись в ряд у здания аэровокзала, молча смотрели на отца. Чуть поодаль с грудным ребенком на руках стояла жена. Багдасар поцеловал детей и уже собрался было уходить, но неожиданно повернулся и, не стыдясь никого, поцеловал жену.
Лишь когда «Ил-18», сверкнув хвостом, взмыл в небо и в аэропорту внезапно наступила тишина, Багдасар заметил своих друзей: они стояли неподалеку и весело ухмылялись, глядя на него.
— Ну вот, явились! — пробурчал Багдасар, оставаясь сидеть на скамейке.
Было тепло, хотя под деревьями еще лежал грязный подтаявший снег. И было необыкновенно приятно чувствовать на спине тепло первого весеннего солнца, которое растекалось по всему телу, вызывая легкую истому.
Друзья гурьбой подошли к Багдасару и стали по очереди хлопать его по плечу. Тот даже не пытался протестовать; добродушно улыбаясь, он только чуть приподнимал после каждого удара плечо, молча ожидая очередного проявления дружеских чувств.
— А ты что не подходишь? — обратился Багдасар к самому молодому из них, который, стоя в стороне, с интересом наблюдал за ними. — Подойди уж, тоже стукни, и покончим с этим.
— Не-е, — засмущался парень.
— Зачем же ты тогда пришел? — Багдасар даже обиделся.
— Ну давай хлопни разок! — Ребята стали подталкивать парня к Багдасару, и он, вконец смутившись, подошел и дотронулся до его плеча.
— Ничего, — заверил его Багдасар, — скоро и ты станешь таким же нахалом, как эти. Все плечо мне отбили…
Его слова вызвали новый взрыв смеха, а один из ребят грустно спросил:
— Едешь, значит?
— Еду… Наконец-то отдохну от вас!
— А мы от тебя…
И они снова засмеялись.
Это были заводские ребята, грубоватые и прямодушные. Пришли они проводить Багдасара, своего товарища по работе, который уезжал на неделю в командировку, в шутку названную ими «особым заданием».
— Да, чуть не забыл, — сказал один из них, — береги себя, смотри не простудись.
— Пиши чаще…
— Веди себя прилично, не забывай, что ты отец семейства…
Так они то шутили с притворной серьезностью, то шутя говорили о серьезном и то и дело заливались смехом. Компания привлекала всеобщее внимание. Кто посматривал на них с удивлением, кто — с улыбкой. Видимо, они где-то выпили — не зря ведь черноглазый парень с густыми бровями постукивал указательным пальцем по горлышку бутылки, выглядывающей из внутреннего кармана пальто.
— А не выпить ли нам на дорогу? — предложил он.
— Еще чего! — возразили ребята. — Мы же эти бутылки Багдасару принесли.
— Что ж, будь по-вашему, — покорно сказал черноглазый и, достав из кармана бутылку трехзвездочного коньяка, поставил ее на скамейку, рядом с Багдасаром. — Пусть тебе там икнется…
— Прими и от меня, — доставая из кармана бутылку, произнес другой.
Так, шутя и смеясь, друзья выложили на скамейку дюжину бутылок коньяка.
День был воскресный, в аэропорту было многолюдно, и многие продолжали с нескрываемым интересом смотреть на эту шумную компанию и на Багдасара, по обе стороны которого на скамейке выстроилась батарея бутылок.
— Да не позорьте вы меня! — возмутился наконец Багдасар и хотел было встать, но друзья придержали его сзади за плечи. — Ну куда я их дену?..
— Да ты что? — неожиданно накинулся на него один из товарищей, ровесник Багдасара, мужчина лет сорока пяти. — Если ты там чего и добьешься, так только благодаря им… А за красивые глазки тебе никто ничего не даст…
Было непонятно — шутит он или сердится всерьез.
— Ты думаешь — пригодятся?.. — с сомнением спросил Багдасар.
— Сейчас объясню…
— Лучше объясни своей теще, — огрызнулся Багдасар.
Двое ребят, пошептавшись о чем-то, отделились от компании и отправились в сторону аэровокзала.
— Куда вы? — окликнул их кто-то, но ответа не последовало.
Отсутствовали они недолго, а вернувшись, поставили перед Багдасаром дешевенький картонный чемодан.
— А не разобьются? — забеспокоились ребята.
— И об этом подумали, — сказал один из них. Многозначительно подмигнув, он открыл чемодан и выложил его содержимое на скамейку: это были дешевые разноцветные женские панталоны.
— Ну и ну! — оживились ребята, — вот тебе и Або!.. — И, смеясь, начали заворачивать бутылки.
Багдасар остановил их.
— Погодите, — сказал он и, достав из кармана ручку, принялся надписывать на этикетках бутылок имена: Або, Зарзанд, Рубо, Серож, Авет, Феликс, Нерсес… Написав очередное имя, он вручал бутылку товарищам, чтобы те ее завернули.
— Зачем ты это делаешь?..
— Должен же я знать — из чьей бутылки пью?..
— Ты пить едешь или делом заниматься?..
— Так вот, послушай, — наставительно начал старший из товарищей. — Четыре бутылки вручишь Фролу Романычу. Это начальник производства…
— А как я это сделаю?
— Скажешь: «Пламенный привет из солнечной Армении» — и вручишь, — подсказал другой.
— Не мешай, — прервал его старший. — Он выпить любит, поможет тебе в деле…
— Одну бутылку отдашь администратору гостиницы. Но сделаешь это в двенадцать часов ночи — не раньше…
— Две бутылки начальнику отдела сбыта…
— Нет, лучше завскладом, чтобы не тянул с отгрузкой…
— Но если увидишь, что дело не ладится, — коньяк зря не раздавай. Позвони директору, скажи — из Еревана, четыре тысячи километров проехал, дважды делал пересадку.
— Да ведь всего одна пересадка!
— А ты скажи, что две, ему-то откуда знать?
— Ты думаешь, он меньше твоего знает?
По радио объявили, что пассажиры могут пройти на посадку. Багдасар по очереди пожал руки товарищам, дошел до выхода на летное поле, но тут обернулся и, не сказав ни слова, побежал обратно к зданию аэровокзала. Друзья удивленно глядели ему вслед, пока не заметили семейство Багдасара: пятеро детей, выстроившись в ряд у здания аэровокзала, молча смотрели на отца. Чуть поодаль с грудным ребенком на руках стояла жена. Багдасар поцеловал детей и уже собрался было уходить, но неожиданно повернулся и, не стыдясь никого, поцеловал жену.
* * *
Багдасар стоял с чемоданом в руках на незнакомом шумном аэродроме. Затем растерянно кинулся в одну сторону, в другую, собрался было спросить кого-нибудь, когда вылетает самолет рейсом тысяча четыреста двадцать один, где будут регистрировать билеты, но не сумел перехватить чей-нибудь взгляд: все были озабочены и спешили куда-то. Багдасар беспомощно потоптался на месте, поставил чемоданы рядом с собой, снял меховую шапку, вытер ею вспотевшее лицо и вновь огляделся. Из-за неблагоприятной погоды вылет самолетов задерживался. На дворе было темно, шел снег, завывал ветер. Пассажиры набились в зал ожидания, заняли все кресла, устроились на подоконниках, чемоданах, и в зале, как в пчелином улье, стоял непрекращающийся гул, волнами распространялся едкий запах пота. Багдасар вновь огляделся и, заметив проходящего невдалеке милиционера, подхватил чемоданы и побежал за ним. На бегу чемоданы задевали прохожих, вслед Багдасару неслись возгласы возмущения, а он, понимая, что слова относятся к нему, бормотал: — Да я же опаздываю, не видите, что ли? Около автомата с газированной водой он нагнал милиционера. — Минуточку, — крикнул он, — минуточку! Милиционер обернулся. Багдасар опустил чемодан, с трудом перевел дух. Милиционер поднял руку, чтобы козырнуть ему. Багдасар остановил его, перехватив руку, добродушно и чуть снисходительно улыбнулся, как старому знакомому: — Не надо… — То есть как не надо? — удивился сержант. — Не надо, и все, — великодушно потряс его за локоть Багдасар. — Уберите руки… — Э!.. — даже обиделся Багдасар. — Я опаздываю. — Меня это не интересует. Существует порядок. — Тьфу, — тряхнул головой Багдасар. — Тут человек опаздывает, а тебя не интересует?.. — А вы не плюйтесь! — повысил голос сержант. — Научитесь себя вести… Через несколько секунд вокруг них собралась толпа. — Слыхали? — обратился Багдасар к собравшимся. — Выходит, я не умею себя вести?.. — Да, не умеете… — Молод ты еще, постыдился бы… — покачав головой, сказал Багдасар и, пожалев, что обратился к милиционеру, хотел было взять в руки чемоданы, но сержант схватил его за локоть: — Вы еще и оскорбляете? Следуйте за мной… — Откуда ты взялся на мою голову? — высвобождая руку, вспылил Багдасар. — Хотел у тебя что-то спросить, но больше не хочу. Подавись своим ответом… — Не спорить и не шуметь! Следуйте за мной!.. — Что он ко мне привязался?.. — обратился Багдасар к толпе. — «Что он привязался»?.. — передразнил Багдасара плешивый мужчина и почесал лысину. — А ты научись подчиняться. Понял?.. — А тебя кто просил вмешиваться?.. Ты-то тут при чем? — зашипел на него Багдасар. — Ясное дело, пьяный! — сказал кто-то из толпы. — Поглядите на его красный нос… — Пошли, — снова потянул его за рукав милиционер. — Никуда я не пойду. Я опаздываю… — Опаздывает! — засмеялись вокруг. — Слышали, он опаздывает?! — Погодите-ка! — расталкивая всех, пробилась вперед невысокая пожилая женщина. — Погодите… Я их знаю!.. Багдасар с грустью и изумлением посмотрел на женщину. Его, видимо, заинтересовало, что знает эта женщина. — Я их хорошо знаю!.. — женщина ткнула пальцем в Багдасара. — А вы не лезьте в разговор… — Это я лезу?.. — Вот именно. Не лезьте, — сказала женщина. — Чуть дело к весне идет, из своих теплых краев прилетают эти, стаями летят… А спросите — зачем? Спекулянты они, спекулянты!.. — Это я спекулянт?.. — Вы. Откройте-ка чемоданы, увидите, что в них полно цветов. Откуда? И это объясню: за копейки покупают в государственных магазинах, привозят к нам и втридорога продают. Вот кто это такие!.. — Женщина закончила речь, смерила презрительным взглядом Багдасара и заключила: — Вот так-то!.. — Замолчи! — крикнул Багдасар. — Довольно! — прервал их милиционер. — Пошли. — Пошли, — скрипнув зубами, Багдасар поднял чемоданы, взглядом отыскал женщину. — И ты должна пойти. Сейчас же должна пойти. — Это тебя ведут в милицию, а не ее, — вмешался какой-то мужчина из толпы. — Понадобится, так и она пойдет, и другие. Ясно?.. — Ну и люди!.. — по-армянски пробормотал Багдасар и, опустив голову, зашагал рядом с милиционером. В комнате милиции аэропорта дежурный лейтенант проверил документы Багдасара, принес извинения, позвонил куда-то и, выяснив, что самолет рейсом тысяча четыреста двадцать один вылетает только в четыре часа утра, отпустил его.* * *
В проходной завода проверили командировочное удостоверение Багдасара и приложенное к нему письмо, и вскоре в маленьком окошечке, выкрашенном в зеленый цвет, появилась женская рука, положила пропуск вместе с другими документами на дощечку перед окном и исчезла. — Все? — спросил Багдасар. — Все. Есть еще кто-нибудь?.. — Никого нет, — ответил Багдасар. По дороге сюда, на завод, неся тяжелые чемоданы, он не раз повторял про себя: «Я из Еревана, проехал четыре тысячи километров, дважды делал пересадку…» И многое еще мысленно говорил тогда Багдасар, но сейчас, когда все это оказалось ненужным и ему с такой легкостью выдали пропуск, он был даже немного растерян. — Ну чего стоишь? — глядя на озабоченного Багдасара, спросил вахтер. — Получил пропуск, так проходи. Только чемоданы придется оставить здесь. — Что?.. — очнулся Багдасар. Он надвинул шапку на лоб, почесал затылок, поднял чемоданы и прошел вперед. — Я из Армении. Ведь четыре тысячи километров проехал, понимаешь?.. — Какое мне дело, откуда ты? — посмеиваясь над его армянским акцентом, сказал вахтер. — Оставишь чемоданы здесь, тогда и пройдешь. — В Армении сейчас солнце, весна, а у вас тут настоящая зима!.. — Ты мне байки не рассказывай, — стукнул ногой о ногу вахтер, мужчина с торчащими скулами, одетый в овечий тулуп. — Поставь чемоданы. Некогда мне тут с каждым разговаривать. Да не ставь ты их прямо в проходной, отнеси в конторку!.. Объясняй каждому в отдельности, делать мне больше нечего… Багдасар поставил чемоданы в конторке, вышел. Вахтер крикнул ему вслед: — Смотри, чтобы до пяти часов забрал их! Иначе — когда сменят меня — вот что получишь! — смеясь над собственной шуткой, он показал кукиш и уже серьезно добавил: — Ладно уж, иди… — Подумаешь, — отойдя довольно далеко от проходной, громко сказал Багдасар. — Корчит из себя большого начальника… Багдасар огляделся. Ему показались знакомыми щиты красного цвета, что стояли вдоль всей дороги над толстым слоем снега. Багдасар шел, на ходу читая плакаты, а потом, усмехнувшись, сказал: — У нас то же самое написано. Только щиты расставлены в другом порядке. Невдалеке протяжно прогудел электровоз. Гудок вспугнул ворон, они с карканьем взлетели и расселись на крыше соседнего здания. Багдасар хотел спросить у кого-нибудь, где находится кабинет директора, но, никого не встретив, зашагал к первой попавшейся двери. То ли потому, что он попал в теплое помещение после уличного холода, то ли оттого, что в механическом цехе ему все было знакомо, и лишь рабочие были чужие, Багдасар остановился у дверей. Сквозь другие шумы до него доносился пронзительный звук режущего металла, и Багдасар понял, что это работает фрезерный станок. Мимо Багдасара время от времени проходили люди. Ему хотелось окликнуть кого-нибудь; сказать, что он приехал из Армении, что он хорошо знает каждую операцию, выполняемую здесь, и потом спросить — где находится директорский кабинет, но почему-то не решался это сделать. «Чего ты тут торчишь?» — наконец сказал он себе мысленно и, откашлявшись, подошел к стоящему поблизости рабочему. — Мне нужен директор… — Директор?.. — переспросил белобрысый парень, вытер тряпкой замасленные руки. — Сейчас сбегаю, позову… — То есть как это позовешь?.. — Очень просто. Звать тебя как?.. — Багдасар. — Ага. Побегу и скажу: «Товарищ директор, тебя тут срочно зовут…» — Нет, не надо, — не поняв шутки, забеспокоился Багдасар. — Ты что, с неба свалился?.. — С неба, — подтвердил Багдасар. — То есть как с неба? — теперь уже оторопел парень. — На самолете прилетел из Армении. — А! — обрадовался парень. — Ты Вардана Акопяна знаешь?.. — Акопян Вардан, — сдвинув брови, повторил Багдасар. — Акопян Вардан… — Черноволосый, маленький, худой такой парень. — Черноволосый, маленький, худой, — повторил Багдасар. — Знаешь? — Что?.. Да, знаю. — Он в деревне живет. — В какой деревне?.. — Название забыл. Так, говоришь, знаешь его?.. — Знаю. — Мы в армии вместе служили. Хороший парень. — Да, вместе служили. Хороший парень. — Ну, конечно, — обрадовался парень. — Армения ведь маленькая, все друг друга знают. — Молодец! — похлопав парня по плечу, улыбнулся Багдасар. — А все же скажи, как мне пройти к директору? — Войдешь в здание заводоуправления, поднимешься на второй этаж, по левую сторону… первая, вторая, третья… четвертая дверь. Багдасар пожал рабочему руку, подумал: вот хороший парень, надо обязательно после работы найти его, познакомиться с ним поближе.* * *
Дверь в приемную директора Багдасар нашел не сразу. И хотя вовсе не был уверен в успехе своей миссии, вошел туда беспечной походкой бывалого человека. Затем не удержался и украдкой оглядел комнату. В ней не было ничего необычного. Недалеко от двери за столом сидела секретарша, на стульях вдоль всей стены молча сидели посетители, уставившись сосредоточенными взглядами в какую-нибудь точку. Багдасар прошел вперед. Секретарша, худая, с завитыми волосами женщина лет сорока, подняла глаза от тетради: — Слушаю вас… Багдасар, улыбаясь, подошел к ней. — Привет из солнечной Армении, — протягивая руку, сказал он. Секретарша непроизвольно тоже протянула руку. — Здравствуйте… Багдасар пожал ей руку и, понимая, что эти восемь — десять человек, что сидят в приемной, тоже хотят попасть к директору, нагнулся к секретарше: — Мне к директору… — Что вы на ухо шепчете, точно в любви объясняетесь! — неожиданно взорвалась секретарша. — Всем надо к директору! — Не сердись, сестричка, — попробовал успокоить ее Багдасар. Люди, сидящие в приемной, отвлеклись от своих мыслей, оживились, одни неодобрительно закачали головами, другие усмехнулись. — Здесь государственное учреждение, — краснея, повысила голос секретарша, — и, пожалуйста, ведите себя как подобает… Секретарша, у которой от возмущения вздулись на шее вены, продолжала говорить, но Багдасар ее не слушал. Он вытер ладонью холодный пот со лба и пытался подыскать слова, которые успокоили бы женщину. Когда секретарша на секунду замолчала, чтобы перевести дух, Багдасар неожиданно для самого себя сказал: — Я из Армении. Четыре тысячи километров проехал, а ты кричишь на меня. Нехорошо делаешь, клянусь детьми… Секретарша невольно расхохоталась, затем, повторяя «клянусь детьми», достала из рукава жакета платок, вытерла выступившие на глазах слезы. Багдасар заулыбался и решил было, что все уже улажено, как вдруг один из посетителей поднялся со своего места — небольшого роста человек лет за пятьдесят, с широким лицом — и, подойдя к секретарше, поднял указательный палец. — А вы напрасно смеетесь! Это действительно государственное учреждение, и мы пришли сюда по государственному делу, а не на прогулку. — Что с вами? — повернулась к нему секретарша. — А то, что второй день не можем попасть к директору. — Из гостиницы выселяют, — пробурчал мужчина в очках с толстыми стеклами. — Это меня не касается, — заявила секретарша. — При чем тут она? — кивнув на секретаршу, откровенно подольстил ей тот, что сидел первым в очереди. — У директора уже третий час совещание… Зазвонил телефон. Секретарша взяла трубку. — Да, — сказала она, — это ты? Широколицый низкорослый мужчина вздохнул и, покачав головой, вернулся на свое место. Воцарилось молчание. Молчала и секретарша. Держа трубку около уха, она то улыбалась, то кивала головой, а то вдруг, вытаращив глаза, говорила: «ага». По-видимому, недалеко находился кузнечный цех, поскольку отчетливо был слышен глухой грохот кузнечного пресса. А Багдасар все еще стоял перед секретаршей и, неотрывно глядя на нее, вместе с ней улыбался или становился серьезным и, видимо, изрядно нервировал ее этим. — Что вы тут торчите? — прикрыв ладонью трубку, зашипела она на него. — Сядьте и ждите! Багдасар обиженно отошел, сел, покосился раз-другой на секретаршу и, подперев руками голову, хмуро уставился в пол. — На репетицию придешь? — спросила секретарша в трубку. — В семь часов… «Какая репетиция? — подумал Багдасар. — Может, танцует?.. Вряд ли… Поет?.. Нет, наверное, в драматическом кружке… Дездемона…» И, представив себе ее в роли Дездемоны, он было засмеялся, но, спохватившись, прикрыл ладонью рот. Секретарша и остальные удивленно покосились на него. — Вот оно как! — продолжала секретарша. — Я ведь с самого начала знала, что они — не муж и жена. Словом, вечером встретимся, поговорим. — Она повесила трубку, выдвинула ящик, посмотрелась в лежавшее там зеркальце, попудрилась, освежила помаду на губах и затем, нажав на кнопку связи с директором, проговорила в микрофон: — Иван Кондратьевич, в одиннадцать пятнадцать вы приглашены к Уварову. Осталось двадцать минут!..* * *
Ветер сметал с тротуаров снежную пыль, проносил ее по только что очищенному асфальту, играя с ней как кошка с мышью, неожиданно бросал, затем, подхватив, вновь гнал вперед. Багдасар зажмурился от снежной пыли, стал спиной к ветру и с сожалением вспомнил, как, сверкнув на жену глазами, выбросил из чемодана теплое зимнее белье. Теперь, когда не удалось попасть к директору, им овладело чувство какой-то беспомощности. — И как только тут люди живут! — проворчал он и, ища защиты от холода, побежал к какой-то двери. Он открыл ее, вошел в здание. Багдасару бросилась в глаза батарея, укрепленная высоко на лестничной клетке. Он обрадовался, подошел, прижался к батарее. Когда тепло медленно проникло в тело, Багдасар закурил и — то вслух, то мысленно — начал корить директора. — Ну вот, взял да ушел! — обратился он к нему. — А ты подумал о том, что же будут делать эти люди в такую холодину?.. На твоем месте я бы так рассудил: работники моего завода — местные люди, пусть подождут. И сказал бы секретарше — кончай там мазаться, пригласи всех приезжих войти. Рассадил бы их, поприветствовал, узнал бы, кому что нужно… Ах, тебе то-то нужно? Бери и уезжай, счастливого пути! А ты за чем пожаловал? По правде сказать, нам самим это очень нужно, но раз ты проехал четыре тысячи километров, — что ж, помогу… А тебе?.. Нет, браток, этого у нас нет. Было бы — с большим удовольствием. Но ты не огорчайся, лучше приходи ко мне вечером в гости. Посидим, потолкуем. А как же иначе, — пробурчал Багдасар. — Много ли нужно человеку?.. Если ты его ни разу больше не встретишь, то и этого достаточно, чтобы он до конца своей жизни поминал тебя добром… Группа девушек, спускавшихся по лестнице, отвлекла Багдасара от этих мыслей. Пошептавшись между собой, они посмотрели на прислонившегося к калориферу человека, прыснули и, ускорив шаги, вошли в цех. Багдасар вспомнил белобрысого парня из механического цеха. «Хороший, видно, парень, — подумал он, — пойду-ка поговорю с ним». Он бросил окурок в металлическую урну и направился к механическому цеху. Еще с порога, оглядываясь по сторонам, он стал взглядом искать парня. Фигура одного из рабочих показалась ему знакомой, но, подойдя ближе, Багдасар понял, что обознался. — В командировку приехал? — поймав взгляд Багдасара, спросил рабочий. Он закрепил на расточном станке брусок нержавеющей стали, затем проверил — крепко ли, остался доволен и вновь обратился к Багдасару: — Командировочный? — Да, — кивнул головой Багдасар, — в командировку приехал. — Учиться?.. — Еще чего — учиться! Я все умею… — Ого! — озорно блеснув глазами, воскликнул рабочий. — Слыхали? — он огляделся, но никто не обратил на него внимания, каждый был занят своим делом; тем не менее он продолжил: — Слыхали, он все умеет! Впервые вижу человека, который все умеет… — Он продолжал говорить, но в это время, заглушая его голос пронзительным звонком, двинулся подъемный кран и, покачивая металлическими крюками, подвешенными на тросах, остановился недалеко от станка. — Где это ты стал таким мастером на все руки? — снова услышал Багдасар голос рабочего. — Э, да что с тобой говорить! — махнул Багдасар рукой и отошел. Опустив голову, рассерженный, он прошел через цех, вошел в первую попавшуюся дверь и очутился под навесом, где стояло огромное множество холодильников, готовых к отгрузке. — Ха! — ежась от холода, позлорадствовал Багдасар. — Все ясно: делать вы их делаете, а отправлять не успеваете! Кому охота работать на таком холоде?.. Сколько же их на складе, если столько осталось здесь?.. Он прошел между холодильниками и увидел стоявший у небольшой платформы товарный вагон. Из вагона, толкая перед собой тележку, вышел человек с папиросой во рту и кому-то крикнул: — Не тяни, давай живее! — Он сдвинул папиросу в угол рта и тут заметил Багдасара. — Тебе чего? — Ничего. — А что ты тут делаешь? И кто ты такой? — Я Багдасар. — Багдасар — это твое имя? — Ага! — Ну, Багдасар, чеши-ка отсюда, не то нос отморозишь. Услышав этот разговор, двое молодых рабочих, грузивших холодильник на тележку, подошли к Багдасару. — Ты лучше делом своим займись, — сказал Багдасар. — Вон сколько вам еще надо погрузить. — Ха! — тряхнув головой, насмешливо произнес один из подошедших к нему грузчиков. — Еще и командует! Откуда ты( взялся, начальник? — А тебе какое дело? — Дело, конечно, не мое. Но если нос себе отморозишь — жена, чего доброго, домой не пустит. Все трое загоготали, выпуская изо рта пар. Багдасар холодно посмотрел на грузчиков и, неожиданно приняв решение, подошел к первому попавшемуся холодильнику, прислонился к нему и привычным движением взвалил его на спину. Но, пытаясь поудобней его пристроить, неожиданно поскользнулся — вероятно, лед под ногами припорошило снегом — и грохнулся наземь. Все трое бросились к нему и, подхватив под руки, подняли. — Оп-ля! — поднимаясь с искаженной от боли улыбкой, сказал Багдасар и, отряхивая пальто, добавил: — Лед тут под снегом… — Какой черт тебя принес?.. — рассердился пожилой. — А если бы тебя холодильником прихлопнуло? Багдасар не ответил, молча подошел к холодильнику, снова взвалил на спину и направился к товарному вагону. Внес холодильник в вагон и вскоре вышел. — Ну как?.. — спросил он грузчиков. Они молча продолжали разглядывать Багдасара. Затем один из них — широкоплечий парень среднего роста, лет двадцати пяти, сплюнул сквозь зубы, взглядом смерил Багдасара и сказал: — Тоже мне — удивил! Он взвалил холодильник себе на спину и отнес его в вагон, а выйдя оттуда, прислонился к столбу и, глядя на Багдасара, произнес: — Ну и что же?.. — Ха, — усмехнулся Багдасар. — Вы не смотрите, что я упал. — Он взвалил на спину второй холодильник, отнес его в вагон, вернулся и сказал почему-то по-армянски: — Вот так-то… — Ничего не скажешь, силенка у тебя есть, — похвалил пожилой, но Багдасару показалось, что он подсмеивается над ним. — Да уж побольше, чем у тебя!.. — А все равно, — сказал широкоплечий парень. — Слаб ты со мной тягаться. Он взвалил на спину холодильник и зашагал к вагону, а Багдасар, кряхтя, потащил третий. И тут началось… Без передышки они взваливали на спины холодильники, относили их в вагон, возвращались, каждый раз внимательно глядя друг другу в глаза, словно пытаясь определить — сколько еще выдержит соперник. — Жми, Вася! — подбадривали грузчики своего товарища. — Посмотрим, надолго ли его хватит?!.. «Надолго ли хватит…» — сжав зубы, мысленно повторил Багдасар. И громко сказал: — Вы еще увидите, с кем имеете дело!.. Неся пятый или шестой холодильник, Багдасар почувствовал страшную усталость. Когда, опустив холодильник, он выпрямился, голова у него так закружилась, что он зашатался. Прерывисто дыша, он подошел к друзьям Василия и тут только заметил, что они молчат и уже не выкрикивают: «Жми, Вася!» Василий же появился в дверях вагона, рукавом вытер пот, с иронией посмотрел на Багдасара и взялся за следующий холодильник. Пожилой достал пачку «Беломора», протянул Багдасару, затем товарищу. Василий, который тоже с трудом держался на ногах, направился было к ним, но передумал и пошел к холодильникам. — Хватит, Вася, — обратился к нему пожилой. — Будет вам друг перед другом выпендриваться! — И, повернувшись к Багдасару, сказал: — Он же мастер спорта по тяжелой атлетике, а ты с ним тягаться вздумал… Василий не дошел до холодильников, и было понятно, что ему тоже хочется передохнуть. Подойдя к Багдасару, он протянул ему руку и сказал: — Будем знакомы. Меня зовут Василий. — Знаю, — пробурчал Багдасар. — А я Багдасар. — А как будет покороче?.. — Короче нет. Багдасар — и все. — Сильный ты, оказывается, — улыбнулся Вася, похлопав Багдасара по плечу. Улыбка его была искренней, и Багдасар тоже улыбнулся. — Но ты оказался сильнее, — признался он. — А меня Егором звать, — представился пожилой. — А это Сергей. Пошли в помещение. А то вы оба вспотели. — Да, так недолго и простудиться, — согласился Вася и взял под руку Багдасара. — По правде говоря, когда я нес шестой, ноги у меня подгибались. Но я решил: умру, но не сдамся. — Ха, — улыбаясь, покрутил головой Багдасар. — И у меня дух перехватывало. Но зато холода я не чувствовал. — Тяжелы, проклятые, — сказал Вася. — Тяжелы, — подтвердил Багдасар. Мимо проехал электровоз, толкая перед собой вагоны, груженные углем. — Фью!.. — присвистнул Сергей, посмотрев на часы. — Уже десять минут, как перерыв начался! О чем вы думаете?.. Багдасар вспомнил, что ничего не ел, почувствовал голод. Поняв, что рабочие собираются в столовую, он помедлил. — Ну, я пойду, — сказал он. — Куда? Пошли, перекусим. — Нет, я сыт. Мне к директору нужно попасть, — сам не понимая почему, заупрямился Багдасар.* * *
Багдасар заглянул в приемную директора, но там никого не было. Вспомнив, что сейчас перерыв, он спустился вниз, спросил, где находится столовая. Заводская столовая была невелика, и он с некоторой гордостью подумал, насколько просторней столовая на его заводе. Он поел и собрался было снова направиться в приемную, но, подумав, что начальство обычно поздно уходит на перерыв, пошел осматривать цеха. Здесь все было так же, как и у них: те же конвейеры, цех окраски, те же автоматические станки, прессы… Он вспомнил ребят, грузящих холодильники: «Интересно, сколько они уже погрузили?..» Решил было сходить посмотреть, но подумал: «А вдруг, пока я здесь, директор придет к себе и снова уйдет?..» Он вышел из прессовочного цеха и отправился в приемную директора. Секретарша была на месте; склонившись над столом, она читала книгу. Ожидающих не было. Услышав шаги, секретарша оторвалась от книги, устало и безразлично посмотрела на Багдасара. «Смотрит так, словно это она холодильники грузила…» — Что вам нужно? — спросила секретарша. — Разве ты не знаешь, что мне нужно? — улыбнулся Багдасар. — «Не зна-ешь»! — передразнила Багдасара секретарша. — Вы мне не крестный, выражайтесь повежливей… Директора нет. — Как нет? — Директора нет, поймите. Видите, дверь открыта, в кабинете никого нет… — Когда же он приедет?.. — Не знаю, — холодно ответила секретарша, и Багдасар решил, что она конечно же знает. — Как же мне быть? — Как вам быть? — вспылила секретарша и оттолкнула книгу, лежавшую перед ней. — Разве я обязана за каждого думать?.. — Ведь я же проехал четыре тысячи километров, — попытался разжалобить ее Багдасар. — А кто вас просил? — оборвала секретарша. — Можно подумать, что вас кто-то звал сюда. Едут и едут, словно тут все сидят без дела и только их дожидаются. — И мы не бездельники. — Знаю я вас, — махнула рукой секретарша. — Если я позволю, с утра до вечера будете высиживать в приемной… — Знаешь что?.. — краснея, повысил голос Багдасар. — Знаешь что?.. — Но, не договорив, махнул рукой и стремительно вышел из приемной. Разговаривая сам с собой, ругая то секретаршу, то директора, он отправился к вахтеру, сунул ему в руку помятый пропуск, взял свои чемоданы и собрался было уходить, но его окрикнул вахтер: — Погоди. Пропуск не подписан… — А кто должен подписать?.. — Секретарша директора. — Что?! — скрипнул зубами Багдасар и вышел. — Послушай, — позвал вахтер. — Я бы тебе сейчас сказал… — буркнул Багдасар и ускорил шаг.* * *
Водитель такси сразу же понравился Багдасару. Добродушно улыбаясь, он вышел из машины, помог разместить чемоданы и, как только сел за руль, заговорил: — Ты, видно, не из местных. — Нет, я из Армении. — Я так и подумал — из Грузии или же из Армении. Что-нибудь продавать привез? — В командировку приехал. — А!.. Армяне иногда привозят сюда вино на продажу. — Везут в такую даль?.. — Ага. Неплохое вино, я тоже, бывает, покупаю. — Любишь выпить?.. — Любить-то люблю, но с тестем сладу нет. — А что он?.. Водитель ответил не сразу. Он замедлил ход, осторожно проехал ухабы и, вновь набрав скорость, ответил: — Да ведь он у меня живет, не могу же пить тайком от него. — Тайком нехорошо. — А как выпьет пару стаканов, хохотать начинает. Прямо надрывается от смеха… — Веселый, видно, человек… — Какой там веселый! Невпопад смеется, как ненормальный, понимаешь?.. — Да ну? — Это еще что! Играть начинает, вот тогда и вовсе невтерпеж. — На чем играет?.. — На басе, или как там его. Выходит на балкон и — бум-па, бум-па, бум-па!.. — Водитель, надув щеки, передразнил тестя. — Весь район на ноги поднимает. — Молодой он?.. — Молодой?.. Семьдесят лет ему, может, и больше… — И не стыдно ему?.. — Ха! — усмехнулся водитель. — Прошлой весной пришел участковый, конфисковал инструмент. Мы уж решили, что избавились. Не тут-то было: через пару дней тесть получил пенсию, пошел и купил другой бас. Звук у него в пять раз сильнее, чем у старого! — Ты ему не давай пить, — подумав, посоветовал Багдасар. — Как же не давать, если он приходит и садится рядом. — Да… — согласился Багдасар. — То-то и оно… А если пью где-нибудь вне дома, жена за глотку берет: мол, деньги транжиришь… — Положение у тебя нелегкое, — посочувствовал Багдасар. — Но ты держись. — Да я как-то нашел выход, — улыбнулся водитель. — Покупал ему билет в кино, говорил — иди, дед, в кино, развивайся. Он уходил, а я спокойно пил. Теперь пронюхал, больше не ходит… — Послушай, возьми отпуск, приезжай ко мне, хорошо проведем время. — В Армению? — Да. У меня и жить будешь. — Спасибо. Но Армения во-он где… — Водитель завернул, остановился перед каким-то зданием. — А вот и гостиница. Другой пока нет. Только начали строить. — Бумага у тебя есть? — Зачем тебе? — Адрес свой напишу. Водитель пошарил в карманах, достал пачку сигарет. — Напиши вот здесь. Но вряд ли приеду. — Кто знает? А вдруг надумаешь. — Багдасар написал свой адрес. — Смотри, если приедешь, а меня не будет — жене скажешь: «друг Багдасара» — и все. — А где же ты можешь быть? — На работе. — А-а… Они вышли из машины, водитель донес один из чемоданов до вестибюля. Багдасар подумал: «Может, бутылку коньяка дать? Хороший парень, пусть выпьет», — но пожалел и тем не менее, протягивая деньги, сказал: — Захочешь выпить коньяку — разыщи меня. Я пробуду здесь дней пять. — Ладно, — улыбнулся водитель. — До свидания. — До свидания. Он взглядом проводил машину, потом, взяв чемоданы, направился к администратору гостиницы. Первое, что он заметил, была табличка, стоявшая на полированном деревянном барьере. На ней большими бронзовыми буквами было написано: «Свободных мест нет». Багдасар осторожно опустил чемоданы и молча посмотрел на администратора: у него была почти лысая голова, которую он тщетно пытался прикрыть прядью волос. «Подойдешь в двенадцать часов ночи, — вспомнил Багдасар. — Отдашь бутылку коньяка». Посмотрел на часы — было около пяти часов вечера. «А если и после двенадцати администратор не даст номера? Может, попробовать сейчас?» Администратор что-то писал. Багдасар не решался задать ему вопрос, оторвать его от дела и все же, чтобы обратить на себя внимание, прочистил горло. Администратор поднял голову, поправил очки. Глаза у него были добрые, голубые. Багдасар улыбнулся. — Здравствуйте. — Здравствуйте, — администратор тоже улыбнулся. — Я из Еревана, — осмелел Багдасар. — В командировку приехал. — Очень приятно. — Вот спасибо! — обрадовался Багдасар. — Только вот спать мне негде. — Очень важный вопрос. — Еще бы. Если человеку в чужом городе негде жить, положение у него серьезное. — Крайне серьезное, — еще шире улыбнулся администратор. — Мы друг друга поняли, — многозначительно подмигнул Багдасар. — Конечно, поняли… «Нельзя дать ему остыть, — подумал Багдасар. — Куй железо, пока горячо…» Он быстро нагнулся, открыл чемодан, достал из него бутылку коньяка, оглядываясь, по сторонам, поставил ее перед администратором: — Армянский… — Не надо. Зачем вы это?.. — Пейте на здоровье. — Я непьющий. — С чаем, — многозначительно произнес Багдасар, — с чаем. Мой покойный отец всегда добавлял его в чай. Это же лекарство от тысячи болезней… — Например, от каких? — А чем ты болен?.. — У меня камень в мочеточнике, — ухмыльнулся администратор, — расширение вен на ногах, косточки растут на пятках. Подагра, слыхал о такой?.. — Слыхал. Как же с моим устройством? — Не говоря уж о сердце — что у всех есть. Но самое главное — желчный пузырь… — Желчный пузырь!.. — Помогает?.. — Говорю, как рукой снимает. Как же быть с жильем? — Значит, с чаем?.. — Да, — с видом знатока ответил Багдасар. — Добавишь в чай и пей себе на здоровье. — А сколько? — Ну так… Полстакана чая на полстакана коньяка. — Чай должен быть крепкий?.. — Пусть будет крепкий. Так вот, в незнакомом городе… — Спасибо. — Администратор поднялся с места и протянул Багдасару руку. — Благодарю вас от всего сердца… — Он пожал руку Багдасару, взял бутылку коньяка, положил ее в ящик и, пожав плечами, добавил: — А насчет места — ничем помочь не могу. Видите? — Администратор кивнул в сторону вестибюля, и Багдасар, обернувшись, увидел несколько человек, сидящих вокруг круглого стола. — Все они ждут места. — Как же мне быть? Другой же гостиницы нет! — Нет. — Подойти после двенадцати? — Подойдите. Будет — с большим удовольствием. А пока пройдите в ту дверь, сдайте чемоданы, полегче будет. — Мне можно надеяться?.. — Без надежды жить нельзя, — многозначительно изрек администратор. Багдасар, взяв чемоданы, зашел в камеру хранения. Седой старичок с длинными усами оценивающе оглядел его: — Дал место?.. — Что? — смутился Багдасар. — Надежду дал. — Надежду? — рассмеялся старик. — Надежду он всем дает. — Всем?.. — Конечно. — Старик взял чемоданы, написал что-то на клочке бумаги и протянул ее Багдасару. — А на собраниях речи говорит — заслушаешься. «Мы должны поднять уровень культуры обслуживания, а вы, Петр Кузьмич, спите в рабочее время». — Кто это говорит? — не понял Багдасар. Старик кивнул головой в сторону администратора и продолжил: — Спросить бы — а что же мне делать, если не спать?.. Что прикажете делать, Дмитрий Афанасьевич, если некому сдавать и забирать чемоданы? Разве я не прав?.. — Прав, — подтвердил Багдасар, — что еще делать? Помещение теплое, а вы человек уже немолодой. Так говорите, не даст он мне места? — Не знаю, — отрезал старик. — Я в чужие дела не вмешиваюсь.* * *
В ресторане играл оркестр. На маленькой площадке перед оркестром, прижавшись друг к другу, медленно двигались пары. В полумраке ресторана висел табачный дым. Смонтированный в углу прожектор окрашивал танцующих то в красный, то в зеленый, то в молочно-белый цвет. Багдасар был под хмельком. Он ногой отбивал такт мелодии, подпевал себе под нос, затем сбивался, смотрел на немолодого полнолицего мужчину, сидящего рядом, и, усмехаясь, качал головой. — Пойду попрошу сыграть еще раз. — Хватит, ты уже три раза заказывал… — Мои дети очень любят эту песню… Послушай, — подозвал он пальцем официанта, — принеси еще бутылку водки. — И, поднявшись, направился к оркестру. Саксофонист уже издалека заметил Багдасара, улыбнулся, подмигнул, как старому знакомому. Подойдя, Багдасар сунул ему деньги. — Ту же песню? — с готовностью спросил саксофонист. — Ту же, — кивнул Багдасар и запел под нос: — «Вот пришел к нам волшебник…» Саксофонист обернулся, что-то сказал музыкантам, они оживились, посмотрели в сторону Багдасара, пошептались со смешком и взяли инструменты. Певица подошла к микрофону. Багдасар широко улыбнулся, сел и, разливая водку по рюмкам, сказал: — Сейчас я пойду танцевать. Приглашу кого-нибудь и станцую… Поправив галстук, он оглядел столы, заметил женщину, одиноко сидевшую за одним из столов, подошел к ней, вытянулся, наклонив голову. Женщина смущенно улыбнулась, встала; она оказалась очень тучной, но Багдасар не обратил на это внимания. Как галантный кавалер, взял ее под руку, подвел к танцевальной площадке и начал танцевать. Багдасар танцевал по-своему. С видом знатока, со снисходительной улыбкой он делал только одному ему понятные движения, порой сам запутывался в собственных па; женщина то и дело спотыкалась, но Багдасар продолжал танцевать с невозмутимой серьезностью. Багдасар и его партнерша привлекли всеобщее внимание, танцующие отошли в сторону, уступив им площадку. Публика развеселилась, послышались смешки, а покрасневшая от стыда женщина не знала, как быть: уйти ей или продолжать танцевать? Наконец музыка смолкла, и под смех и аплодисменты публики Багдасар подвел женщину к ее столику, сам вернулся на свое место и, вытирая пот со лба, сказал: — Пусть все знают, каков Багдасар! — Знать-то пусть знают, — поднимая рюмку, сказал сосед по столу, — но деньгами ты напрасно швыряешься. — Деньги для того, чтобы их тратить, — махнул рукой Багдасар, затем показал большие мозолистые ладони. — Этими руками зарабатываю, ими же и трачу. — Кем ты работаешь? — Я?.. Кем хочешь могу. Слесарничать умею, токарничать умею, электриком могу быть, никто лучше меня не собирает холодильники, красить умею, грузить тоже умею… — Словом, все умеешь, — полушутя-полусерьезно сказал мужчина и поднял рюмку: — Будь здоров! — Да, — сказал Багдасар, осушил рюмку, запил глотком воды и продолжил: — Мой родной братработает буфетчиком, денег у него много, но он боится их тратить. Могут же спросить: откуда у тебя такие деньги, если ты получаешь всего семьдесят рублей?.. — Ясно. — Предлагает купить на мое имя машину. Новую «Волгу». Говорит, вдвое переплачу, но куплю. А ты рабочий человек, тебя не станут обижать… — Ну а ты? — А я говорю: отвяжись! Я старший брат и имею право так говорить, — отвяжись и убирайся! Не стану я пятнать свою честь из-за твоих грязных денег. — Ну и что он делает с этими деньгами?.. — Откуда я знаю? Тратить боится, на сберкнижку положить боится, наверное, запихнул дома в какую-нибудь дыру и держит. Потому и не спит по ночам, зеленый весь стал. А я засыпаю, как только положу голову на подушку, — засмеялся Багдасар. — Нелегко ему. — Ха! — усмехнулся Багдасар. — А меня называет дураком. Говорит: «Трудишься, как вол». Не понимает, что без работы я заболел бы. И потом, кто станет кормить моих детей, если я не буду работать?.. Он?.. Плевать на его деньги, с голоду умирать буду — и тогда не возьму ни одной копейки… — Интересный ты человек! — Интересный… Меня все уважают. Клянусь детьми, правду говорю! Только вот та бюрократка, секретарша… — Да… — собеседник Багдасара вспомнил о своих горестях. — Я сегодня спросил предисполкома: «Заказы мы вовремя спустили? Вовремя! План по сдаче яиц у нас есть? Есть! А ведь скоро, товарищ предисполкома, говорю я, куры начнут в массовом порядке нестись — что мы тогда будем делать?..» — Сосед широко развел руками. — Потерпите, говорит… Мы-то потерпим, а куры?.. — А ты отвези этого бюрократа к курам, — предложил Багдасар и отрывисто засмеялся. — Пусть потолкует с каждой в отдельности, может, уговорит их подождать?.. Собеседник тоже засмеялся. Похлопал Багдасара по плечу, поднялся с места. — Нас шестеро в одной комнате, — сказал он, — неловко поздно приходить, разбужу всех. Ты ведь еще побудешь здесь? — А куда я денусь? Ведь всего одна гостиница. — Завтра угощаю я, — сказал мужчина. — Договорились?..* * *
На улице было холодно, и, хотя от ресторана до гостиницы было рукой подать, Багдасар поднял воротник пальто и почувствовал, что холод действует отрезвляюще. Он торопливо вошел в гостиницу, посмотрел на администратора, понял, что тот делает вид, будто не замечает его, не подошел к нему, а, отвернувшись, стал бесцельно бродить по вестибюлю. В углу, все еще надеясь на что-то, ждали, сидя вокруг стола, люди. Один из них что-то рассказывал, остальные, наклонившись вперед, слушали, затем откидывались на спинки кресел и смеялись. Багдасар увидел недалеко от них свободное кресло, подумал, что если ему не дадут места, то можно и тут поспать. Эта мысль подбодрила его, и, поскольку выпитое давало еще о себе знать и Багдасару хотелось с кем-нибудь поговорить, то, покружившись около стола и ни к кому не обращаясь, он сказал: — Вот здесь я и устроюсь. Никто не обратил на него внимания. Он еще раз медленно прошелся по вестибюлю, вспомнил про чемоданы, про старика и отправился в камеру хранения. Старик дремал, сидя за деревянным барьером, положив голову на руки. Он проснулся от скрипа двери, поднял голову, заспанными глазами посмотрел на Багдасара, не узнал его, протер глаза, надел очки и сказал: — А… Это ты? — Я, — улыбнулся Багдасар. — Вижу, ты в хорошем настроении… — В хорошем. Хочешь, спою?.. — Тот, кто попадает к нам, поет или плачет, — хмыкнул старик. — Чего мне горевать? — спросил Багдасар. — Дайка мне чемодан. Он сам хотел пройти за барьер, но старик не позволил. — Нет, нет, — сказал он. — Это непорядок, а то каждый, кому вздумается, будет заходить сюда. Дай бумажку. Багдасар порылся в карманах, отыскал квитанцию. Старик внимательно посмотрел на нее и принес чемоданы. — Все же дал место? — Какое там дал! — отмахнулся Багдасар. — Этот не нужен, унеси его. Пока старик относил один из чемоданов назад, Багдасар, перегнувшись через барьер, взял второй чемодан и достал из него мандолину. — Ну и ну! — не поверил глазам старик. — А ты как думал? — подмигнул Багдасар, снял пальто, бросил его на стул и пощипал струны. — Ты артист?.. — Артист! — засмеялся Багдасар. — Играй тихо, только чтобы один я слышал, — обрадовался старик. — Садись на стул. Багдасар сел, закинул ногу на ногу и, сдвинув сигарету в угол рта, начал вполголоса напевать. Видимо, старику все это очень нравилось; довольно улыбаясь, он смотрел на Багдасара, время от времени бросал беспокойный взгляд на дверь и, успокоившись, радостно тряс головой. — Что за песню ты поешь? — не удержался старик. — Греческую. — Ты грек? — Нет, армянин. Хочешь — армянскую? — Хе-хе, — засмеялся старик. — Для меня что греческая, что армянская, все одно, я в них не разбираюсь. — А чего тут разбираться? — удивился Багдасар. — Хочешь, спою русскую песню? Сибирскую… — Ты был в Сибири? Багдасар не ответил и запел грустную песню. Старик задумался, и они не заметили, как на пороге появились люди из вестибюля. Неизвестно, сколько бы продолжался этот концерт, если бы не администратор. — Это уже ни на что не похоже! — сказал он. — Слышите, Петр Кузьмич?.. — В чем дело? — спросил один из слушателей. — Человек поет, что ж тут плохого? — Ничего плохого в этом, конечно, нет, — прижимая руку к груди, улыбнулся администратор. — И я не к вам с претензией. Я хочу, чтобы наш работник понял, что камера хранения — не концертный зал. — Тьфу! — возмутился старик и, глядя то на Багдасара, то на людей, стоящих в дверях, сказал: — Видали?.. Ведь обо мне в книге жалоб никто ничего плохого не писал, так что следить за мной ему нечего. И хорошего не писали, чтобы он мне завидовал. Не пойму, что ему от меня нужно?.. — Хочу, чтобы вы поняли, что такое порядок и дисциплина… — прокричал администратор и удалился. Багдасар встал, положил мандолину в чемодан и набросил пальто на плечи. Люди, собравшиеся у дверей, разошлись и, зевая, снова расселись вокруг стола. — Послушай, — обратился к Багдасару старик, — все равно он тебе места не даст. Хочешь, пошли ко мне, будешь жить у меня. — А можно?.. — Почему же нет? Рубль за сутки. Сколько ты пробудешь?.. — Пять дней. — Пять рублей. Нас двое: я да старуха. — Пошли, — согласился Багдасар. — Что может быть лучше?.. — Подожди. — Старик посмотрел на часы. — Через полчаса. — Ты заканчиваешь работу?.. — Сначала выйду я и буду ждать тебя на улице, а ты выйдешь после. Чтобы он не догадался, — старик покосился на администратора. — А чемоданы завтра заберешь.* * *
Багдасар спал плохо: то ли непривычная постель была тому причиной, то ли выпитое вино, а может быть, бачок в туалете, из которого безостановочно с шумом текла вода. Он хотел ночью же встать, посмотреть, в чем там дело, но постеснялся. И лишь утром обнаружил, что испорчен закрывающий клапан бачка. Не стал просить у старика проволоку, почувствовал, что жена недовольна его присутствием. Позже, поднимаясь по лестнице в приемную директора, он снова вспомнил про бачок и подумал, что надо не забыть достать проволоку и починить клапан, ведь хозяева — люди в возрасте и, может, не слышат, что из бачка течет. В приемной не было ни души. Багдасар забеспокоился, осторожно толкнул дверь кабинета (она была заперта), растерянно огляделся, вздохнул, сел и стал ждать. В приемной отчетливо был слышен глухой стук кузнечного пресса. «Третий день, как я выехал из дому и еще ничего не сделал, — уставившись в кожаную дверь размышлял Багдасар. — А когда же я успею?» Он покосился на пустующий стол секретарши. «Привязал ее у двери, а сам спрятался. Попадешь разве к нему?.. — Он развел руками. — Нет. Какого черта я приехал сюда?! Завидовали мне, — обратился он мысленно к друзьям, — а я охотно поменялся бы местами и поглядел, как бы вы справились здесь?..» Он закрыл глаза и неожиданно вспомнил детей: всех, от самого младшего до старшего, горько улыбнулся и сказал. — Мало было мне горестей, еще вы тут?.. Оставьте меня в покое!.. Достал из кармана сигареты, хотел закурить, но, сообразив, где он, поспешно запихнул пачку в карман. Мелкими шажками вошла секретарша и, не заметив Багдасара, прошла к своему столу. Багдасар, глядя на нее, подумал: «Ну и кривляется! Наверное, воображает, что красавица». Секретарша заметила Багдасара, подтянулась и сказала официальным тоном: — Директор уехал на сессию областного Совета. Будет только через три дня. Ясно? Багдасар медленно поднялся, посмотрел на секретаршу и так же медленно сел. — Вы что, не поняли? — улыбнулась она. — Директор вернется через три дня. — От вас всего можно ждать… — Вы что-то сказали?.. — Как же мне быть? — спросил Багдасар. — Третий же день… — В самом деле, — усмехнулась секретарша. — Как нам быть? Багдасар поднялся с места, подошел к ней. — Не издевайся, сестричка: у меня же сердце кровью обливается… — Уезжайте, попозже приедете. Летом теплее будет. Багдасар не разобрал: шутит она или нет. — Делать мне больше нечего! — сказал он. — Учти, я рабочий человек, а не лодырь какой-нибудь!.. — Может, даже самый лучший работник на вашем заводе?.. «Если не самый лучший, то один из лучших», — подумал Багдасар и вдруг, озорно блеснув глазами, сказал: — Если я не привезу фреон — наш директор с меня шкуру снимет. Не жаль тебе моих детей?.. Ты Рубика моего видела? — он загнул палец. — Не видела. Дочку Асмик видела? — он загнул второй палец. — Нет! Акопа видела?.. Он отличник. А от Рузанны и Патвакана — близнецов моих — с ума можно сойти. О самом маленьком я уже не говорю… Секретарша начала хохотать, а Багдасар, подождав, пока она немного успокоится, спросил. — Если ты их не жалеешь, то сжалься хоть над женой — она ведь из вашего племени… — Ну и насмешил, — сдерживая смех, сказала секретарша. — Хватит, сил никаких нет… — Да, — бодро воскликнул Багдасар. — А теперь скажи по правде: когда приезжает директор?.. — Вы откуда будете?.. — Из Армении. Четыре тысячи километров… — Вы русский язык знаете?.. — Знаю, и армянский знаю, и греческий тоже. — Я ни армянского, ни греческого не знаю. Я вам ясно по-русски говорю: директор вернется через три дня. — Убила, — вздохнул Багдасар. — Письмо какое-нибудь привезли с собой? — А как же? — с надеждой сказал Багдасар, доставая письмо из нагрудного кармана. Секретарша, надев очки, пробежала глазами письмо и покачала головой: — Ай-яй-яй!.. Ведь этим вопросом директор вообще не занимается. Вам нужно обратиться к его заместителю. — То есть как — к заместителю?.. — Вот именно, к заместителю. Багдасар пристально посмотрел на нее, затем пожал плечами. — Нет, — сказал он, — мне было сказано пойти к директору. — Кому лучше знать, кто чем занимается, — вам или мне? — раздраженно сказала секретарша. — Выйдете — следующая дверь. — Справа или слева?.. — Слева, слева!.. Багдасар сделал два шага к двери, затем медленно обернулся, развел руками и, наклонив голову, сказал: — У нас ведь там не дураки сидят: если это дело заместителя, то сказали бы: иди к заместителю… Письмо же на имя директора… — Уй-ди-те!.. — стукнув рукой по столу, закричала секретарша. Багдасар, покосившись на нее, вышел и зашагал по коридору, мысленно ругаясь с секретаршей и размахивая письмом, зажатым в руке. А немного успокоившись, подумал, может, и в самом деле зайти к заместителю; если даст — хорошо, а нет, так он любой ценой пробьется к директору. Багдасар открыл дверь в кабинет заместителя. Молодой мужчина с вьющимися волосами говорил по телефону. Заметив Багдасара, он пригласил его войти, указал на стул, стоявший около стола. «Дело надо вести с мужчинами, — усаживаясь на стул, подумал Багдасар. — Только с ними…» Пока заместитель, то сердясь, то успокаиваясь, говорил по телефону, Багдасар оглядел его небольшой кабинет. Позади стола на стене висел портрет Ленина, чуть поодаль, в углу, стоял старенький сейф с облупившейся краской. Взглянув в окно, он увидел какое-то строение, за которым поднималась выкрашенная в черный цвет широкая труба. «Котельная», — подумал он. Окончив разговор, заместитель положил трубку и протянул Багдасару руку. — Здравствуйте. — Здравствуйте, — широко улыбнулся Багдасар. — Вы, случайно, не из Армении?.. — Из Армении, — радостно затряс он головой. — По поводу холодильников?.. — Да, конечно. — Багдасар положил перед заместителем письмо, но тот не взглянул на него. — Как поживает Давид Рубенович? — спросил он. — Мы с ним давние друзья. — Очень хорошо, — радостно заерзал на стуле Багдасар. — Отлично поживает. Большой привет тебе передавал. — Спасибо. — И еще… — Багдасар замялся, — еще послал несколько бутылок коньяка. Армянского коньяка… — Что вы говорите!.. — Как же иначе… — Несколько бутылок?;. — Гм… Да так, приблизительно бутылки четыре. Завтра принесу… — Ну, это уж слишком, — смутился заместитель директора. — Зачем это он? — Как зачем? Если уж товарищ товарищу не пошлет, то кто же еще?.. — Мы ведь четыре месяца на курсах учились, в одной комнате жили. — Очень рад, — Багдасар поглядел на письмо, лежавшее на столе. — Теперь решение нашего вопроса зависит от тебя… Заместитель взял письмо, пробежал его глазами, помрачнел, прочел еще раз. Глядя на него, постепенно мрачнел и Багдасар. Отложив письмо, заместитель угостил Багдасара сигаретой, закурил сам и сказал: — Что, туго вам там стало? — Еще как! Одна надежда, что поможешь… — Не могу, — стукнул коробком спичек по столу заместитель. — Очень сожалею, но не могу. Где вы остановились?.. — В гостинице, — поспешно ответил Багдасар и с мольбой заглянул ему в глаза. — Четыре тысячи километров проехал, три дня уже здесь торчу… — Понимаю. На вашем заводе я уже бывал, руководство ваше уважаю, а Давид Рубенович, как видишь, мой друг, но помочь ничем не смогу. Тысяча литров фреона — это не шутка. — А сколько можете?.. — Литров сто — еще куда ни шло!.. — А что нам сто литров? — пожал плечами Багдасар. — Тысяча литров — это выше моих сил. — А как же быть?.. — Не знаю. — А директор может?.. — Не знаю. Багдасар, подперев ладонью щеку, тоскливо уставился в одну точку: — А он взял да уехал… — Денька через три вернется. Хоть и трудно, но попробуй, кто знает?.. — Эх, — выдохнув дым, протянул Багдасар. — Плохо все складывается, очень плохо… — Ничего не могу поделать, — заместитель дружески положил руку на плечо Багдасару. — Понимаешь?.. — Понимаю. Но что толку от того, что понимаю? — Зайди вечером ко мне домой, — неожиданно оживился заместитель. — Выпьем рюмочку-другую, развеселишься… — Нет, — поморщился Багдасар. — Я с выпивкой не в ладах. Выпил вчера, так до сих пор голова трещит. — Будь сейчас лето, повез бы тебя на рыбалку или грибы собирать. — Грибы! — Багдасар горько улыбнулся. — Мне фреон нужен, фреон!..* * *
Из кабинета заместителя директора Багдасар вышел подавленный. Спускаясь по лестнице, он упрекнул себя: «Ничего не сделал, а коньяки попусту раздариваешь?.. — Но тут же и оправдал себя: — Но не везти же мне эту тяжесть обратно! Если знакомый отказывает, что ж тогда ждать от директора?.. Нет, Багдасар, — сказал он себе, — собирай манатки и уматывай назад. Будешь три дня без дела слоняться, а он приедет и, думаешь, так вот и скажет: „Забирай, Багдасар, увози?..“ А директор, чует мое сердце, не лучше своей секретарши». Багдасар остановился, достал из кармана командировочное удостоверение, нахмурившись, подумал, что нужно опять идти к секретарше. «Зайду, скажу, что уезжаю, пусть поставит печать, а на нее и смотреть не стану». Он повернулся, хотел подняться наверх, но его удержала мысль: «А если спросят: видел ли я директора?.. Столько денег истратил, в такую даль залетел — и, даже не встретившись с директором, взял да и вернулся». Он закурил, постоял немного в задумчивости и проговорил: — И я бы так сказал, — и, вновь повернувшись, спустился вниз. У входа Багдасар столкнулся с двумя парнями. Багдасар, понурив голову, посторонился, уступая им дорогу, но они не зашли в здание. — А-а! — сказал один из парней, с улыбкой остановившись перед Багдасаром. — Не помнишь меня?.. Ведь это ты спрашивал, как пройти к директору?.. — Помню, — Багдасар опустил руку ему на плечо, — ты парень что надо! — Тебе секретарша ничего не говорила? — Какая секретарша?. — Директорская… — Эх-э-эх, — нахмурившись, вздохнул Багдасар и махнул рукой, и будь его собеседники армянами — они поняли бы, что Багдасар сказал: «Не напоминайте мне о ней». — Не говорила, что тебя ищут? — Кто ищет? — Я и Андрей, — парень кивнул в сторону товарища, стоявшего чуть в стороне. Это был высокого роста молодой человек с продолговатым лицом. — Нет, не говорила, — покачал головой Багдасар. — Да разве она умеет по-человечески говорить? — Так, говоришь, ты из Армении? — Из Армении. — Эге, — обрадовался парень. — Отец Андрея хочет тебя видеть. — Да, — кивком головы подтвердил Андрей. — А кто твой отец? — чуть заметный луч надежды блеснул в глазах Багдасара. — Федор Кириллович. — Он работал на нашем заводе. Теперь пенсионер, — объяснил товарищ. — Пенсионер!.. — разочарованно повторил Багдасар. — Он был в Армении, — смущенно сказал парень, — потому… — А-а, — без энтузиазма покачал головой Багдасар. — Ну? — улыбнулся парень. — Пойдешь к нему домой?.. Багдасар на секунду задумался, почесал затылок и как-то рассеянно сказал: — К нему?.. Пойду, почему не пойти. — Иди сюда, — парень взял Багдасара за локоть, отвел немного в сторону и, указывая пальцем на дома за территорией завода, спросил: — Не это, а вон то, следующее здание видишь?.. — Вижу. — Значит, первый подъезд, первый этаж, первая квартира… — Первая дверь направо, — сказал Андрей. — Хе, — криво усмехнулся Багдасар, — немудрено найти. — Вечером отец будет ждать тебя, — сказал Андрей. Они пожали Багдасару руку и, переговариваясь, быстро свернули за угол. День был ясный, солнечный. Снег, замерзший от ночного холода, превратился в пудру и скрипел у Багдасара под ногами. «Что делать?» — подумал он. Домой возвращаться не хотелось, завод он обошел вдоль и поперек. Тут он вспомнил ребят, грузивших холодильники, обрадовался и направился к ним. «Погляжу, как они там…» — Ты еще здесь? — посмотрев на Багдасара, буркнул Василий. Он сдвинул холодильник, установил его на тележке и, выпрямившись, сказал: — А мы думали, ты уехал. — Куда я поеду? — пожал плечами Багдасар. — Ведь вопрос мой не решен. — Какой вопрос?.. — Фреон мне нужен. Директора жду, а он только через три дня приедет. — Тем лучше, — подал голос из-за холодильника Сергей. — Гуляй себе… — Легко сказать… Сергей, улыбаясь, вышел из-за холодильников, высморкался. — Отправляйся ловить рыбу… Тут до реки и километра не будет. — Рыбу ловить, — усмехнулся Егор. — А валенки у него есть?.. Удочки есть?.. Или же ему в пальто сесть на лед и опустить палец в прорубь?.. — Нет, — сказал Багдасар. — Не моего это ума дело!.. — Сходи в кино, — не унимался Сергей. — А то они сколько душе угодно… — Какое там кино? — сказал Багдасар. — Разве у меня то настроение?.. — Тебе лишь бы языком трепать, — оборвал Сергея Егор. — Не видишь, человеку муторно. Пойди придержи тележку. Сергей молча и обиженно пошел помогать Василию. — Маловато вас тут, — сказал Багдасар. — Да, — крякнул Егор, приподнимая холодильник, который так примерз ко льду, что его трудно было оторвать. Но, Егор толкнул его сильнее, сдвинул с места и продолжил: — Одного из наших неделю тому назад в армию забрали, а другого угораздило подхватить корь. Сорок лет человеку, а он корью заболел. — Да уж, чудеса!.. — Будь сейчас лето, работники нашлись бы, а зимой не идут. А не погрузишь — завод план не выполнит, выходит, и денег меньше получишь… — Знаю. Пока они разговаривали, Сергей с Василием, подталкивая тележку, вышли из товарного вагона и подошли к холодильникам. Егор, прервав беседу, пошел грузить холодильник на тележку Сергея. Багдасар закурил, затем, словно он тут работал и только сделал небольшой перекур, бросил сигарету и стал устанавливать холодильник на тележку Василия. Так они молча погрузили несколько холодильников и отвезли их. Багдасар, немного согревшись и оживившись, спросил: — Другой тележки у вас нет?.. — Вон у дверей стоит. Багдасар подошел к тележке, очистил ее от снега. — Значит, так, — сказал он, — Василий грузит на тележки, мы втроем отвозим. — Брось ты, — сказал Василий. — Зря только выпачкаешься… Багдасар не обратил внимания на его слова. Не отставая от других, отвозил холодильники, устанавливал их в вагоне, возвращался за следующим и время от времени выкрикивал: — Вот это работа!.. Не то что торчать в приемных… — Послушай, — обратился к нему Егор, когда, порядком поработав, они остановились покурить. — Ты в самом деле решил с нами работать?.. — А что мне делать?.. — виновато улыбнулся Багдасар. — Я же свободен. — Ты корью болел?.. — Откуда мне знать? Может, и болел… — Отведи его, пусть переоденется в робу Ивана, — велел Егор Сергею. — Чтоб не пачкался. Чуть погодя возвратились Багдасар и Сергей. На Багдасаре были ватные штаны и куртка, валенки, теплые рабочие рукавицы. Только меховая шапка была его собственная.* * *
В рабочей столовой было оживленно и шумно. Багдасар хотел взять поднос и встать в очередь, но Егор не позволил. — Не твое это дело, — сказал он. — Пока объяснишь, что тебе надо, так и перерыв закончится. Лучше займи стол. Багдасар взглядом поискал место — куда бы сесть. А Егор тем временем выговаривал Сергею, который, стоя в сторонке, шушукался с какой-то девушкой, покачивая пустым подносом: — Ты пришел сюда поесть или с девчонками болтать? — А ты не вмешивайся, — притворившись обиженной, сказала девушка. Вскоре все четверо сидели за столом. Василий попробовал горячий борщ, поглядел на Багдасара, склонившегося над тарелкой, и сказал: — Слышь-ка, забыл, как тебя зовут. Багдасар неохотно оторвался от тарелки: — Багдасар. Разве так уж сложно?.. Шум в столовой помешал Василию расслышать, он поднес руку к уху. — Баг-да-сар, — раздельно повторил Багдасар. — Багдасар, — повторили все трое. Василий, съев несколько ложек борща, улыбнулся пришедшей ему в голову мысли и сказал: — Кто здоров пожрать, тот здоров и работать!.. Багдасар удивленно уставился на него, перевел взгляд на товарищей, заморгал глазами: — К чему это ты?.. — Когда ты грузишь холодильники, любо смотреть, — вставил Сергей. — Да? — оживился Багдасар. — В самом деле?.. — Да, — подтвердил Егор. — Ты грузчиком работаешь?.. — Не-е. На автомате, заряжаю фреоном. Но и грузчиком приходилось. — Говорил же я! — сказал Василий. — Всякое дело надо за горло брать, — стукнув рукой по столу, выпятил грудь Багдасар. — Мой отец так говорил. — Взять-то возьмешь, — отодвинул от себя тарелку Василий, отпил глоток лимонада и продолжил: — А кто-нибудь там в канцелярии возьмет да сократит расценки. Ясно? Багдасар не ответил. Остальные тоже молчали. Слова Василия, видимо, обеспокоили Егора, он закурил и задумчиво сказал: — Мы до перерыва обычно грузим три вагона. А сегодня пятый заканчиваем… — Пятый, — уловил мысль товарища Василий. — А ты попробуй объясни им, что с нами работал еще один человек… — Выходит… — пробормотал Багдасар, но Егор перебил его: — Только не обижайся. Хороший ты человек, но твоя работа нам ни к чему… Так уж получается… — Что же мне делать? — спросил Багдасар. — Что делать? — нахмурился Василий. — Ты за фреоном приехал, так отправляйся за ним. Чего тебе с нами время терять? Багдасар не ответил, встал с места и быстрым шагом вышел из столовой. Сергей посмотрел вслед Багдасару и, неожиданно схватив Василия за грудки, начал трясти его: — Разве так можно?.. Разве можно?* * *
Багдасар шел, понурив голову, засунув руки в карманы. У него было единственное желание — поскорее убраться с завода. Куда идти — он не знал. У проходной он вдруг вспомнил, что на нем чужая одежда. Он остановился и, не зная, как быть, потоптался на месте. Перерыв кончался. Поток людей вливался через проходную, растекался на мелкие ручьи и исчезал в цехах завода. Багдасар стоял, прислонившись к стене, безучастный к этому движению, потом, замерзнув, понял, что он так долго не выдержит, смешался в человеческом потоке и стал бесцельно бродить по цехам. «Долго ты будешь канителить? — наконец обратился он к самому себе. — Пойди переоденься и уходи». Подходя к платформе, он услышал голоса. Подошел ближе и увидел сутулого, небольшого роста незнакомца и Егора, который, размахивая руками, кричал: — Где ж мы его тебе возьмем!.. Выходит, мы все трое врем?.. — Сказки мне не рассказывай, — пытался остановить его незнакомец. — Сказки не рассказывай! Багдасар остановился, решил переждать, а потом подойти и сказать: «Мне нужно переодеться». Но в это время в дверях вагона появился Василий и, увидев Багдасара, воскликнул: — Да вон он, сам пришел! — Ага! — обрадовался Егор, направился к Багдасару, но незнакомец придержал его. — Погоди, — сказал он. — Я сам спрошу… Можно вас? — подозвал он Багдасара. Багдасар подошел и хмуро посмотрел на незнакомца. — Кто вы, простите? — спросил его незнакомец. — Багдасар. — Что вы здесь делали? — Работал, что еще делать?.. — Хм, — поправил очки незнакомец. — С какого времени вы здесь работаете?.. — Ларионыч, — попытался вмешаться Егор, но Ларионыч отмахнулся. — С какого времени вы тут работаете? — снова задал он вопрос. — Со вчерашнего, с сегодняшнего… — Кто вас принял на работу? — смягчая тон, попытался схитрить Ларионыч. — Директор или заместитель? — Что ты от меня хочешь? — рассердился Багдасар и обратился к остальным: — Что он ко мне пристал?.. — Хочу понять, что тут происходит. Сколько вам лет? — Сорок пять… — Вы женаты?.. — Да, у меня шестеро детей. — Партийный?.. — Нет, — буркнул Багдасар. — Анкету заполняешь?.. — Кто вас принял на работу?.. — Какое там «принял»! Ну поработал один день, и все! — Знаю я вас, — строго произнес Ларионыч. — Знаю я вас, работничков на один день! А вы мне сказки рассказываете! — повернулся он к остальным. — Может, ты хочешь, чтобы я месяцами работал? — пробурчал Багдасар. — Не месяцами, а годами, молодой человек. — Кто это? — не выдержал Багдасар. — У него все дома?.. — Молчать! — приказал Ларионыч. — Молчать!.. Багдасар притих. Воцарилось молчание. — Объясни ему, откуда ты приехал и зачем, — сердито сказал Багдасару Егор. — В командировку я приехал, в командировку, — размахивая руками, сказал Багдасар. — Угораздило же меня… — Приехал в командировку грузить холодильники? — в последний раз попытался поймать его на лжи Ларионыч. — Пойми, я директора жду… — Приемная директора не здесь, молодой человек. — Делать было нечего, ну и поработал. Если что не так сделал, извините. Переоденусь и уйду. Кончим на этом?.. — Ха, — ухмыляясь, покачал головой Ларионыч. — Сорок лет работаю, а такого не видывал!.. — Ну, а теперь-то можно ему с нами остаться? — спросил Егор. — Что за вопрос? — ответил Ларионыч и хлопнул Багдасара по плечу. — До свидания. Егор поглядел вслед удаляющемуся Ларионычу и, взяв Багдасара за локоть, буркнул: — Хорошо, что ты пришел. А то, по правде говоря, кошки на сердце скребли.* * *
— Уж больно долго заставляешь себя ждать, — открыв дверь, сказала старуха. Она пропустила вперед Багдасара, стоявшего с двумя чемоданами в руках, и, шаркая, пошла по коридору. Багдасар уменьшил шаг, приспосабливаясь к ней. — Ты что, в лесу жил? — обернувшись, возмутилась старуха. — Куда ты снег тащишь? Легко ли в моем возрасте убирать? Возьми веник да смети с туфель. Только не здесь, а на площадке. Она, ворча, принесла веник, сунула Багдасару. — Да смотри, почисть хорошенько! Багдасар вышел на лестничную клетку. Тщательно смел с туфель снег, вернулся. — Так, — осмотрев его, старуха, видимо, осталась довольна. — В каждом доме свой устав и порядок. Отправляйся-ка умываться. Багдасар снял пальто, пошел умываться, но, вспомнив про бачок в туалете, вернулся, достал из кармана металлическую проволоку и начал чинить бачок. — Что ты тут делаешь? — забеспокоилась старуха. — Он же испорчен, вода течет. — Куда течет? — Откуда мне знать? — А если не знаешь, зачем нос суешь? — Так не чинить? — Гм… А ты разбираешься в этом деле?.. — Немного разбираюсь. — Нет, нет, нет, — отрезала старуха. — Такой, как ты, уже однажды чинил, вода как хлынет, чуть квартиру не залила. Лучше не трогай. — Оставь, — сказал Багдасар. — Я не из тех. — Как знать — из тех ты или нет… — Я Багдасар, — рассердился он. — Если я берусь за что-нибудь, то делаю как надо. — Хвастун ты, — сказала старуха. — Все вы хвастуны. — Вот починю, увидишь. Багдасар починил бачок, потянул за цепочку, спустил воду, снова проверил — все было в порядке — и отправился мыть руки. — Иди в комнату, — проворчала старуха, — еда на столе. — Какая еда? Мы о еде со стариком не договаривались. — Я не знаю, о чем вы там договаривались, — сказала старуха. — Но если поработал, вернулся домой, значит, должен поесть. Таков порядок в моем доме. Багдасар вошел в комнату. Стол на самом деле был накрыт. — Я не дождалась, поела, — сказала старуха. — Не знала, когда ты придешь. А Кузьмич попозже придет. Багдасар смутился, но старуха так посмотрела на него, что он молча подошел и сел за стол. — Ну вот и ладно, — одобрила старуха. Багдасар принялся за еду. Старуха пошла в туалет, дернула за цепочку, с шумом спустила воду и вернулась в комнату. — Попробуй соленье, — сказала она. Потом вышла и снова дернула за цепочку. — Хотя и нет горчицы, — вернувшись, сказала она, — но сало попробуй, не пожалеешь… — Она опять исчезла, и вновь послышался звук спускаемой воды. — Не сомневайся, — сказал Багдасар, — больше не испортится. — Ты не вмешивайся, я свое дело знаю… Пока Багдасар ел, старуха по крайней мере раз десять выходила проверять исправность бачка и, когда наконец убедилась, что все в порядке, села напротив Багдасара. — Если рабочий человек ест плохо, значит, у него хворь какая-то. — Да, — кивнул головой Багдасар. — Это верно. — Может, ты выпить хочешь? Кузьмич мой перед обедом пропускает одну. — Да?.. — Багдасар на мгновение задумался, затем встал, открыл чемодан и поставил на стол бутылку коньяка. — Вот, — улыбнулся он, — это Кузьмичу. — Что это такое? — Коньяк. — Настоящий коньяк?.. — Самый лучший коньяк в мире, — с гордостью проговорил Багдасар. — Армянский, слышала? — Батюшки! — оживилась старуха. — Такого и я попробую. Багдасар внимательно посмотрел на старуху, пытаясь понять — шутит она или говорит всерьез? Старуха встала, достала из буфета две рюмки, поставила их на стол. — Открой-ка, поглядим. Багдасар до краев наполнил рюмку, хотел наполнить вторую, но старуха удержала его. — Дай-ка сюда, — отбирая бутылку, сказала она. — Мне же не осилить столько. Такие уж вы, мужики, беречь не умеете, только добро переводите!.. Она налила себе немного, придвинула полную рюмку к Багдасару и подняла свою. — Будем здоровы. С честью я жизнь прожила, с честью хочу помереть, никому не быть в тягость… Старуха выпила. Багдасар глянул на нее и, выпив, поморщился. — Хе-хе-хе, — засмеялась старуха. — Видно, ты не из пьющих. — Да так, изредка выпиваю. — Вот к примеру, — понизила голос старуха, — моя нижняя соседка. Узнала, что у нас гость, так сегодня четыре раза заходила. Раз попросила спички, потом соль, третий раз — уж не помню зачем зашла, а то заявилась и говорит, что ей делать нечего, пришла поболтать. А я знаю, что ей надо. Семья у тебя есть?.. — А как же? У меня шестеро детей. — Вот молодец. Мало ли что, гляди, — если зайдет, не обращай на нее внимания, держись… — Да не нужна она мне! — И правильно, — кивнула старуха. — Терпеть не могу мужчин, цепляющихся за каждую юбку. — Она встала, кряхтя, пошла на кухню. Багдасар мысленно перенесся домой. Взгрустнув, налил себе коньяка и, ласково улыбаясь, сказал по-армянски: — За ваше здоровье. Соскучился по вас, но смотрите, не балуйтесь. Рубик-джан, Асмик-джан, не думайте, что я только к вам обращаюсь, к остальным тоже. Ахавни-джан, — сказал он жене, — потерпи, совсем уж мало осталось. — Он осушил рюмку и увидел старуху, стоявшую в дверях. — Что это ты говорил? — спросила она. — Да так… — очнулся Багдасар. — Жену вспомнил, детей… — Ты по-русски говори, чтобы я понимала. — А жена моя, разве она понимает по-русски? — удивился Багдасар. — А малыши понимают?.. — Да, — подойдя, грустно протянула старуха и, чуть помолчав, добавила: — Хорошо, когда дома дети. А мы с Кузьмичом одни-одинешеньки. Сыновья с войны не вернулись… Багдасар сочувственно посмотрел на старуху и молча кивнул головой. — От безделья жить друг другу не даем, — улыбнулась старуха. — Вот, например, говорю ему: встретишь хорошего человека из приезжих — приведи, поживет у нас малость. Поговорим о том о сем, глядишь, и день быстро пройдет. Разве я не права?.. — Права. — А он, дурной, с ними о плате договаривается. Хе! — улыбаясь, закачала головой старуха. — Знает ведь, что денег я не возьму, а договаривается. Однако ж тайком от меня все же берет. Зазвенел дверной звонок. Старуха замолкла на полуслове. — Это Кузьмич, — сказал Багдасар. — У Кузьмича есть ключ, — с сомнением поглядела в сторону двери старуха, — наверное, опять эта, — она пальцем указала на пол и строго сказала Багдасару: — Внимания на нее не обращай… Звонок прозвенел вторично. Старуха поднялась, медленно пошла открывать дверь. Багдасар придал лицу серьезное выражение, хотел не смотреть в сторону двери, но не смог: слегка повернул голову, краешком глаза поглядел на дверь. — Евдокия Трофимовна, — послышался звонкий женский голос из прихожей, — в магазине встретила Кузьмича, раздумывал, брать мясо или нет?.. В дверях появилась красивая женщина, закутанная в шаль. От холода на щеках женщины пылал румянец, в глазах светились озорные искорки. Багдасар весь засветился улыбкой, но в следующее мгновение подтянулся, стал серьезным и опустил глаза. — А у вас, я вижу, гость! — сказала женщина, перешагнув порог. — Вы что, пьете?.. — Женщина внимательно оглядела Багдасара, и, несмотря на то что Багдасар вновь улыбнулся ей, озорные искорки в ее глазах погасли. — Мяса не нужно, — сказала старуха, не спуская глаз с Багдасара. Тот отвернулся. — Да, — безразлично сказала женщина, — я так и сказала Кузьмичу: если будет нужно, то приду и скажу, а не приду, значит, не надо. — Она снова вскользь поглядела на Багдасара и вышла из комнаты. Дверь с шумом захлопнулась. — Видал? — проворчала старуха. — Опять сует свой нос. — Мне-то какое дело? — упавшим голосом сказал Багдасар. — Да, — старуха села и опустила руку на стол. — Я не уважаю мужчин, липнущих к каждой юбке.* * *
Квартиру Федора Кирилловича Багдасар нашел не сразу. Настроение у него было хорошее, видимо, выпитый со старухой коньяк еще давал о себе знать, а мысль, что в незнакомом городе какой-то человек хочет его видеть, волновала Багдасара. Сейчас он забыл про фреон, забыл неприятности и лишь думал: «Интересно, что за человек?..» Багдасар нажал на звонок первой квартиры и, изобразив на лице улыбку, стал ждать. Чуть погодя дверь приоткрыла немолодая женщина, и Багдасар заметил, что дверь изнутри закрыта на цепочку. — Кто там? — спросила женщина. — Я. — Кого вам надо?.. — Что? — Багдасар попытался, но не смог вспомнить имени хозяина квартиры. — Не помню. Не помню его имени. — Вот те раз, — проворчала женщина, и дверь перед носом Багдасара захлопнулась. — Я же вам нужен, — воскликнул Багдасар, разводя руками. Потом помолчал и вновь заговорил: — Интересные люди, зовут, а потом хлопают дверью перед носом… — Он ладонью вытер пот, выступивший на лбу, недовольно вздохнул и, не зная, как быть дальше, застыл у двери. Мохнатый серый кот неслышно появился в подъезде, секунду с подозрением смотрел на Багдасара, затем, как стрела, проскочил мимо, испугав Багдасара, и исчез на верхних этажах. В следующее мгновение послышалось жалобное мяуканье, затем со скрипом открылась какая-то дверь. «Кися», — сказал женский голос, и опять в подъезде воцарилась тишина. — Может, уйти? — громко заговорил Багдасар. Он даже сделал шаг, затем решительно повернулся и снова нажал на кнопку звонка. На этот раз в приоткрытой двери появился немолодой лысый мужчина. — Я из Армении, — тыча себе в грудь пальцем, сказал Багдасар, — вы меня звали… — Да, да, — сказал мужчина, открыл дверь, впустил Багдасара и включил свет в прихожей. Они молча с любопытством оглядели друг друга. У мужчины были густые брови, прямой, чуточку строгий взгляд, ростом он почти не уступал Багдасару. — Федор Кириллович, — мужчина протянул руку, — будем знакомы. — Багдасар. — Раздевайтесь. В прихожей бесшумно появилась старуха и, видимо, узнав Багдасара, фыркнула, ладонью прикрыла рот и исчезла. Муж усмехнулся. — Слов нет, оскандалилась ты, Василиса Никифоровна, оскандалилась, — сказал мужчина и виновато улыбнулся Багдасару. — Опоздали, так я решил, что уже не придете… Багдасар посмотрел на часы. Было половина девятого. Не зная, как быть, Багдасар откашлялся, потом нашелся и высокопарно изрек: — Дружба — понятие круглосуточное! — Ну и сказал, — опуская руку на плечо Багдасара, засмеялся Федор Кириллович. — Слыхала, старуха, дружба — понятие круглосуточное! — Извините, — смущаясь, сказала Василиса Никифоровна. — Меня ведь никто не предупредил… — Бывает, — улыбнулся Багдасар и, как давний знакомый, подмигнул. — Бывает. Федор Кириллович усадил Багдасара и, уставившись в пол, заложив руки за спину, начал шагать по комнате, изредка бросая взгляд в его сторону. Вероятно, он собирался с мыслями. И пока он ходил, Багдасар огляделся: рядом с ним стоял подсвеченный аквариум со всевозможными рыбками, телевизор, накрытый куском красного бархата, шкаф, полный книг, стол, стулья, фикус в кадке… — Значит, вы из Армении?.. — Да, — ответил Багдасар, достал сигареты и вопрошающе поглядел на хозяина. — Курите, курите, — хозяйка пошла за пепельницей, поставила ее перед Багдасаром. — Какой сейчас год? — неожиданно повернувшись, спросил Федор Кириллович. — Что?.. Семидесятый год, какой еще? — Сколько мне, по-твоему, лет?.. — Семьдесят. — Как ты узнал? — Не знаю, — пожал плечами Багдасар. — Ты в возрасте моего отца. — Ну, тогда слушай: когда мне было двадцать лет, я был в Армении. — А что ты делал в Армении?.. — Что делал? — удивился Федор Кириллович. — Воевал, что еще делал? — Он поднял руку выше головы и резко опустил ее вниз, словно у него была сабля в руках и он наносил удар. — Вот так воевали. — Ну и дела!.. — удивился Багдасар. — Да, — подтвердила жена, накрывая стол к чаю. — Был… — А как же, — оживился Федор Кириллович. — О Кирове слыхал?.. — Завод имени Кирова. Да, слышал… — Об Одиннадцатой армии слыхал?.. Багдасар насупил брови, задумался. — Нет. Извини, конечно, но не слышал… — Хе! — недовольно покачал головой Федор Кириллович. — Не слышал! О чем же слышал этот человек? — Он подошел, взял Багдасара за руку. — Значит, я был в этой самой Одиннадцатой армии, когда вошел в Армению. — Извини меня, — смутился Багдасар, — я не получил образования. — Для этого образования не нужно. Знать надо. В двадцатом году мы установили советскую власть в Армении! Понятно?.. — Понятно, — закивал головой Багдасар и, вероятно, только тут поняв смысл его слов, сказал: — Что ты говоришь!.. Федор Кириллович собрался ответить Багдасару, но в этот момент послышался крик, с шумом открылась дверь соседней комнаты, и мальчик лет одиннадцати-двенадцати бросился к Федору Кирилловичу и спрятался у него за спиной. В следующую минуту в дверях появился мужчина лет сорока, в очках, высокий, сутулый, и закричал: — Вернись назад!.. Сию минуту вернись!.. — Опять вы начали? — помрачнел Федор Кириллович. — Отец, — сказал мужчина, — если ты мне не помогаешь, то хоть не мешай. Мать посмотрела на сына, молча кивнула в сторону Багдасара, но сын словно не заметил гостя. — Защитника нашел, — сказал он, поправил очки и прикрикнул на сына: — Кому говорю!.. — А почему я не должен защищать его? — усмехнулся Федор Кириллович. — Если бы в свое время за каждое твое озорство я тебя поколачивал, ты бы остался вот такого роста. — Он положил руку на голову внука. — Будет вам, — вмешалась Василиса Никифоровна, — не время сейчас. — А когда время? — еще больше возмутился сын. — Вместо того чтобы заниматься с внуками, он ходит на завод портить людям кровь… — Куда я хожу, не твое дело, — помрачнел Федор Кириллович. — Не мое дело, но меня стыдят. — Кто стыдит? — Скажи я, так ты теперь за них возьмешься? — Не хочешь — не говори, — еще больше помрачнел Федор Кириллович. — А куда я хожу, что делаю — тебя это не касается… Багдасару стало не по себе. Он съежился в кресле и смотрел то в потолок, то на аквариум, будто ничего не слышал, не замечал. — А тебя касается, какую по счету двойку он получил? — повысил голос сын. — А то, что внук притворился больным, не пошел в школу — тебя тоже не касается?.. Федор Кириллович обернулся, посмотрел на внука: мальчик сжался и, уставившись в пол, молчал. — А как же наш уговор? — спросил у него Федор Кириллович. — Посмотри на меня… — Вместо того чтобы десять раз договариваться, лучше один раз проследи, чтобы он выучил урок, — сказал сын и, только тут заметив Багдасара, взял себя в руки. — Здравствуйте… — Здравствуйте. Мужчина поспешно ушел, закрыв за собой дверь. — Ну, что скажешь? — Запустив пальцы в волосы внука, потрясего голову Федор Кириллович. Внук молчал, уставившись в пол. — Ну иди, учи уроки. — А он не побьет? — Нет. Иди. Внук нерешительно направился к двери. — Подожди, — остановил его Федор Кириллович. — Вернись, познакомься с гостем. Прижимаясь к бабушке, идущей с чайником в руках, внук подошел, протянул руку Багдасару. — Федор. — Багдасар, — сказал Багдасар, потрепав малыша по щеке. — Ты хороший мальчик, но сердить отца не нужно. Видишь, и ты себя неловко почувствовал, и твой отец, и даже я. А о дедушке и бабушке я уж и не говорю. Малыш вырвал свою руку из руки Багдасара и убежал за дверь. Хозяйка разлила по чашкам чай. — Пожалуйте. Они втроем молча расселись вокруг стола. Молчание было Багдасару в тягость, и, может быть, поэтому он спросил: — Сколько у вас детей?.. — Четверо, — ответила хозяйка. — Старший и младший — сыновья, двое других — девочки. Только Андрюша холостой, остальные женаты. — У меня шестеро, — сказал Багдасар, но старики словно не расслышали, и он повторил снова: — У меня их шестеро. Снова воцарилась тишина. Из соседней комнаты послышался голос мальчика: он пересказывал урок. — Ничего, — сказал Багдасар, — семья, всякое случается… — Ты по делу приехал? — спросил Федор Кириллович. — Да. Приехал фреон просить… — Удалось?.. — Нет… — Завтра в перерыв придешь ко мне, — откашлявшись, деловито сказал Федор Кириллович. — Придешь в клуб, спросишь председателя Совета ветеранов Федора Кирилловича Баканина. Когда Багдасар задумчиво шел по тускло освещенной улице к остановке автобуса, вспомнил, что нес Федору Кирилловичу коньяк. На секунду он замедлил шаг, затем, махнув рукой, проворчал: — Совсем заморочили голову человеку, — и, подняв воротник пальто, ускорил шаг.* * *
Багдасар, держа под мышкой бутылки, завернутые в бумагу, с утра пораньше вошел в кабинет заместителя директора. Увидев посторонних, он молча положил пакет у стены, заговорщицки кивнул заместителю и вышел. Подойдя к приемной директора, он заглянул в дверь: посетителей не было, одна секретарша. — Опять вы? — воскликнула секретарша. — Что за человек!.. — Что за человек? — возмутился Багдасар. — Дни идут, а тебе хоть бы что!.. Он хлопнул дверью и направился прямо к погрузочной платформе. Еще издалека он заметил Ларионыча, который, размахивая руками, что-то объяснял ребятам. — Так как же мне быть, переодеваться? — подойдя, пошутил Багдасар. Ларионыч широко улыбнулся, похлопал его по спине: — Этой ночью я о тебе думал. — По поводу фреона? — обрадовался Багдасар. — Нет. Просто так… — Просто так! — пожал плечами Багдасар и пошел переодеваться. Когда он вернулся, Ларионыча уже не было. — Сегодня погрузим последние холодильники, стоящие под навесом, и покончим с ними, — сказал Егор. — Завтра начнем грузить те, что на складе. — А где Василий? — спросил Багдасар. — У него серьезное дело. — Сергей подтащил тележку. — В завком пошел. — Случилось что-нибудь? — Придет, расскажет. Возле платформы холодильников уже не было, пришлось грузить те, что стояли у дверей склада. Дорога была неровной, ветер нанес снегу, нагруженную тележку стало трудно тащить. Чуть погодя появился съежившийся от холода Василий. По его лицу видно было, что он зол. — Ну?.. — спросил Сергей. — И откуда берутся такие люди? — проворчал Василий. — А ты объясни им как следует… — Что тут объяснять?.. Все и так ясно. — Э-э, — протянул Егор, — это тебе все ясно. — Тьфу! — сплюнул Василий. — Сказал ему, что моя жена работает в четвертом цехе. Месяц всего, как поженились… — Так, так… — Сказал: с нее до замужества не удерживали за бездетность. — Верно. — Что ты лезешь? — рассердился Василий на Сергея. — Будто я не знаю, что верно. — Ну, а дальше что?.. — Поосторожней толкай, — сказал Василий Багдасару, — уронишь. — А ты придерживай ногой. — Я ему говорю: с нее удержали налог за бездетность… — И что же он ответил? — Говорит: все законно. Раз в паспорте загсовская печать — положено удерживать налог… — Ты ему хоть сказал, что следует? — бросив работу, вмешался Егор. — А как же? Говорю: чтобы ребенку родиться, нужно по крайней мере девять месяцев. Дайте моей жене, говорю, положенное время, потом и удерживайте ваш налог… — Правильно сказал, — подтвердил Багдасар. — Что толку?.. Поглядел бы ты на него, ухмыляется и показывает книгу, а в ней написано: с холостых не удерживать, с замужних удерживать… — Выходит, сначала нужно завести детей, а потом идти в загс? Какая порядочная женщина согласится на это? — поинтересовался Багдасар, выглядывая из двери вагона. — Ты мотай на ус, — подмигнул Сергею Егор. — Пригодится. — Эх! — махнул рукой Сергей. — Я ведь предлагаю ей пойти в загс, и то ломается, а уж без загса — и думать нечего… Лишь бы согласилась, а там плевать мне на налог! — Значит, плохо ты ее уговариваешь! — засмеялся Василий. — К женщине надо подходить умеючи, — сказал Багдасар. — Я, например, своей ничего не сказал. Взял за руку мою Ахавни, посмотрел вот так ей в глаза — и почувствовал, как она вся задрожала… — Он с гордостью погладил усы и продолжил: — Как увидел, что она дрожит — ну, сказал, Багдасар-джан, готова она, взял да и поцеловал!.. Рабочий день был на исходе, когда Сергей подошел к Багдасару и, отведя его в сторону, тайком от товарищей спросил: — Ну, за руку-то взять — как-нибудь возьму. Ты научи меня, как смотреть надо. — Это совсем просто. Значит, вот так, берешь за руку, — он взял руку Сергея, — слегка так сжимаешь и смотришь в глаза. Один глаз у Багдасара был больше другого, один глаз улыбался, другой был грустным, один ус висел, другой торчал, и от этого улыбка у него получилась кривой и грустной.* * *
У входа в клуб внимание Багдасара привлекло объявление, написанное большими буквами: «Выступление хора ветеранов. В программе: русские народные песни». — Председатель Совета ветеранов, — сказал вслух Багдасар. — Почему я не запоминаю их фамилий?.. Где-то, видимо, шла репетиция хора: песня, которая была слышна в вестибюле, то неожиданно затихала, то вновь набирала силу. — Где может быть председатель Совета ветеранов? — спросил Багдасар у дородной женщины, моющей пол в вестибюле клуба. Женщина выпрямилась, опустила швабру с тряпкой в ведро, над которым поднимался пар. — Федора Кирилловича вам?.. — Да, — обрадовался Багдасар, — где его найти?.. — Слышите, вон поют? — женщина кивнула в сторону двери, выходящей в вестибюль, и, доставая тряпку из ведра, шмякнула ее на мраморный пол. От нее поднялся пар. Багдасар подошел, нерешительно приоткрыл дверь, просунул в щель голову. Перед хором стоял дирижер. Пожилые женщины и мужчины, человек шестьдесят, выстроившись на сцене, пели. Он попытался отыскать среди поющих Федора Кирилловича, не нашел и, смутившись, закрыл дверь. — Что поделаешь, подожду, — вздохнул Багдасар, — только бы он мне помог. Багдасар медленно, бесцельно покружил по вестибюлю, затем подошел к женщине, моющей пол: — Скоро они кончат?.. Женщина разогнулась, внимательно посмотрела на Багдасара, словно видела его впервые, рукавом вытерла со лба пот. — «Вечерний звон» пели? — Не знаю.. — Как споют, значит, кончили, — сказала женщина и, опять нагнувшись, стала водить шваброй по полу. На улице светило солнце, лучи его сквозь стеклянные стены проникали в здание, и то ли солнце было тому причиной, то ли песня, доносившаяся сюда, или просто у Багдасара было хорошее настроение, он расстегнул пуговицы на пальто и, размахивая рукой, мысленно обратился к сыну Федора Кирилловича: — Ежели твой отец в таком возрасте поет, ты должен радоваться, дурень. Что лучше этого?.. А детей своих сам воспитай так, чтобы учились. По-твоему, те дети, у кого нет дедушек, должны быть неучами?.. — Что это ты сам с собой разговариваешь? — спросила у него уборщица. Багдасар улыбнулся ей. — Ты что, хочешь в хор поступить?.. — Нет, что ты! — Кто тебя знает. Наша Прасковья Борисовна приходила поступать, сказали: слуха у тебя нет. А на что поющему слух, ведь он нужен тому, кто подслушивает. Разве не так?.. — Да так, — тут же согласился Багдасар. — А как же, — воодушевилась уборщица. — А она хорошо пела. Сколько тут песен пропела, все были хорошие, слова прямо за душу брали. Я ей сказала: возьмут, Прасковья Борисовна, но тот, что руками размахивает, не взял. — Нехорошо он сделал. — Тут загвоздка такая, — понизила голос уборщица. — Она-то все песни на один лад пела, а не как эти — на разные мотивы. Да и головой, как лошадь, не мотала. А сейчас, известное дело, прямота не проходит… Уборщица, видимо, хотела еще что-то сказать, но, заметив выходящих в вестибюль участников хора, остановилась на полуслове: — А вон и твой Федор Кириллович. — Сейчас займемся, — отделяясь от группы, подошел к Багдасару Федор Кириллович. — Ты давно ждешь?.. — Нет. — Сейчас займемся, — повторил он, взял Багдасара под руку и, вместо того чтобы направиться к выходу из клуба, повел его по длинным путаным коридорам, затем ключом открыл какую-то дверь. — Заходи. — Он усадил Багдасара за старый стол, покрытый зеленым сукном, сам сел по другую сторону стола. — Это мой кабинет, — не без гордости сказал Федор Кириллович. — А как ты думал?.. Багдасар огляделся: на стенах висели почетные грамоты разных цветов и форматов и памятный вымпел. — Это дела моих пенсионеров, — проследив за взглядом Багдасара, усмехнулся Федор Кириллович. — Эта грамота за первое место по соревнованиям в городки, Вот та, — он надел очки, чуть привстал с места и посмотрел внимательнее, — да, эта — за шахматные состязания, красная — от горсовета, за борьбу с шумом. Словом… — Серьезные дела делаете… — А у вас не делают?.. — Не знаю. — Хе, — многозначительно хмыкнул Федор Кириллович, — если бы делали, знал бы. А как же. А сейчас мы взяли шефство над качеством. — Сложное это дело. — Мы не жалуемся. Пусть только они не жалуются. Багдасар посмотрел на часы. — Сейчас, сейчас все уладим, — сказал Федор Кириллович. — Ведь вчера я ничего не спросил об Армении. Как у вас там сейчас? — Да как сказать! — удивился Багдасар. — Приезжай, гостем моим будешь… — Спасибо. Я почти ничего не помню. — Федор Кириллович прищурил глаза. — Были дома, облепленные навозом, была глиняная крепость да еще та красивая гора. — Угу… Гора Арарат. — Должно быть, название не помню. Значит, произошел интересный случай: я дал котелок одному парню, чтобы он сходил за водой. А этот парень ушел и не вернулся. Остался я без котелка. Все ели, а я ждал, пока кто-нибудь кончит, чтобы и самому поесть из освободившегося котелка. Ну и смеялись надо мной, посмешищем сделали… Зазвонил телефон, прервав воспоминания Федора Кирилловича. — Баканин слушает. Да, да. — Затем Багдасар увидел, как постепенно лицо у него напряглось, стало строгим. — Опять начинается? — повысил он голос. — Никуда не ходи, я сейчас приду, — сказал и повернулся к Багдасару: — Пошли.* * *
Багдасар и Федор Кириллович быстро шли по заводу. От холода Багдасар съежился, втянул шею в воротник, и было непонятно, слушает он Федора Кирилловича или нет. — Всех коммунистов, значит, собрали в райком и сказали: есть постановление — часть эвакуированных предприятий не перевозить обратно. На их базе на местах должны выстроить заводы. Ты слышишь? — посмотрев на Багдасара, потряс рукой Федор Кириллович. Багдасар кивнул головой. — И восьмого июня сорок пятого года Федор Кириллович Баканин и еще двадцать восемь коммунистов под аплодисменты и духовой оркестр сделали первый удар киркой на этом плато. Нет, Багдасар его больше не слушал. «Странный человек, — думал он, — для чего мне знать, кто сделал первый удар. Если можешь чем-нибудь помочь, так помоги. Таскаешь меня тут без дела за собой…» — …Сначала изготовляли электродвигатели… — Хорошо и делали, — уловив паузу в его словах, вставил Багдасар. Теперь вот дело за фреоном… — И это решим, не беспокойся, — успокоил Федор Кириллович. — Дело было ответственное, а специалистов не хватало, война только что закончилась, кто бы дал тебе специалистов?.. Электротележка, нагруженная недавно отлитыми, еще не обточенными крышками, проехала рядом. — Привет, Кириллыч! — звонким голосом позвала женщина, стоявшая на тележке. Женщина понравилась Багдасару. Он улыбнулся и сказал: — Привет! Кириллыч лишь кивком головы поприветствовал женщину. — Опять тарарам поднимаешь? — оглянувшись, спросила женщина. — Займись своим делом, — ответил Баканин, и они вошли за электротележкой через большие ворота в цех. Пожилой мужчина, стоя чуть поодаль от ворот, курил. У него на рукаве была красная повязка. — Что ты здесь делаешь? — подошел к нему Баканин. — Разве здесь твое место, Савельич?.. Щуплый, чуть сутулый мужчина был явно рассержен. Он бросил сигарету на землю, раздавил ногой и воскликнул: — Г-г-г-гонит, пойми. За руку в-в-в-вот так взял и выгнал. — Он взял Баканина за руку и толкнул. — То есть как выгнал? — А вот т-т-так. Сказал, чтобы д-духу твоего в цехе не было. — Сопляк! — багровея, сказал Баканин, обращаясь к известному ему лицу. — Ты мужчина — терпи. — Он взял Савельича за локоть: — Пошли. Они быстро зашагали. Багдасар на миг замешкался, не зная, как быть, затем бросился вслед за ними. Баканин резко открыл дверь в комнату начальника цеха, и они вошли. — Ты что, спятил? Кого ты выгоняешь?! Ветерана, партийца! — закричал Федор Кириллович. — Кто тебе дал на это право?.. Начальник цеха, парень лет тридцати, бледный, с чуть женственными чертами лица, исподлобья смотрел на них и молчал. — Я тебя спрашиваю, — снова захорохорился Баканин. — Отвечай! — Отвечай! — выкрикнул Савельич. — Простите, — усмехнулся начальник цеха. — Кто вы такие? — Ты что, не знаешь меня?.. — Знаю, знаю. Вы — Федор Кириллович Баканин. — Так ответь мне: по какому праву выгоняешь из цеха ветерана, исполняющего общественную работу?.. — Только вас мне не хватало, отчитывайся тут перед вами, — со вздохом сказал начальник цеха. — Вы пенсионеры, пожалуйста, приходите, бродите по цеху, утоляйте свою тоску по работе, во время перерыва играйте в домино, пожалуйста, пойте в хоре. Но я не позволю, чтобы вы совали нос в наши дела. Ясно? — начальник цеха хлопнул рукой по столу. — Больше мне нечего сказать. — Вы слышали? — обратился Федор Кириллович к Савельичу и Багдасару. — Ему больше нечего сказать!.. А у тебя есть право нарушать технологию?.. Есть право протаскивать брак?.. — Вот это вас и не касается… — Слушай, — оборвал его Федор Кириллович, — я строил этот завод и не позволю, чтобы каждый молокосос играл честью моего завода! — Спокойно, — сказал начальник цеха, — спокойно. О чести завода я, может, думаю не меньше вас… — Не видно. — Вам-то что? — разгорячился начальник цеха. — Пенсию получаете, от нечего делать ходите себе по заводу, заложив руки в брюки, ищете недостатки. А с меня план требуют… — Это нас н-н-не касается, — снова визгливо вмешался Савельич. — Компрессоры вместо д-д-двадцати четырех часов держишь в сушилке в-в-восемнадцать часов. Кого обманываешь? Ясно, советскую власть. — Да! — Багдасар наконец понял причину спора. — Сообщим куда с-с-следует об этом, — закончил Савельич. — Сообщайте, — снова стукнув рукой по столу, поднялся начальник цеха. — Сообщите еще, что емкость сушильни в день восемьсот штук, а по плану должны дать тысячу. А сейчас освободите комнату, и не дай бог, чтобы я вас по этому делу встретил в цеху… Багдасар молча вышел, тихо закрыл за собой дверь и, отойдя в сторону, закурил. Голоса, доносившиеся из комнаты, затихли настолько, что стал слышен звонок подъемного крана. Федор Кириллович и Савельич вышли. Багдасар зашагал рядом и по их лицам понял, что они сломлены. — Парень не виноват, — наконец заговорил Федор Кириллович. — Виноват или нет, нас не к-к-касается. Налицо нарушение, и все. — Савельич на миг замолк, затем продолжил: — А то, что он не человек, а б-бирюк, — эт-то ясно!.. Баканин замедлил шаг, остановился, прищурив глаза, посмотрел на товарища и сказал: — Савельич, Савельич!.. Сколько раз я говорил, что ты должен положительно воздействовать на других!.. — Как ты сказал? — переспросил Багдасар. — Как ты сказал?.. — Сказал, что он своим примером должен делать других хорошими людьми, — объяснил Баканин. — Правдивые слова, — подтвердил Багдасар. — В жизни не забуду. — П-п-правильно или не правильно, меня не интересует, — рассердился Савельич. — Ты мне скажи, нужно контролировать или нет… — Решим и скажем. — А я уж решил, о-очень нужно мне это! Чтобы каждый мальчишка на меня орал. — Он тряхнул рукой, повернулся и ушел. — Савельич! — позвал Баканин. — Савельич!.. То ли Савельич сделал вид, что не слышит, или же шум цеха заглушил голос Баканина, но тот ушел. Багдасар протянул Баканину пачку сигарет. Баканин взял сигарету, задумчиво размял ее в пальцах, но вдруг очнулся: — Нет, я же бросил курить! — Что же теперь делать будем?.. — Ты о чем?.. — Да о фреоне я. — Да… Что делать?.. — Говорят, без директора не получится. — Директор на сессии. — Знаю. — Как только вернется, разыщи меня, вместе сходим к нему. Мне он не откажет. — В самом деле? — обрадовался Багдасар. — В самом деле. — Баканин положил руку Багдасару на плечо. — Пошли ко мне домой, вместе пообедаем… — Нет… Я к ребятам должен идти, они меня ждут. Баканин пожал руку Багдасару. — До свидания. — До свидания. — Багдасар задержал его руку и застенчиво сказал: — Я тебе скажу одну вещь, не обижайся — удивительный ты человек!* * *
После работы на остановке автобуса Багдасар обратил внимание на мужчину средних лет, с острым носом и бегающими глазами, который, стоя в нескольких шагах, смотрел на него. Поймав взгляд Багдасара, он улыбнулся, подошел и, сунув руку за пазуху, вытащил моток веревки. — Видал, какой товар? — сказал он, тряхнув веревкой. — Какой товар?.. — То есть как? — удивился мужчина. — Хоть двести килограммов взвесь — выдержит. Пятнадцать метров… Багдасар непонимающе глядел на него и молчал. — Рубль двадцать копеек, — подмигнул мужчина, — ни больше, ни меньше… — На кой черт она мне? — Хозяйку порадуешь. Стоит она, конечно, дороже, но я согласен на рубль двадцать. Видишь, товарищи меня ждут… Багдасар повернулся и увидел двух мужчин, которые, переминаясь с ноги на ногу, делали нетерпеливые знаки. — Ну, — сказал мужчина, — быстрее. Веревка очень хорошая. — Хорошая веревка, — согласился Багдасар, — но что мне с ней делать?.. Подошел автобус, народ бросился к дверям. Багдасар улыбнулся мужчине, пошел было к автобусу, но мужчина удержал его: — Послушай, у меня ведь времени нет, а ты заставляешь объяснять. Твоя жена натянет веревку между столбами и повесит белье. Что же удобнее этого?.. Рубль двадцать копеек… Багдасар посмотрел вслед удаляющемуся автобусу и раздраженно сказал: — Жена моя вон где, в Армении… — Так еще лучше, — поймал его за руку мужчина, — отвезешь в подарок. Где тебе раздобыть такую прочную веревку?.. Товарищи окликнули его, стали подавать какие-то знаки, мужчина рассердился: — Не видите, покупает уже! — Повернувшись, он улыбнулся Багдасару: — Черти у них в животах кувыркаются! Будто не понимают, что ты покупаешь. — Но, — смущенно начал Багдасар, однако мужчина его не слушал. Возле фонаря остановился какой-то грузовик. Мужчина, оставив Багдасара, побежал к машине, протянул водителю веревку, что-то сказал ему, затем, безнадежно махнув рукой, вернулся к Багдасару. — Больше ни слова. К лицу ли тебе это?.. — Он сунул веревку в руки Багдасару и протянул руку. — Не люблю торговаться… Дай рубль двадцать, и я пойду… Багдасар беспомощно вздохнул, опустил руку в карман. — Я же говорил! — хлопнул в ладоши мужчина. — Знаешь, как твоя жена обрадуется?.. Багдасар достал из кармана деньги, мужчина вытянул рублевку. — Смотри — одна. Еще двадцать копеек. Так, — взяв двадцать копеек, он на бегу крикнул: — Смотри не думай, что я тебя обманул! — Он подбежал к товарищам, и они быстро зашагали. Багдасар посмотрел им вслед, взвесил на руках веревку, хотел отшвырнуть ее в сторону, но пожалел, запихнул за пазуху и, постукивая ногой о ногу, стал ждать следующего автобуса.* * *
В пятницу, подойдя к товарному вагону, Багдасар вместо приветствия мрачно сказал: — Не приехал еще… — Кто?.. — Директор, кто ж еще?.. — Багдасар сосредоточенно закурил. — Ты же говорил, что приедет?.. — Это я говорил? — вспылил Багдасар. — Это она сказала… — А теперь что говорит?.. — Да разве с ней можно разговаривать!.. Там у дверей толпится, поди, человек десять. — Кто они такие?.. — Не знаю. Двое из старых, остальные новенькие… — Может, и ты бы там подождал? — забеспокоился Егор. — Не разрешает она… Говорит — иди к заместителю… — Ты ей объясни, что к заместителю уже ходил, теперь тебе нужно к директору… — Тьфу ты, черт! — в сердцах произнес по-армянски Багдасар. И продолжил по-русски: — Разве она слушает?.. И рта не дает раскрыть!.. Как увидит меня, сразу начинает кричать. — Что она говорит?.. — Быстро, быстро кричит что-то, ничего не понимаю… — Так не пойдет, ребята, — нахмурившись, сказал Василий. — Нужно ему помочь. — Как поможете?.. — С надеждой в голосе спросил Багдасар. — Ведь сегодня пятница, времени в обрез… — Пойдем к этой секретарше, сами объясним. — Нет, — разочарованно махнул рукой Багдасар. — Ничего не выйдет… — А как же быть? — Гм… — задумался Багдасар. — Может, к концу дня, когда посетителей не будет, попытаюсь сам проскочить к директору. Будь что будет!.. — Он швырнул сигарету на землю, раздавил ее каблуком и пошел переодеваться. Со свистом подошел электровоз и начал прицеплять нагруженные вагоны. — Эй-эй, — позвал Егор машиниста электровоза, — подай нам еще пять пустых вагонов, а дальше делай что хочешь!..* * *
После перерыва, когда они грузили пятый вагон, Василий, хлопнув в ладоши, сказал: — Гляди-ка!.. Сама пожаловала… — Не секретарша ли?.. — прищурился Егор. Багдасар выпрямился, посмотрел на женщину, закутанную в теплую шубу, и, узнав ее, хотел было улизнуть. — Подождите! — окликнула его секретарша. — Подождите! — Она достала из кармана листок бумаги, прочитала. — Вы Багдасар? Багдасар с сомнением посмотрел на нее, на товарищей и ничего не ответил. — Да, это он, — выступил вперед Василий. — А в чем дело?.. — Директор его срочно вызывает. — Меня?. — Да, вас. — Для чего я ему нужен? — Багдасар, похоже, даже испугался. — Быстрей, — стукнула ногой о ногу секретарша. — Холодно. — Видно, пожаловалась на меня, — тихо сказал товарищам Багдасар. — Пошли, — сказал Егор, — не волнуйся. Ты ничего плохого не сделал. Багдасар медленно зашагал к складу. — Куда же вы? — спросила секретарша. — Куда, куда? — рассердился Багдасар. — Мне и переодеться нельзя, что ли?.. — Да идите так. У него времени нет. Багдасар, Егор и секретарша молча пересекли заводской двор. Багдасар искоса поглядывал на секретаршу и сопел. В приемной она сказала: — Сразу же заходите. — Держись, — подбодрил его Егор. — Я тебя здесь подожду. Багдасар медленно подошел к двери, осторожно взялся за ручку, но несколько посетителей преградили ему дорогу. — Куда?.. — зашумели они. — Не видишь, ждем, а ты без очереди лезешь… — Ну и ждите, — горько усмехнулся Багдасар. — Подождите, — вмешалась секретарша. — Его директор вызвал. — Если на то пошло, — повысил голос один из ожидающих, — нас тоже вызвал директор… — Вызвал, так иди, — предложил Багдасар. — Мне еще лучше. Почему не заходишь?.. — Вы не на базаре! — покраснев от гнева, подалась вперед секретарша. Она открыла дверь в кабинет и втолкнула туда Багдасара. Оказавшись в кабинете, Багдасар от волнения не сразу узнал Ларионыча и заместителя директора. Оба улыбнулись, глядя на него. Около них сидел еще кто-то. Багдасар видел его впервые, отвел взгляд и беспомощно воззрился на директора. — Это и есть Багдасар, — сказал Ларионыч. — Подойдите поближе… Пока Багдасар шел от дверей огромного кабинета к столу директора, он вспомнил секретаршу и придумал ответ, который нужно дать директору: «Она меня бранила, я ей и отвечал…» — Садитесь. Вы и есть Багдасар?.. — Да. — Как ваша фамилия?.. — Моя?.. — Ваша. — Геворкян, Багдасар Варданович. — Затем, собравшись с духом, сказал: — Я ей ничего плохого не говорил. Это она почем зря кричала… — Кто кричал?.. — поинтересовался директор. — Секретарша, кто еще?.. Директор улыбнулся, улыбнулись и остальные. Багдасар приободрился: — Ведь я же четыре тысячи километров проехал… — Человек проехал четыре тысячи километров!.. Вот это да! — засмеялся Ларионыч. — Что, разве не так?.. — Так, конечно, — согласился директор. — Кем вы работаете на вашем заводе? — Я работаю на автоматах, заполняющих фреон. — А у вас на заводе нет человека, занимающегося вопросами снабжения? Почему прислали вас?.. — Я же не виноват, — опустив голову, буркнул Багдасар. — Мой директор сказал, что только я могу это устроить… — А кто вас просил грузить холодильники? — нарочито строго спросил директор. — Ваш директор? Багдасар искоса посмотрел на Ларионыча и виновато забормотал: — Я же без дела болтался, вот и грузил… Директор встал. Багдасар, заметив, что поднялись и остальные, тоже встал. — Спасибо, — пожал директор руку Багдасара. На мгновение вспыхнул яркий, ослепляющий свет. Незнакомец перезарядил фотоаппарат, и вновь вспыхнул яркий свет. — Фреон вы получите, — сказал директор и обратился к заместителю: — Оформляйте. Багдасар все еще ничего не понимал. Он смотрел то на Ларионыча и заместителя, то на директора и растерянно моргал глазами. — Явись сюда даже твой директор, я бы не дал, — почему-то разозлившись, сказал директор.* * *
Багдасар зашел на междугородную телефонную станцию. Ожидающих было мало, и это его тоже обрадовало. Потирая ладони, он подошел к окошечку. — Ереван, — торжественно проговорил он, — примите, пожалуйста, заказ на Ереван. — Номер?.. — Номер… — Багдасар начал рыться в карманах. Пошарил в карманах брюк, не нашел, почувствовал себя неловко под вопросительным взглядом девушки, проговорил «сейчас», проверил карманы пиджака, вспотел, обернулся, чтобы пропустить вперед стоящего за ним, но стоящих не было, и тогда он еще больше вспотел. — Ведь был же, — сказал он девушке. — Где я его оставил? — Засунул руку во внутренний карман пиджака, достал фотографию, на которой было запечатлено пятеро детей, выстроившихся по росту. Багдасар улыбнулся фотографии и неожиданно протянул ее девушке. — Это мои дети. Самого маленького здесь нет. Девушка посмотрела на фотографию и тоже улыбнулась. — Те двое, что похожи друг на друга, близнецы, — сказал Багдасар. — Хорошие дети, — сказала девушка, затем плотнее прижала к ушам наушники и сказала в микрофон: — Москва, 226-44-21, четвертая кабина, повторяю: Москва, 226-44-21, четвертая кабина. Голос девушки разнесся по всему залу, и Багдасар увидел пожилую женщину, которая, семеня, бросилась к четвертой кабине. Девушка отодвинула микрофон, что-то отключила и, возвращая фотографию Багдасару, еще раз повторила: — Хорошие дети. — Да, — подтвердил Багдасар, — но баловать их не надо. Я даже целую их только спящими, они не знают об этом. — Вы нашли номер?.. — Нет, — покачал головой Багдасар, засунул фотографию во внутренний карман пальто и что-то там нащупал. Засунул руку глубже и достал какую-то бумажку. — Ну и голова! — упрекнул он себя, — смотри-ка куда засунул. Пиши, 44-18-76. Девушка записала. — Любого позвать к телефону?.. — Нет, — запротестовал Багдасар. — Директора. — А директор сейчас будет на месте? — спросила девушка, посмотрев на часы. Багдасар почесал затылок. — Сейчас в Ереване… — Он посмотрел на часы, подсчитал в уме. — Восемнадцать минут третьего, ладно, округлим, двадцать минут третьего. — Сколько будете говорить? — деловито спросила девушка. — Минут десять — пятнадцать. — Десять или пятнадцать?.. — Пиши пятнадцать, — решил Багдасар. — Едва успею все рассказать. Девушка кончила писать, протянула Багдасару квитанцию. — Когда дадут разговор? — расплачиваясь, спросил Багдасар. — Не знаю. С Ереваном должны связаться через Москву. — Я буду здесь, никуда отсюда не уйду. — Хорошо, — улыбнулась девушка. Багдасар, заложив руки за спину, неторопливо прошелся по залу, останавливаясь и прислушиваясь к громкоговорителю, который время от времени приглашал ожидающих пройти в кабину. Затем, видимо устав, он подошел к девушке и указал на свободный стул: — Я буду сидеть вон там. — Хорошо, — сказала девушка. Багдасар сел на свободный стул, посмотрел на сидящего рядом с ним человека в тулупе и улыбнулся: — Ждешь?.. — Жду, — ответил мужчина лет пятидесяти с редкими зубами и оживился: — С каким городом говорить будешь? — Ереван. Бывал там?.. — Нет, — мужчина улыбнулся, еще больше обнажив редкие зубы, — в Ашхабаде был. — Ну, где Ашхабад, где Ереван, — сказал Багдасар. — Сейчас в Ереване, — он посмотрел на часы, — десять минут четвертого. — Ночи или дня?.. — Дня, конечно… — На самом деле?.. — А как ты думал!.. — Интересно, — склонив набок голову, сказал мужчина. — А ты с каким городом будешь говорить? — спросил Багдасар. — Ни с каким. Во дворе разгружают мою телегу. Я прикрыл лошадь и пришел сюда погреться. — И хорошо сделал. — Зимой я всегда так делаю. Сегодня, к примеру, я мог бы не приезжать, моя работа давно закончена. Но не мог же я оставить детей голодными. — Каких детей? — Детсадовских. — Молодец, — хлопнул по спине собеседника Багдасар. — Я это понимаю. Как бы я, например, без фреона вернулся обратно? А сейчас совесть моя чиста. И если хочешь знать правду, то директор сам мне сказал: если бы даже приехал твой директор — не дал бы, но тебе даю. Не шутка ведь, разве я не прав?.. Он гордо покрутил кончик уса. Собеседник его ничего не понял, но закивал головой. — Верно говоришь. — Он поднялся. — Я пойду, там уже закончили, наверное. Багдасар тоже встал. — Слушай, — сказал он, — как тебя звать? — Николай. Багдасар пожал ему руку. — Всего хорошего, Николай. — И тебе счастливого пути. Багдасар проводил его взглядом, потом медленно подошел к окошечку и без единого слова, лишь грустно улыбаясь, показал девушке на часы. Девушка пожала плечами. Багдасар вздохнул, вернулся обратно. Сейчас на месте человека в тулупе сидела красивая пышная женщина. Багдасар с нескрываемым интересом уставился на нее. Женщина, видимо, почувствовала его взгляд, краем глаза посмотрела на Багдасара и поднялась с места. — Ереван — 44-18-76, восьмая кабина, — объявил громкоговоритель, но Багдасар не услышал. Он продолжал смотреть вслед удаляющейся женщине. Девушка выглянула из окошечка, отыскала взглядом Багдасара, и вновь заговорил громкоговоритель: — Ереван, Ереван, Ереван, восьмая кабина. Багдасар встрепенулся и побежал к восьмой кабине. — Алло, алло! — Он выглянул из кабины и крикнул девушке: — Ничего не слышно! — Снова поднес трубку к уху. — Алло, — сказал и удовлетворенно, широко улыбнулся: — Здравствуйте, товарищ Акопян… — Кто это?.. — Багдасар это, Багдасар… — А… Здравствуй, Багдасар! — Как вы там?.. — Хорошо… — Какой мне теперь магарыч будет? — Магарыч?.. — А как же. Двадцать баллонов достал. Сегодня отправили самолетом. — Уже отправили? — Да, своими глазами видел. — Жаль, — сказал директор. — То есть как это жаль? Фреон, вы меня, наверно, не поняли! — размахивая руками, пояснил Багдасар. — Тысяча литров… — Я понял. Мы вчера получили пять тысяч литров. — Как это? — сразу же сник Багдасар. — Ты не рад?.. — Что?.. Рад, — угрюмо сказал Багдасар. — Что мне теперь сказать им?.. Люди от себя оторвали, нам отдали… — Ничего не объясняй. Письмо напишем заводу-поставщику, тысячу литров нашего фреона пошлют им. Ясно? — Ясно, — со вздохом сказал Багдасар. — Что-нибудь еще хочешь сказать?.. — Что тут еще скажешь? — Вытирая пот со лба, проворчал Багдасар. — Хочешь поговорить с домом? — С кем? — С домом. Скажи свой номер телефона. — Моего телефона? — прижав руки к груди, удивился Багдасар. — Ну да. Ты трубку не вешай. — Сорок четыре, двадцать один, тридцать четыре, — пожимая плечами сказал Багдасар. Сначала он услышал в трубке треск, затем голос директора: «Ереван, прошу поменять номер». Чуть погодя послышался голос жены: — Алло?.. — Ахавни, ты? — Я. Кто это? — Я это, — грустно сказал Багдасар. — Багдасар?.. — Да, я. — Откуда ты говоришь? — Да куда ездил, оттуда и говорю… — Голос у тебя какой-то не такой, ты не болен? — Нет, — качая головой, вздохнул Багдасар, и было похоже, что глаза его увлажнились. — Как твои дела? — Хорошо. — Слушай, ты вроде болен, говори правду!.. — Не болен. — А что случилось? — Ничего не случилось… — Ты как-то не так говоришь… — Что ты ко мне пристала? — рассердившись, повысил голос Багдасар. — Как дети?.. — Хорошо. У нас все в порядке. — ……… — Багдасар?.. — Что?.. — А что ты молчишь?.. — А что тебе сказать! — снова рассердился Багдасар. — С тобой что-то случилось. Когда ты приезжаешь? — Завтра. — То, что ты должен был сделать, сделал?.. — Сделал. Ладно, завтра вылетаю. Он повесил трубку, вышел из кабины и зашагал к выходу. — Гражданин, говоривший с Ереваном, подойдите к третьему окну, — послышалось из громкоговорителя. Багдасар не услышал. Вышел из зала и в расстегнутом пальто, с развевающимся шарфом зашагал по улице. Девушка посмотрела в окно, накинула пальто и вы бежала за ним. — Гражданин! — окрикнула она. — Гражданин!.. Багдасар обернулся, с грустным изумлением посмотрел на девушку. — Зову вас, не слышите, — улыбнулась девушка. — Мы вам остались должны. Вместо пятнадцати вы говорили восемь минут. — Вы мне должны или я вам? — не понял Багдасар. — Мы, мы. Багдасар махнул рукой, повернулся и, понурив голову, пошел дальше.* * *
Песни были о тайге, о березах, о русской зиме и вьюге. Чуточку хмельная, тихая грусть царила в комнате. Багдасар перебирал струны мандолины, качал головой, пытаясь подпевать, но было понятно, что песня не его. Это была песня Кузьмича, песня старухи, Егора, Василия, Сергея, но не его. В комнате горел свет, было душно и накурено. На столе стояли две пустые бутылки из-под коньяка, бутылка водки, консервы, колбаса, хлеб, квашеная капуста и наспех приготовленный старухой обед. Песни не кончались. Едва пропев одну, кто-нибудь заводил другую, и достаточно было начаться песне, как ее подхватывали, а Багдасар, подыгрывая на мандолине, пытался уловить мотив. Он сбивался, внимательно смотрел на поющих и снова перебирал струны мандолины. Наконец все устали: на этот раз, когда песня смолкла, никто не начал новой. Старуха посмотрела на стенные часы. — Ты не опаздываешь?.. — Нет, — покачал головой Багдасар. — Еще целых два часа… Кузьмич разлил по рюмкам водку. Егор, который до этого, не моргая, молча смотрел на иконы, висящие в изголовье старухиной кровати, поднял рюмку. — Уезжаешь, значит, — он посмотрел на Багдасара и выпил. — Счастливого мне пути, а вам счастливо оставаться, — сказал Багдасар и осушил рюмку. Старуха поднялась с места, вышла на кухню и вернулась с каким-то пакетом в руках. — Это жене твоей. — А что это? — Не к лицу мужчине вмешиваться в бабьи дела. — Сушеные грибы, — хмыкнул Кузьмич. Багдасар взял пакет, положил его в чемодан, задумчиво постоял, потом решительно подхватил один из чемоданов, взял старуху за руку и повел ее на кухню. — Тогда и я тебе кое-что дам, но ты не обижайся. — Он поставил чемодан на кухонный стол, открыл его и показал женские панталоны. — Вот… — Вот те на! — удивилась старуха. — Это… это тебе… — Он смущенно посмотрел на удивленное лицо старухи. — Ладно, чтобы ты вдруг не обиделась, сделаем так: половина тебе, половина моей матери. Идет? Старуха пощупала панталоны: — Теплые… — Тогда, — обрадовался Багдасар, — все тебе. Ты не обижайся, мама… Да и чемодан возьми, что мне с пустым делать?.. — Он обнял старуху, прижался щекой к ее щеке и, не дав ей сказать ни слова, вернулся в комнату. Сергей встал из-за стола, подошел и остановил Багдасара у дверей. — Послушай, — сказал он, краешком глаза следя за товарищами, — ерунду ты сказал. — Какую ерунду?.. — Вчера, значит, взял я ее вот так за руку, вот так посмотрел, — он показал, — хотел поцеловать — и получил оплеуху… — Значит, не так смотрел. Попробуй еще раз… — Нет, — покачал головой Сергей. — Может, такие штучки у вас и проходят, но у нас нет. Факт налицо, — он потрогал щеку и вернулся на свое место. — Послушай, — прерывая спор, вдруг обратился Егор к Багдасару, — армяне — христиане?.. — Христиане. — Может, христиане, — сказал Василий, — а что, бог и у нас, и у вас один и тот же? Багдасар подумал, почесал затылок. — Не знаю, — пожал он плечами. — Поеду, спрошу у матери.* * *
Аэродром был хоть и невелик, но людный и шумный. Василий и Багдасар пробивались сквозь толпу, а идущий вслед за ними Егор старался не отставать от них. У выхода на летное поле Василий опустил чемодан и спросил: — Ты билет не забыл?.. — Нет, — покачал головой Багдасар, — он у меня. — Проверь. Багдасар достал бумажник, показал билет, лежавший в нем. — Не понимаю, куда подевался Сергей, — подходя, сказал Егор. Егор с Василием горячо о чем-то спорили. — Не иголка, не потеряется, — ответил Василий, доставая папиросы. — Да, — сказал Багдасар, — покурим, а то там не разрешат. Багдасар закурил, посмотрел на друзей, вновь затянулся и наконец проговорил: — Знайте, что в Ереване у вас есть брат. Собирайте жен, детей и приезжайте. Егор похлопал Багдасара по плечу и ничего не сказал. — А вон и Сергей! — воскликнул Василий. Сергей, размахивая пачкой газет, закричал: — Смотрите, что я принес. Он подошел и протянул газеты Багдасару. — Да, — благодарно улыбаясь, закивал головой Багдасар, — почитаю в самолете… — Ты сюда посмотри! Вырвав одну из газет, Сергей указал на фотографию на первой странице. Багдасар вначале не узнал себя на фотографии, а узнав, растерялся, заморгал глазами. И друзья с радостными возгласами стали хлопать его по плечу и спине, привлекая к себе внимание окружающих. Приземлился какой-то самолет, заглушил голоса, а когда двигатели остановились, Сергей сказал: — Смотрю на газету, вижу — Багдасар! Глазам своим не поверил, прочитал — он! Двадцать штук купил… — Вместо того чтобы радоваться, ты загрустил, — потряс за плечо Багдасара Василий. — Теперь на заводе на тебя будут пальцем показывать, — сказал Егор. — Да, — грустно улыбаясь, вздохнул Багдасар, — пальцем будут показывать… — А как же, — блестя глазами, сказал Сергей. — Тебя должны качать, как героя! Тысяча литров фреона, не шутка! Багдасар ничего не ответил. Он кивал головой и молчал. Затем бросил сигарету, придавил ее каблуком, посмотрел на Егора, Василия, Сергея и протянул руку. — Ну ладно, я поехал. — Он обнял, поцеловал друзей и, подхватив чемодан, понуро, медленно пошел на летное поле.* * *
Двигатели загудели, и самолет плавно тронулся с места. Багдасар прильнул к окну, пытаясь издалека отыскать в толпе Егора, Сергея, Василия, но никого не увидел. Он удобнее устроился в кресле и, взяв одну из свежих газет, лежащих у него на коленях, развернул первую страницу. С верхнего правого угла на Багдасара смотрел сам Багдасар. На фотографии один глаз у него был больше другого, один глаз улыбался, другой был грустным, один ус висел, другой был вздернут, и от этого улыбка его получилась кривой и грустной. 1974
Последние комментарии
6 часов 55 минут назад
7 часов 47 минут назад
19 часов 12 минут назад
1 день 12 часов назад
2 дней 2 часов назад
2 дней 5 часов назад