Призрак музыканта [Сабахатдин-Бора Этергюн] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Судьба турчанки



Сабахатдин-Бора Этергюн Призрак музыканта
От переводчика
Сабахатдин-Бора Этергюн (1881–1946) родился в Истанбуле, в семье, принадлежавшей к потомственной воинской аристократии. Образование получил в Германии. Свой литературный путь начал как прозаик-реалист сборником рассказов «Слепые дети». Через некоторое время вышла книга его эссе «Прошлое и будущее турецкой словесности» (1911). Затем последовали романы «Безумная любовь к Ламартину», «Времена Османа-гази» и другие. Известность писателю принес роман «Врач-армянин», посвященный событиям 1915-го года на Балканском полуострове. Роман был переведен на французский, английский и немецкий языки. Вскоре Этергюн снова уезжает в Германию. Здесь были написаны романы «Мадемуазель Аиссе», «Призрак музыканта» (1936), «Двуглавый воин», а также многочисленные эссе и статьи. В конце тридцатых годов Этергюн сближается с Тибетским обществом. По неизвестной причине был выслан из Германии в 1943 году. Умер в Анкаре. В произведениях Этергюна перед нами предстают своеобразие, трагизм и величие одной из самых выдающихся в мировой истории держав — Османской империи. Время действия романа «Призрак музыканта» — XIV век.Пролог
Время! Оно бушует на площадях, буйствует на полях сражений, безумствует в золоченом великолепии дворцовых залов; оно шумит в толчее богатых базаров; торжественный голос времени отчетливым эхом отдается в стенах мечетей. Время! Разумеется, мы ничего не знаем о времени. Вот оно обернулось всадником и выехало из дворцовых ворот. Всадник в кафтане, шитом золотым узором; с темно-красным тюрбаном на голове; всадник на базарной площади — это прежде всего человек своего времени. Его лицо — не его лицо, его глаза — не его глаза; лицо, глаза, одежда — все это принадлежит не ему, но времени. И люди вокруг него — люди времени — купцы, мелкие торговцы, женщины под покрывалами, ремесленники. Но вот всадник сворачивает на одну из этих узких улочек; пузатые деревянные балконы нависают над мостовой, вымощенной булыжниками, сглаженными копытами многих коней и обутыми ступнями многих прохожих. Тишина. Жара. Одиночество. Голос времени смолк. Всадник перестает быть человеком времени, всадник — это уже не время; всадник — человек. Для самого себя — он единственное воплощение себя самого, он — единственный и неповторимый, существующий вне всех времен и пространств. Он не мыслит себя воином, всадником, но — человеком. Улочка поднимается вверх. Копыта с легким гулом ударяются о мостовую. Тишина. Жара. Одиночество. Запертые ворота дома украшены широким медным кольцом. Всадник наклоняется с коня и ударяет кольцом о ворота. Властно и мерно. Ворота распахиваются, привратник почтительно сгибает спину. Всадник въехал во двор, даже не взглянув на того, кто отпер ему ворота. Спешившись, всадник бросил поводья подоспевшему конюху. — Господин… — Да… Нет… Приготовь… Не нужно!.. Ступай! Спустя час наш всадник уже сменил тюрбан на небольшую полукруглую шапочку, из-под распахнувшегося халата виднеется белая сорочка с треугольным вырезом, открывающим сильную смуглую шею — кожа чуть загрубела. Он сидит перед маленьким круглым столиком, скрестив ноги в плотных темных шароварах на кожаной подушке, и бросает в рот горсти вареного прожареного риса, потом длинными сильными пальцами разрывает жареного цыпленка. Он ест сосредоточенно, как человек, поглощенный какими-то путанными и даже немного пугающими его самого мыслями, но мыслями привычными. Сегодня у него нет никаких спешных дел, и вообще никаких дел нет. Он сам чувствует, как эта бездеятельность, осененная летней жарой, порождает в нем дурные мысли; нет, не порождает, ибо мысли эти существуют уже давно; не порождает, но развивает, взращивает, словно заботливый садовник. Вот сознание уже свыклось с этими дурными мыслями, они окрепли и расцвели, они перестали казаться дурными и воспринимаются теперь как нечто вполне естественное. Человек закладывает руки за спину, ходит по комнате, чуть приволакивая сухощавые ступни в мягких туфлях без задников. Человек приближается к окну, выходящему во двор. Во дворе — утоптанная копытами серая земля, во дворе тишина и жара. В глубине широкого двора — конюшни, дальше — темнолистные заросли папоротниковых кустов, за ними — еще строения. Человек смотрит в окно. Взгляд его минует конюшни и лиственные заросли; для того чтобы с каким-то безнадежным упорством останавливаться вновь и вновь на тех дальних строениях, замкнуто белеющих в глубине двора. Человек думает о том, что если он сейчас подойдет к двери, раскроет ее, минует прихожую и выйдет во двор, это ничего не будет значить, ничего не изменит. Человек медленно идет к двери. Уже обычным шагом проходит через прихожую. Наконец останавливается во дворе. Стоит некоторое время. Тишина и горячее солнце, казалось, поглотили его сознание. Он недвижим, он весь сосредоточился на своих ощущениях. Он чувствует, как тяжелеют пальцы опущенных рук; чувствует, как невольно сжимаются веки, чтобы солнечный жар не слепил глаза. Ему кажется, что он стоит так долго-долго. В глубине души он понимает, сознает, что это всего лишь отсрочка; что он все равно сейчас пойдет дальше. И он идет по двору. Снова шаги его медленны. Он тянет время. Проходя мимо конюшен, он чутко прислушивается. Звуки привычны и обыденны — лошади жуют, хрупают. Конюхов не слышно. Подумав о конюхах, он с отвращением принимается думать о слугах вообще, об их низменном любопытстве, о сплетнях, пыльными струйками крутящихся вокруг его дома. Эти мысли прерываются, когда он вдруг понимает, что перед ним — папоротниковые заросли. Привычное зрелище темно-зеленых листьев теперь воспринимается как что-то не совсем заурядное, даже странное. Он протягивает ладонь и ощущает какую-то терпкую шершавость — это пальцы коснулись поверхности листа. Какое-то время человек занят этими кустами. Темная вытянутость веток занимает его, мелкие бороздки покрыли каждую веточку змеиной сетью, человек различает каких-то маленьких светлокрылых насекомых, а вот муравьи тянутся по стволу. Но и это всего лишь оттяжка, отсрочка. Он знает, знает, что пойдет дальше. И он идет дальше. Делает шаг за шагом. И еще один шаг. И еще. Близятся дальние строения. Стены маленькой, почти квадратной комнаты побелены. Ярко выбелена и пустая ниша в одной из стен. Маленькое узкое оконце помещается под самым потолком; должно быть, обычно оно пропускает не так уж много света, но сегодня день такой солнечный, что в комнате совсем светло. Снаружи замерло высокое солнце, продлился полдень. В одном из углов квадратной комнаты брошен на светлые, гладко выструганные доски пестрый тюфяк. Узкая подушка смята как-то по-детски. Тонкое желтое шерстяное одеяло сиротливо скомкано. Дверь крепко заперта. В комнате удушливо несет мочой, потому что в другом углу приткнулся сосуд для известных надобностей. По этой комнате, наискосок, из угла в угол движется немолодая уже женщина. Она ходит как-то странно, шаркает босыми ногами, не отрывает ступни от пола; руки, согнутые в локтях, она держит как-то скованно перед грудью, выставив вперед сжатые кулаки. Во рту у нее видно, что не хватает нескольких зубов, от этого губы западают. Женщина худа, но кожа лица еще гладкая, а волосы, выбившиеся из-под косынки, хотя и посекшиеся, посеребреные, но хранят остатки некие былой пышности. Косынка связана удлиненными кончиками на затылке, и свободное — до щиколоток — платье и косынка — из одной и той же материи — пестрой — в цветочек, истончившейся после многократной стирки, но это дорогая ткань, называется она — «басма» и тотчас после выделки бывает плотной, даже немного жесткой. Из этой же ткани сшиты и шальвары женщины, окаймленные у щиколоток тонкими тесемчатыми полосками. Женщина смотрит прямо перед собой, лицо у нее сальное, ногти на руках и ногах длинные и нечистые. Внезапно женщина останавливается, неловко, словно механическая игрушка из тех, что изготовляют в немецком городе Нюренберге — кукла-автомат. Немного постояла. Затем той же походкой двинулась к тюфяку, села, вытянув ноги. Из-под подушки женщина вынимает обрывок тонкой бечевки, накручивает на пальцы и принимается медленно двигать пальцами, сплетая разные сочетания. Это древняя игра девочек, особенно приятная в пути, когда катится через степь крытая повозка и словно бы в такт ее движению мерно сплетаются веревочные узоры, ловко движутся детские пальцы… Но теперь у женщины это плохо получается. Женщина снова прячет бечевку под подушку. Она сидит на тюфяке, покачиваясь взад и вперед, глядя прямо перед собой, не издавая ни звука. Тишина. Жара. Одиночество. Человек подошел к запертой двери. Ему еще кажется, что он сможет повернуться и уйти, если захочет, пожелает. Но вместе с тем он твердо знает, что сейчас вынет ключ из-за пояса и отопрет дверь. Он видит себя отпирающим эту дверь, но в то же время еще сознает, что пока у него есть возможность выбора. Он еще может уйти! Если захочет, если захочет!.. Он вынул ключ. Ключ небольшой, немного заржавленный. Возможность выбора все еще остается. Он медлит, время замирает. Он пристально рассматривает ключ. Грубоватые изгибы и закругления металлической вещицы. Затем сознание словно бы отключается. Блудливо зажав рот его способности мыслить, его пальцы уже поворачивают ключ в замочной скважине. Женщина слышит, как поворачивается ключ. Скрип. Но она не обращает внимания. Он уже знает, что дверь открыта, он ее открыл. Можно войти. Но очнувшееся сознание вцепляется в его руку из последних сил. Он стоит перед дверью, осталось лишь слегка толкнуть ее. Последнее движение он ощущает, как некий решительный свой поступок. Он распахивает дверь. Ну вот, все совсем не так уж страшно, даже обыденно, ведь не в первый раз! Она сидит на тюфяке, вытянув ноги, и смотрит на него равнодушно. В сознании его мелькает оправдательная мысль — а, может быть, и она привыкла, да, конечно, привыкла, и все это стало обыденным, обычным, только вот надо таиться от слуг, потому что все они сплетники, да!.. Но тут что-то восстает из самой глуби его души. Нет, нет, нет! Все это скверно, дурно! Все это делает его безумцем, и безумие его неблагородное, грязное. Все это грозит подмять под себя его живой рассудок, сделать его таким же, как она! В это время он четко ощущает, что возможность выбора исчезла. Шаг за шагом он приближается к тюфяку. И вдруг, он сам не может понять, почему это произошло, но он возвращается к двери и останавливается, прислонившись к притолоке. Женщина по-прежнему равнодушна. Но разве она бывает иной? Он стоит, скрестив руки на груди. Затем, помолчав напряженно, начинает говорить. Он называет ее по имени. Некоторое время выжидает. Она смотрит равнодушно, словно не может узнать его. Он снова произносит ее имя, обращается к ней. Он говорит, что все произошло не по его вине. И в конце концов, он тоже имеет право на ошибки, на душевные терзания и метания! Разве нет? Она молчит. Он продолжает говорить. Разве с ней дурно обращались? Разве она сама не… Молчание. Разве она сама не виновата? Чья вина больше? А может быть, и ее? Разве он не окружил ее богатством и почетом? Ведь он требовал не так уж много взамен! Другой бы… Он всем своим существом ощущает это пустое молчание, ее молчание, ничем не заполненное, ни мыслями, ни чувствами; безмолвие одичалого безумия. Это безумие заразительно, оно захватывает. Пыльный вихрь этого безумия сминает его сознание. Вот уже исчезла потребность оправдывать, обосновывать свои действия, осталось лишь одно желание действовать. Его странным образом возбуждают этот запах стоялой мочи, это странное женское лицо — явные следы былой красоты в сочетании с этим щербатым запавшим ртом. Ее бессмысленные глаза животного. Эти нечистые ногти, уже начавшие напоминать когти; его тело, его плечи словно бы вспоминают, с какой неосознанной силой вцепляются эти когти, оставляя грязные следы… О-о-о!.. Теперь вся суть его существа направлена лишь на одно: исполнить свое желание. Пальцы нетерпеливо, поспешно развязывают пояс. Так бывало и прежде, так будет и теперь. Все колебания, мучения, сомнения — вероятно, все это всего лишь необходимая частица того наслаждения, которое он испытывает. Да, это странное наслаждение, он сам стыдится… Но когда-то давно, когда он наслаждался, как все, без этой тайны, без этого стыда, ведь тогда наслаждение не было таким острым, не было! Наконец-то он достигает последней стадии, последней фазы — это последнее — свобода! Угрызения, сомнения, колебания, мучения — все позади. Теперь он отлично понимает, что ему вовсе не нужно, чтобы она отвечала ему — словами или ласками. Нет! Ему нужно именно это странное тело безумного существа. Ему всегда нужно все это — тягостное борение с самим собой в комнате, проход по двору, после мучительных колебаний — поворот ключа в замочной скважине, попытка говорить с ней, ее молчание, подобное непонимающему тебя молчанию пустыни. И наконец — свобода и обладание. И все это обязательно должно повторяться, повторяться, повторяться — из раза в раз повторяться. Он знает, что в телесной любви он силен, но есть и поискуснее. Он сам встречал изощренных умельцев, слышал их рассказы, эти люди умеют обладать каждой частицей женского существа, извлекать наслаждение из каждой клеточки женского тела. Он в любви прост и ясен — объятия, поцелуи в губы с гибким языком, скользящим в приоткрытый женский рот; он любит ощущать себя победителем — любит чувствовать под собой содрогания женской плоти. И теперь он берет ее так, как ему привычно. Навязчивая мысль о том, что все это — совсем не то, чего хотелось бы ей, совсем не то; эта навязчивая мысль делает его еще более напористым и сильным. Она не противится. Не отвечает ему даже учащением дыхания; она словно исполняет обыденную повинность, не затрагивающую ее сознания. Но вот все кончено. Телесная суть смолкает, вновь пробуждается душа. Приходят те чувства и мысли, что приходят обычно. Отвращение. Досада на самого себя. Стыд. И самое страшное — страх — а вдруг все то, что он делает, в итоге приведет его к безумию? Вдруг отъединит от обычных людей? Вдруг он уподобится ей, и ему все будет безразлично, и постепенно он утратит, прервет все связи с внешним миром? Ведь он и теперь ведет двойную жизнь. Уже и теперь он замечает, что сделался молчаливым, все чаще замыкается в себе, общение с людьми досаждает ему. Возможно, все это — признаки надвигающегося безумия. Но он вовсе не хочет терять рассудок, уподобляться ей, не хочет. Пояс завязан. Ключ! Вот он, торчит изнутри. Не забыл запереть дверь. Еще одно доказательство того, что все эти сомнения, угрызения, метания — всего лишь условность, почти мнимость. Нет, он не безумен, ведь не забывает принимать меры предосторожности, запирает дверь изнутри. Нет, потеря рассудка не грозит ему. Вот он уже готов уйти. Обыденные заботы припоминаются. Кстати, ведь это заботы о ней! Он вернется в дом и прикажет служанке пойти к ней вечером, как обычно, накормить ужином, прибрать в комнате. Да! Он заботится о ней. Он стоял, отвернувшись. Но внезапно вздрогнул. Его огнем ожгло странное, паническое ощущение — она смотрит осмысленно! Нет, невозможно! Этого не бывало и быть не может! Нет! Прежде чем он успевает подумать, сделать хотя бы шаг, он испытывает новый приступ страха, ужаса. Но что же так пугает его в этот жаркий безмолвный день? Что такого страшного могло произойти в этой обыденной тишине большого двора? Самый заурядный звук… нет, не один звук… Вот ключ выпал из замочной скважины, с легким стуком упал на пол. И тотчас — знакомый обычный звук. Но звук этот ужасает. Это… Снаружи повернулся ключ! Но ведь этого не может быть! Ключом владеет он один! Его заперли? Что это? Страх! Панический страх! Он оборачивается и встречается глазами с ее взглядом. Осмысленный взгляд. Она смотрит на него с досадой и отвращением. Или ему просто кажется? Он не двигается. Не приближается к двери. Стоит посреди комнаты. Он безоружен. Но постепенно возвращается к нему прежняя уравновешенность. Надо подождать! Пусть первым действует тот, кто запер его! Он не ошибся! Тот, невидимый, начинает действовать. Новый поворот ключа. Отпирают дверь! Что ж, он достаточно силен телесно для того, чтобы противостоять! Дверь раскрывается медленно. И что-то странное, таинственное в этой медлительности. На пороге человек в белом тюрбане и красно-желтом шелковом халате. В руках — музыкальный инструмент — от деревянного полушария тянутся вдоль длинной деки туго натянутые струны — тамбур. В первый миг он даже не воспринял, не разглядел, какое лицо у вошедшего. Он лишь узнал одежду, инструмент, характерную посадку головы. Но мертвый не может вернуться! Разве не сам убивал? Разве не был на похоронах? И внезапно…1 ЧАМИЛ — АНАДОЛ
Бруса — место моего рождения. Здесь, в столице нашего государства — государства воинов-османов, я впервые открыл глаза и начал познавать окружающий мир. Сначала был дом, отец был, была мать, была кормилица, няня, слуги и служанки. После был город, город с чаршией — торговым кварталом, где селились мелкие ремесленники вблизи своих лавчонок. После мой мир начал расширяться. Я узнал название местности, в которой находился город. Название это звучало, как название звучной, чуть гортанной песни — Анадол. Анадол, Анадол! Анадол — моя родина. Я сижу впервые на спине смирного старого коня. Мне страшно немного. Отец сказал, что я не упаду. Отец едет позади меня. Я понимаю, что мне не должно быть страшно, но мне все равно страшно. Слуга ведет коня за повод. Я сижу в седле. Меня покачивает на ходу. — Посмотри вокруг. Не думай все время о коне. Подумай о том, что ты видишь вокруг, — это я слышу спокойный и доброжелательный голос отца. Я удивлен — откуда он знает, что я все время думаю о коне и не смотрю по сторонам? Сделаю так, как он говорит! Мне пять лет. Я широко раскрываю рот и шумно вдыхаю воздух, набираясь храбрости. Воздух очень чистый, даже вкусный какой-то. Я сосредотачиваюсь и добросовестно начинаю смотреть по сторонам. Где раньше были мои глаза? Я вижу маленькие масличные деревца, усыпанные мелкими округлыми плодами. Я вижу широкие поля. Колышутся сгустившиеся стебли. Среди желто-зеленых колосьев я замечаю яркие красные маки. Все это очень красиво! Все это — Анадол! Я ощущаю разреженность воздуха. — Почему такой воздух? — громко спрашиваю я. Оборачиваться, сидя в седле, я еще боюсь и поэтому говорю громко, чтобы отец услышал меня. — Потому что мы скоро подъедем к высокой большой горе, — отвечает отец. Дорога и вправду пошла вверх. Становится прохладно, но я тепло одет и мне только нравится, что легкий ветерок румянит жарко мои детские тугие щеки. Мы поднимаемся. Я уже вижу вдали купола и минареты моего родного города. Значит, мы уже высоко! Я не боюсь высоты. Небо голубое-голубое! Редкие белые облачка на нем видятся такими яркими и пушистыми. И вдруг мои представления о том, что такое высота, меняются. Потому что я вижу гору. Гора огромна и многоцветна. Вершина ее далеко-далеко от меня. Белая, заснеженная вершина. А сама гора, она разноцветная. Голубоватая, темная, коричневая, серая. Разная! Гора составлена, сложена из выступов и едва приметных тропок и нависающих карнизов, и крутых склонов. Гора! Белые облака тают вблизи заснеженной вершины. Отец подъезжает ко мне. — Эта гора называется Олимп! — говорит отец. — Когда-то этой землей владели эллины. Это было очень давно. Они верили, будто здесь, на горе, обитают их боги, языческие боги. Главного своего бога они звали Заном, или по-иному — Зевсом. Они представляли себе его в виде высокого полунагого человека с благородными чертами лица, обрамленного кудрявой бородой. Они верили, будто Зан сидит на вершине Олимпа на золотом троне, рядом со своим верным орлом, и повелевает громами и молниями. Я слушаю рассказ отца, вот, хотел было сказать, что слушаю, как сказку. Но нет, сказки рассказывает моя старая няня, тетушка Зухра, и в сказках — все выдумка, я знаю! А то, что рассказывает отец, оно взаправду было. Мой отец очень умный и знающий. Он улем — ученый, толкующий Коран. Отец, может быть, самый умный улем, поэтому у него есть титул — мевляна. Но другие улемы, они небогаты, а мой отец — богат, он — приближенный султана. — Эллинов победили ромеи, — продолжает отец, — и дали их богам свои имена. Потом пришли другие воинственные народы и разрушили государство ромеев, а оно было велико и обширно. Тогда наследниками ромеев сделались византийцы. А теперь эта земля принадлежит нам. Потому что мы завоевали ее силой оружия. Мы — ее хозяева и наследники. Теперь нам принадлежит ее прошлое и мы создадим ее будущее! Здесь прерывается мое воспоминание. Разумеется, я уже не помню, как мы вернулись домой. Но помню, что в моем детском воображении вместе с духами-джиннами и прекрасными пери из сказок тетушки Зухры поселились языческие боги эллинов. Иногда мне даже снился огромный Зан, играющий со своим орлом, высоко-высоко, на вершине горы Олимп! Итак, отец считал меня одним из тех, кому предстояло создать будущее этой земли. Но будущее было для меня неясным и туманным. Куда яснее было прошлое, ведь оно воплощалось так вещно, так живо. Статуи обнаженных юношей и улыбающихся девушек протягивали руки мне навстречу. За много столетий эти бедные руки были отбиты. Но юноши и девушки улыбались по-прежнему и приветливо тянулись обрубками былых стройных рук навстречу тем, кого видели перед собой. Земледельцы здесь выпахивали прямо из земли расписные черепки и целые сосуды, красно-черные, разрисованные затейливыми узорами, и с этих сосудов улыбались все те же прелестные люди — красные контуры на черном, черные — на красном. А статуи были тоже раскрашены, и на место зрачков вставлены черные камешки. Странно было то, что для тех жителей здешних мест, что поселились здесь до нас, все это оставалось таким же чуждым, отдаленным, каким могло показаться самому простому османскому воину. Я вспоминаю гору Олимп, как я шел к ее подножью. Близился день свадьбы моей дочери. Дом и двор наполнились людьми. Начались визиты с поздравлениями. Дочь, юная, счастливая, украшенная драгоценностями, в алых шальварах из тяжелого шелка, принимала подруг и родственниц. По обычаю юный жених не должен был бывать у нас. Но он все кружил верхом, поодаль от дома. И каждый день приезжал отец жениха с богатыми подарками. А предстояла еще и сама свадьба. Музыканты, трапеза, гости. Я решил проехаться за город, подальше. Я чувствовал себя немного утомленным. Спешился и ведя в поводу коня, двинулся к подножью горы. И вдруг услышал топот копыт. Меня догоняли. Я обернулся… Да, в тот день, в день той странной находки я вновь вспомнил то, о чем старался не вспоминать. Но я помню и другой Олимп — Олимп моего детства. Вот я ступаю на тропку, цепляюсь за ребристые камни, карабкаюсь. А впереди меня легко, словно горный молодой козел, несется вверх мой старший брат Хасан. Он оборачивается и его юное лицо смеется. — Чамил! Чами! — окликает он меня. Я люблю его, хочу подражать ему и потому усердно карабкаюсь по склону, забыв о страхе. Хасан был старше меня лет на пятнадцать. Он был сыном первой, старшей жены моего отца. Звали ее Пашша, она очень хорошо вышивала и учила этому мою мать. Мне нравилось иногда заглядывать в ее комнату, она всегда угощала меня сушеными фруктами, изюмом. Помню Хасана двадцатипятилетним. Он подавал большие надежды. Отец собирался сделать его улемом — ученым толкователем Корана, меня же мечтал видеть прославленным воином. И все вышло наоборот. Я тянулся к ученым книгам, а брат был увлечен воинским искусством. По характеру Хасан резко отличался от отца. Насколько отец славился своим спокойствием, уравновешенностью, умением примирять спорщиков, настолько Хасан отличался взбалмошностью, когда ему хотелось высказать свои мысли, ничто не могло остановить его. — Зачем ты это сказал? — порою спрашивал отец своего старшего сына. — Да, это тонкая и остроумная мысль, но зачем было высказывать ее вслух? Ведь все равно никто не поймет тебя. Более того, тот человек, которому ты доверил свою мысль, глуп и перетолкует твои слова тебе же во вред! Неужели так трудно сначала подумать, а после — говорить! Брат и не думал оправдываться, искренне соглашался с отцом и снова поступал по-своему. То было время, когда войска наши приблизились к землям сербов. По указанию султана воздвигли крепость. И вот однажды несколько сербских воинов подскакали к нашей крепости, хмельными голосами они выкрикивали угрозы, стреляли из луков в ворота. Когда из крепости показался наш разъезд, сербы обратились в бегство. Но как ни горячили они своих коней, наши всадники нагнали наглецов. В стычке погибло несколько наших. В то время полководец Хаджи Мехмед лежал больной, крепость поступила под начало моего брата Хасана. Он приказал углубиться в сербские земли. Разве мы не получили права на это? Поход прошел очень и очень успешно. Важен был этот поход еще и тем, что все чувствовали — сербские земли рано или поздно войдут в пределы нашей державы, так что брат мой сыграл роль, то что называется, первой ласточки. Но несмотря на такие обстоятельства, всех, конечно, поразило прибытие самого султана. Выделяясь белым пышным тюрбаном с кисточкой, украшенной жемчугом, чуть скашивая иронически черные зрачки продолговатых больших глаз, ехал султан впереди свиты. Конь под ним белый, седло и сбруя нарядные. У султана мясистые сильные губы, алеющие в чаще черной бороды, и орлиный нос. Таким видел мой брат султана Орхана. Добрались до небольшой церкви. Строение оказалось темным, приземистым. Султан сошел с коня. Пожелал войти вовнутрь. Сделал знак группе особо доверенных лиц следовать за ним. Брат отъехал немного в сторону от остальной свиты. И вдруг Орхан вскинул руку, приглашая его следовать за собой. Хасан спрыгнул со своего коня и также вошел в церковь. Внутри в церкви обреталось все, что и должно обретаться в христианских храмах. В сущности, самое интересное во всех этих церквах, конечно, разрисованные стены. Эти изображения не похожи на изображения, сделанные эллинами. Церковные росписи как-то скованны, грустны, нет в них безоглядной эллинской радости. Эта церковь также была разрисована. Все это я знаю по рассказам брата, и знаю, что особенно ему понравились изображения хрупких светловолосых девушек в белых одеяниях. Заложив руки за спину, султан оглядывал пестрые стены. Люди из свиты поглядывали на моего Хасана, ведь султан отличил его. А султан Орхан между тем вскинул руку и громко заговорил. — Отныне все это канет в небытие! — он повел рукой. — Здесь, на этих землях, родятся новые люди и новые стены! — Затем он немного повернул голову и, не обращаясь ни к кому в отдельности, коротко бросил: — Поджигай! Все поспешно покинули строение. Подскакал воин с факелом и поджег церковь. И тут (некстати, как и всегда) овладело моим братом бесовское желание высказать вслух свои мысли. Решено — сделано! Но говорить интересно, когда кто-то тебя слушает (или хотя бы делает вид, будто слушает!). Если признаться откровенно, моему брату было все равно, кто его слушает и слушает ли вообще. Лишь бы рядом находился какой-то человек. Если уж на моего Хасана найдет, человек этот немедленно, сам того не желая, сделается его доверенным. На сей раз судьба, должно быть, решила сыграть с моим старшим братом злую шутку, потому что рядом с ним оказался не кто иной, как Мукбил Челеби, первый придворный сплетник, доносчик, интриган. Вот с этим-то Мукбилом Челеби Хасан и заговорил, будто с самым ближайшим другом. — Какая нелепость, — начал Хасан, — воображать, будто что бы то ни было может кануть в небытие! Мукбил ответил взглядом, полным интереса и сопереживания. Разговор велся, разумеется, вполголоса, чтобы не услышали. Но говорить с Мукбилом Челеби, пусть даже и вполголоса, все равно, что орать на всю базарную площадь, — все все будут знать! — И эта торжествующая напыщенность! Если уж воину захотелось поджечь, разве нельзя это сделать молча и решительно? Иначе я невольно вспоминаю историю одной продажной гречанки по имени Таис. Александр Македонский взял ее с собой в поход, и она приказала поджечь великолепный дворец; кажется, она сочла прекрасных каменных быков — стражей ворот и дверей — символом деспотизма! — брат улыбнулся насмешливо. Мукбил Челеби сделал большие глаза. — И возможно ли создать, выстроить, родить нечто совершенно новое? Подобное мнение — такая же мнимость, как и пресловутое убеждение в том, что существует некое окончательное небытие! Мукбил Челеби внимательно выслушал как рассуждения о небытии, так и о возможности или невозможности рождения чего-то совершенно нового. В результате мой старший брат Хасан подвергся опале. Султан Орхан при виде его делал тоскливую и досадливую физиономию. Я полагаю, что султан Орхан вовсе не был настолько глуп или легковерен, чтобы всерьез принимать наветы Мукбила Челеби! Просто султан понял, что брат мой при всей своей храбрости человек ненадежный, эгоистичный и не знающий удержу. Ведь Хасан даже не задумался о том, кому он поверяет свои мысли, не думал о последствиях своей откровенности, спеша удовлетворить свою страсть к оригинальным монологам. Разумеется, мой отец по-прежнему пользовался уважением при султанском дворе. Он повел себя умно, но, увы, у него не хватило силы воли показать всем, будто он отвернулся от родного сына. Результатом было то, что отцу предложили назначение в Айдос, на крупную административную должность. Отцу удалось уговорить Хасана, который оставался не у дел, поехать со всеми нами. Сначала мне не очень хотелось покидать Брусу. Это был мой город у подножья моей горы! Но после я заметил, что мать даже рада предстоящему отъезду. В Айдосе жил ее отец, там остались ее сестры, мать радовалась возможности повидать своих родных. Она принялась рассказывать мне о том, что я увижу прекрасный пролив Босфор, и мне захотелось увидеть его. Я уже не так жалел о том, что покидаю мой Анадол, мой Олимп, мою Брусу. Но судьбе угодно было, чтобы, прощаясь с миром моего детства, я все же заплакал. Мы двигались медленно, целым караваном, довольно-таки пышным. Мужчины ехали верхом, женщины — в крытых повозках. В придорожных селах останавливались, меняли коней. Я то ехал на коне вместе со взрослыми, а то пересаживался в повозку к матери. В десять лет я уже хорошо держался в седле и не боялся пускать коня в галоп. Иногда мы ночевали на открытом месте. В сумеречном воздухе вдали я различал очертания моей горы — моего Олимпа! Мы разжигали костры. В те дни я впервые принял участие в охоте. Отец любил охоту, держал отличных гончих псов и славился своими соколами. Но прежде он не брал меня на охоту. Я увидел теперь совсем близко, как сидит благородная птица, чья головка прикрыта кожаным колпачком, на согнутой в локте руке сокольничего, спрятанной в большую рукавицу. Вот колпачок сдернут и сокол молниевым камнем взмывает в небо. В этих местах водились куропатки, округлые птички, местные жители почитают их символом женской верности и преданности домашнему очагу. Приятных, домашних женщин они зовут «куропатками». Надо сказать, очень вкусное жаркое получалось из этих куропаток. Служанки хлопотали у костров под надзором моей матери и Пашши, матери Хасана; звенели медные котлы и сковородки, вкусно пахло супом и жарким. И эти звуки и запахи казались какими-то странными на открытом воздухе, когда вокруг зеленела трава, а вдали голубела горная вершина. Однажды днем мы с отцом отъехали от остальных. Солнце чудесно пригревало. Мы ехали шагом и молчали. Я вскоре понял, что отец направляет своего коня к определенной цели, что-то хочет показать мне. Мы немного свернули с дороги и поехали по зеленой траве. Маслиновое деревце с тонким стволом и легкой шапкой листвы осеняло старый большой камень, выделанный в виде плиты. Плита эта была совсем старая, камень виделся каким-то изнуренным, какая-то старческая смиренная тоска ощущалась в нем. Отец спешился, за ним спешился и я. — Вот, — сказал отец, — это могила Омира[1], — и замолчал. Отец стоял, задумавшись. Кажется, ему было все равно, задам ли я ему какой-либо вопрос или же разделю его задумчивое молчание. Я рассматривал каменную плиту. Странно, что вначале я спросил о надписи на ней, а уж после — о том, кто он, этот Омир. — Что здесь написано? — тихо спросил я. — На языке эллинов здесь высечено «хайре», что означает и «прощай» и «радуйся», это слово всегда можно найти на древних эллинских надгробных плитах. — «Прощай», — заметил я, — это понятно. Ведь мертвый уходит от живых! И это как будто с ним прощаются и он тоже будто обращается к тем людям, что прочтут надпись, и прощается с ними, с каждым отдельным человеком. Но я не понимаю, почему «радуйся»? Ведь это все же могила! Кто же радуется на могиле? — Должно быть, это мертвый призывает живого: радуйся, пока живешь, радуйся жизни! А живой напутствует ушедшего: Радуйся в смерти, будь беспечален! — отец улыбнулся задумчиво. Мне все это показалось каким-то красивым, до того красивым, что глаза чуть защипало, я сжал веки, сдерживая слезы. И вот тогда-то, чтобы не заплакать, я и спросил отца: — А кто был этот Омир? — Эллинский древний музыкант и певец. Он складывал длинные песни о древних богах и славных воинах, и пел эти песни на пирах, сидя в темных залах у очага, а воины ели зажаренное мясо тучных быков, пили вино из грубо выделанных золотых чаш, а смоляные факелы горели… Как всегда, отец немногими словами нарисовал яркую картину, увлекшую мое воображение. Но ему не пришлось продолжить свой рассказ. К нам подскакал Хасан. Я увидел его улыбку и сам невольно улыбнулся. Он надул щеки и состроил мне гримасу. Я не мог не рассмеяться. Отец тоже улыбнулся, но одними глазами. — Что я вижу? — воскликнул Хасан, — погружены в ученые беседы! И ничего вокруг не видят, не замечают! Я удивился. Мне казалось, что я все вокруг прекрасно разглядел: и плиту на могиле Омира, и надпись, и деревце. И тогда я вдруг ясно осознал, что глядя на одну и ту же картину, разные люди замечают разное, это зависит от характера человека. Вроде бы это совсем просто, но приходит к тебе не сразу, как, впрочем, многое простое. — Чего же мы не видим, по-твоему? — улыбнулся отец. — Посмотрите, какие розы! И от этого возгласа брата, словно по волшебству, все переменилось. У меня явилось какое-то новое зрение. Печальная надгробная плита, одинокое деревце. Но рядом с этой плитой цвел розовый куст! Круглые нежные розовые цветы чуть светились, тонко темнели листья, шипы казались коготками изящных птиц. В одно мгновение я постиг, почему «хайре», высеченное на могильной плите, означает и «прощай» и «радуйся». И разве возможно иное? Хасан наклонился, не слезая с коня, качнулась его темная меховая шапка, он сорвал цветок. Но, конечно, укололся о шипы и, смешливо наморщившись, сунул пальцы в рот, совсем по-детски. Отец едва сдержал смех. В этой поспешности, в этой неосторожности сказывался характер Хасана. — Розы расцвели над могилой Омира, — проговорил отец. — Розы нашего Анадола! Но Хасану не было интересно узнать, кто такой Омир. Хасан оборвал стебель и заткнул цветок за ухо. И умчался, улыбающийся, быстрый, сам похожий на цветущий куст.2 ИСТОРИЯ ЗАМУЖЕСТВА ЗЕНОБИИ
Запомнился мне и конец того нашего путешествия. Вот все мы — отец, мать, Хасан, я, Пашша, вся наша челядь, стеснились под каким-то высоким деревянным навесом, укрепленным на столбах, тоже деревянных. На железных цепочках высоко подвешены большие прямоугольные фонари. Но фонари не горят, потому что день. Тут же громоздится наша поклажа. Мы ждем, когда за нами приплывут лодки, чтобы перебраться на другой берег. Я вижу много воды, по ней скользят вдали длинные, с приподнятыми носами лодки, в лодках — люди, издали кажущиеся такими маленькими. Вон виднеется заостренная башня минарета, вон какая-то стена, вся в полукруглых окнах. Видно, лодки за нами приплывут еще не скоро. Мать приказывает служанкам вынуть еду. Но отец говорит ей, что хочет показать мне кофейню[2]. Я радуюсь и принимаюсь торопить его. Дома мне не давали кофе. Мать говорила, что от этого напитка у детей кружится голова. Но теперь, если уж мы с отцом идем в кофейню, я наверняка попробую таинственную темную жидкость. Я весь поглощен этим ребяческим желанием. На время забыты Анадол, гора Олимп, мои слезы на могиле Омира. Кофе! Кофе и только он! А все же мы с Хасаном чем-то похожи; видно, был у нас в роду кто-то такой нетерпеливый. Да! Вдвоем с отцом идем в кофейню. Зал очень большой и высокий. Потолок и стены выложены пестрыми узорными плитками, от этого комната видится такой светлой и праздничной. Посреди зала — маленький плоский бассейн с фонтаном. Фонтан тоже небольшой, струи тонкие и плещут тихо. Вдоль стен тянутся длинные сплошные, покрытые коврами сидения — миндеры. Люди сидят, сняв туфли, и пьют кофе из маленьких чашек. Возле одного старика я вижу кальян. Дома у нас никто не курит кальян. Мне очень хочется подойти поближе и рассмотреть этот занимательный для меня предмет, который я прежде видел лишь издали, но я знаю, что нехорошо так открыто проявлять свое любопытство. Мы снимаем туфли и садимся на свободные места. Я оглядываюсь. Вон там готовится кофе. В маленьких металлических чашечках — джезвах. Много таких ярко начищенных сосудиков поставлено в длинной нише. Другие джезвы стоят на очаге, в каком-то мелком раскаленном песке. Над очагом — красивый навес, похожий на вытянутую треугольником башенку граненую, на каждой грани нарисована разноцветная гирлянда. Башенка опоясана круглой полкой, полка также уставлена чашками и джезвами. Склонясь над очагом, хлопочет слуга в темном кафтане и длинной, похожей на бутылку шапке. Мне все это так занятно, так интересно. Я предвкушаю вкус кофе. Меня охватывает какое-то странное щекотное наслаждение — я, невзрослый, сижу рядом со взрослыми и делаю то же, что и они, буду пить кофе. На медном подносе нам несут чашечки с темным горячим напитком, чашечки с холодной водой, душистое варенье. Я хочу взять свою чашечку, но отец, уже держа свою на уровне губ, осторожно предупреждает меня: — Пей не торопясь, по глотку. Когда впервые пробуешь кофе, он редко кому нравится. К этому напитку привыкаешь постепенно. Отец говорит так спокойно, не поучает, а будто беседует со взрослым, равным ему человеком. Он отпивает из чашечки. Я следую его примеру. Кофе горячий и горький. Очень хочется выплюнуть, но я сдерживаюсь и проглатываю. Отец отпил холодной воды, взял на маленькую позолоченую ложечку варенья. Я тоже съедаю немножко вкусного варенья и запиваю водой. Во рту уже не чувствуется горечь. Сейчас немного подожду и глотну еще кофе. Этот сложный процесс — глоток кофе, ложечка варенья, два глотка воды — совершенно поглощает мое внимание. И вдруг я слышу возглас, обращенный к моему отцу: — Кара Ибрахим! — Акча Мурад! — радостно откликается отец. Я поднимаю голову. Перед нами остановился, прижав ладонь к груди, худощавый человек, сквозь реденькую бородку просвечивает его морщинистая шея, тюрбан накручен какими-то такими витыми полосами, узкие глаза приветливо улыбаются. Странно, но я помню многих знакомых и приятелей отца, могу их описать и сегодня, хотя минуло столько лет, но как описать отца — не знаю. Он был довольно высокий, пропорционально сложенный человек с приятными чертами лица, глаза были карие, волосы и борода — темно-каштановые. Но разве это описание? Отец — это надежность, защита, отец всегда существует, всегда объяснит непонятное, придет на помощь. Таким я воспринимал его в дни своего детства. Но и это не описание! Так что уж лучше отказаться от бесплодных попыток и просто любить память об этом человеке. Отец представляет меня своему другу. — Это Чамил, мой младший сын. Я почтительно здороваюсь. Акча Мурад ласково мне отвечает. Он спрашивает о Хасане. Завязался разговор между моим отцом и его другом. Я к тому времени уже перестал быть наивным ребенком, который открыто показывает, как ему интересна беседа взрослых, жадно прислушивается и, не выдержав, задает вопросы, а взрослые принимаются гнать его от себя, опасаясь, что он разболтает их секреты. Нет, я уже не был таким. В десять лет я уже усвоил манеру, свойственную детям подобного возраста; тихо сидел, приняв равнодушный вид, опустив глаза, не произнося ни слова, и усердно занимался своим делом, то есть, прихлебывал горький темный кофе, ел варенье и запивал все это холодной водой. А на самом деле я навострил уши и жадно впитывал все, о чем говорили отец и его друг. Теперь они говорили о моем деде, отце моей матери, айдосском сановнике. Позднее я узнал, что всякий раз, когда разговор заходил об этом человеке, вспоминалось, как он женился второй раз. И теперь отец и Акча Мурад заговорили об этой истории. Акча Мурад присел рядом с нами. Ему принесли кофе. Я заметил, что он и отец уже выпили по две чашки, а я все еще возился с одной. Мне стало неловко, я покраснел, почувствовав себя самозванцем среди всех этих взрослых мужчин, привычно и с удовольствием попивавших горячий напиток. К счастью, никто не обращал на меня внимания. В сущности, и я по-своему наслаждался, если не горечью и крепостью темного кофе, то во всяком случае, сладостью варенья и занимательной беседой отца и его друга. Из этой беседы я узнал историю Зейнаб, второй жены моего деда по матери. Эта история в чем-то походила на сказку. И было вдвойне интересно слушать сказку, героями которой оказались живые люди, жившие и живущие на самом деле. Зенобия родилась в сербских землях. Отец ее владел обширными земельными наделами, которые обрабатывались зависимыми от него земледельцами. Отец Зенобии был знатного рода. Подобно всем знатным господам в сербских землях, он воздвиг укрепленный замок и жил в нем вместе с семьей. Жена его отличалась красотой. Они долго не имели детей. Наконец появился на свет долгожданный ребенок, но это оказался не сын-наследник, а всего лишь дочь. Отец, достигший уже преклонного возраста, впал в гневливое отчаяние и сгоряча приказал умертвить нежеланную девочку. Позднее меня всегда поражало, с какой легкостью, как бы невидя в подобных поступках никакого греха, сербы и греки убивают своих младенцев, если те почему-либо не угодны им, или подкидывают, бросают на произвол судьбы. К счастью, мать не исполнила зловещего приказа и тайком передала ребенка надежной кормилице. Спустя год в семье появился и сын. Тогда отец пожалел о дочери, и мать утешила его, показав ему девочку, живую и здоровую. Сыну дали имя Леко, а дочь назвали Зенобией. Дети росли и были умны, но некрасивы. Впрочем, внешность мальчика не очень тревожила родителей. А вот некрасивость девочки огорчала их. И отец и мать были уже далеко не молоды, и когда сыну минуло пятнадцать лет, а дочери шестнадцать, родители скончались почти в одно и то же время. Юный Леко унаследовал отцовские земли и замок-крепость. Ожидалось, что юноша все это потеряет, станет жертвой алчности соседей, таких же знатных и воинственных, каким был его отец. У сербов так ведется, когда хотят расширить свои владения люди знатные, они просто идут войной на соседа, иной раз даже на близкого родственника, и захватывают его земли и имущество, или же терпят поражение. Леко, несмотря на свой юный возраст, сумел отразить несколько подобных набегов и даже присоединил к своим наделам кое-какие наделы соседей. С ним стали считаться, пошла молва о его воинской доблести. Что касается Зенобии, то лет в семнадцать она вдруг начала чудесно меняться. Существует такой тип женщин, они поздно созревают, долго остаются свежими и красивыми; как правило, они высоки ростом, у них пышные волосы и сильные гибкие тела. Вот и Зенобия начала расцветать. Худая и длинная девчонка на глазах превращалась в прекрасную пышноволосую рослую юную женщину. Все, что прежде казалось некрасивым в чертах ее лица, теперь обрело некую завершенность и пропорциональность. Прежде рот казался слишком большим, но когда округлилось лицо, нельзя было отвести глаз от этих полных, изящно выпуклых губ. В округе заговорили о красоте сестры удалого Леко. Если прежде он был достаточно равнодушен к сестре, то теперь гордился ею. Она жила в крепости, как молодая властительница, в услужении у нее находились не простые служанки, но девушки благородного происхождения из обедневших знатных семей. Постепенно в характере Зенобии развились такие черты, как спесивость, заносчивость, презрение к окружающим. Многие сватались к ней, но она всем отказывала и брат ей во всем потакал. Что касается его самого, то он объявил, что женится лишь после того, как выдаст замуж сестру. Он также отличался непомерной гордостью и спесью. В конце концов стало известно, что к Зенобии решил посвататься Маркос. Этот человек был одним из самых знатных местных князей, он был царского рода. Нрав у него был самый что ни на есть буйный и разбойничий, храбростью он обладал беспредельной, жестокость его доходила до чрезвычайности. Казалось бы, при таких свойствах характера он должен был сделаться не меньше, чем победителем всех и вся и повелителем многих земель. Но ни деньги, ни имущество не держались в его руках. Он все пропивал, прогуливал, щедро одаривая своих приятелей, таких же разбойников, как и он сам. Единственным его достоянием оставалось оружие и верный конь. И вот этот-то человек и решил посвататься к Зенобии. Этот разбойник и буян, знатнейший из знатных и бедный, как церковная крыса. Хотя я никогда не понимал, отчего греки сравнивают бедняков с церковными крысами. Пожалуй, церковную крысу можно счесть достаточно состоятельной личностью, ведь в ее распоряжении — изобилие вкусного лампадного масла и множества свечных огарков. Узнав о грозящем сватовстве, Леко несколько струхнул. До сих пор судьба хранила его от каких бы то ни было столкновений с Маркосом. Да и Маркос не проявлял как будто никакого интереса к прекрасной половине рода человеческого. Сербы верят, будто в горах обитают красавицы, духи гор, покровительствующие храбрым воинам. Сербы зовут их вилами. Но вилы эти не похожи на наших нежных и гармоничных гурий и пери, вилы воинственны и жестоки. Вот приятели Маркоса и распускали слухи о том, будто ему покровительствует такая вила, она якобы заворожила его оружие и коня, сделала его неуязвимым и даже находится с ним в любовной связи. И многие верили этим небылицам. В замок Леко Маркос нагрянул неожиданно. Он объявился перед замком, затрубил в рог. Вроде бы он пришел с миром, и не опустить подъемный мост, не отпереть ворота было бы неучтиво и противно законам этой страны. Маркоса не сопровождали его воины (которых, впрочем, правильнее было бы назвать шайкой), а только двое самых близких друзей и сподвижников. Стоит и о них сказать кое-что. Реласа называли Крылатым, потому что на спине к его доспехам были прикреплены небольшие медные крылья, ярко блестевшие в солнечные дни. Павлос был по происхождению грек, кто были его родичи, никто не знал, но сам он выдавал себя за сына болгарского царя. Царь якобы тайно обвенчался с его матерью, но затем вынужден был жениться по расчету на дочери одного из своих боляр и через некоторое время скончался, так и не успев узаконить права Павлоса на болгарский престол, поэтому престол достался его сыну от второй жены. Однажды мать Павлоса в каком-то с кем-то разговоре упомянула о правах сына на царский престол. Тогда вдовая царица приказала схватить мальчика и бросить его в подземную тюрьму, что и было исполнено незамедлительно. Дверь замуровали и не давали ребенку еды. Но, когда спустя год решили посмотреть, что сталось с юным узником; оказалось, что он жив и здоров. Тогда царица приказала убить его. Но тут мальчику удалось бежать. Это свое вранье Павлос положил весьма складно на музыку и часто исполнял, подыгрывая себе на струнном инструменте, который сербы зовут гузлой; должно быть, этот инструмент ведет свое происхождение от греческой кифары. Новый болгарский царь не один раз обращался к правителю сербов, прося выдать ему Павлоса (ведь Павлос выдавал себя за ею брата и претендовал на престол!). Но царь сербов отделывался отговорками; вероятнее всего потому, что, прежде чем выдать Павлоса болгарам, надо было его поймать, а поймать его было не проще, чем поймать проливной дождь или буйный ветер. Интересно, что Павлос обзавелся сторонниками даже и в самой Болгарии. А, впрочем, что здесь удивительного? Народ вечно недоволен любым нынешним правителем и все свои надежды возлагает на будущего правителя, и, ослепленный радужной перспективой исполнения несбыточных надежд, народ порою оказывает поддержку заведомым авантюристам и самозванцам, словно бы не замечая их жестокости, вероломства и коварства. Когда я, еще ребенок, слушал всю эту историю (а слышал я ее не один раз), меня смущало то, что этот Павлос был музыкантом. Понятие «музыканта» для меня всегда соотносилось с древним Омиром. Я убеждал себя, что Павлос просто не мог быть настоящим, истинным музыкантом. Разве может настоящий музыкант добиваться такой суетной цели, как царский престол? Нет! Ведь он повелевает безграничным царством звуков и слов. Откровенно говоря, так я продолжаю думать и сейчас, прожив долгую жизнь и многое испытав. Итак, в обществе мнимого музыканта Павлоса и Крылатого Реласа Маркос объявился у стен крепости Леко. И тому ничего не осталось, как впустить не очень-то желанных гостей. Сначала они вели себя скромно и ничего не говорили о цели своего приезда. Леко также принимал их без всякого парада, как и положено принимать гостей, явившихся запросто, без свиты. Их препроводили в одну из трапезных и угостили сытным обедом, сдобренным крепким вином. После обильных возлияний Маркос заговорил об охоте с кречетами. Леко было подумал, что, слава богу, пронесло, и вести о сватовстве оказались пустыми слухами. Но когда опьяневший Маркос, пристально вглядываясь в лицо гостеприимного хозяина своими разбойничьими глазами, наглыми и мрачно-смеющимися, принялся распространяться о том, как сильный кречет камнем падает на куропатку, до Леко дошло, что весь этот разговор об охоте — обычная аллегория сватовства: куропатка — невеста, кречет — жених. Должно быть, этим греческим сравнениям научил Маркоса Павлос. Леко пришла было в голову мысль — запереть незванных гостей в трапезной и просто-напросто прикончить. Ведь в крепости было полно воинов Леко. Но тут он подумал, что его станут осуждать — это не дело — напускать на трех человек многих воинов. После этот Леко жалел о том, что не привел свой замысел в исполнение. Маркос вынул из-за пазухи золотое яблоко — свадебный знак, яблоко было выковано из чистого золота, Маркос мог себе такое позволить. Разговор пошел в открытую. — Выдай за меня замуж свою красавицу сестру! — предложил Маркос. — Породнимся, объединим наших воинов и не будет нам равных по богатству и силе! Блеск золотого яблока слепил юному Леко глаза. Но он прекрасно понимал, что на Маркоса полагаться нельзя. Ибо Маркос — человек, лишенный основательности. Все его обещания ветер! Он прокутит не только награбленное им, но и кровное имущество Леко пропьет, пустит по миру жену и детей, с которыми ему очень скоро надоест возиться. Но отказывать грубо и прямо Леко не желал. Он ответил, что не стесняет волю сестры; если она захочет, пусть соединяет свою судьбу с избранным ею человеком. Леко не сомневался в том, что сестра откажет Маркосу. А если не откажет? Ну, тогда он что-нибудь придумает! Леко решил не загадывать далеко. День выдался солнечный, ясный. Деревья золотисто светились осенней листвой. Красавица Зенобия приняла новых претендентов на ее руку в обширном внутреннем дворе. На ее пышных волосах сверкал золотой венец. Она облачилась в одно из своих самых роскошнейших одеяний — длинное платье из тяжелой, расшитой плотными золотыми нитями ткани. Две девушки-прислужницы поддерживали широкие рукава, свободно повисающие; четыре девушки удерживали длинный широкий шлейф, сияющий в солнечном свете, словно искристая переливчатая река. Красавица смотрела гордо и надменно. — Сестра, — начал Леко, — за тебя сватается благородный Маркос. Дай же ему ответ! Зенобия оставалась недвижной, словно прекрасный языческий идол. — Красавица! — Маркос слегка склонил голову. — Стань моей женой! Я знатен и смел! Я — ровня тебе, по рождению я даже выше тебя! Ты будешь подругой прославленного Маркоса, а я — супругом прекрасной Зенобии! Зенобия молчала, даже не шевельнулась. По лицу нетерпеливого жениха пробежала тень досады. — Что ж! — произнес он, сдвинув широкие темные брови. — Не желаешь выйти замуж за храбреца Маркоса, выходи за кого-нибудь из его друзей. Вот Крылатый Релас, он не уступит мне ни в смелости, ни в благородстве. Выбери его! Вот Павлос, он сын царя болгарского! И это будет достойный выбор! Маркос смолк. Зенобия смерила стоящих перед ней мужчин надменным и презрительным взглядом. Затем сделала знак своим служанкам и хотела было круто повернуться и уйти. Но Маркосом уже овладело бешенство. Стиснув зубы, он выхватил из ножен меч. Леко в ужасе замер. Павлос успел схватить Маркоса за руку, но сам грохнулся наземь, поверженный могучей дланью. Однако удар уже был смягчен; впрочем, и мягкий удар мечом, особенно, когда бьет такой умелец, каким был Маркос, может наделать много вреда. Красавица упала, обливаясь кровью, удар пришелся по лицу. Львиным прыжком отпрыгнул Леко подальше, выхватил из-за пояса рог и громко затрубил. И тотчас, словно бы из-под земли, выскочили его воины. Павлос и Релас были зарублены в мгновение ока. Маркос уложил нескольких человек, потом еще нескольких. С криком «Дорогу! Дорогу!» он пробился к конюшне, вывел своего верного коня, вскочил в седло. Конь скакнул в ров. Мост был поднят. Но верный конь огромной птицей вынес лихого всадника вверх. После этого страшного происшествия долго ни слуху ни духу не было о Маркосе. Затем он снова вроде бы объявился. Утверждали даже, что он нисколько не изменился, не постарел. А если так, я думаю, это был какой-то очередной проходимец, решивший выдать себя за известного воина. Нашлись, конечно, и такие, что выдавали себя за Павлоса и Крылатого Реласа. Несчастная Зенобия долго хворала, а когда поправилась, стала прятаться от людей. Появлялась лишь прикрыв лицо покрывалом из дорогой ткани. Лицо ее, некогда столь прекрасное, теперь обезображивал широкий плотный рубец, неприятно алеющий на нежной коже. Между тем, Леко начал подумывать о собственной женитьбе. Тут и выгодная партия представилась. Грек, правитель Айдоса, предложил ему в жены свою красивую и юную дочь, а взамен попросил руки его сестры. Несомненно, правитель Айдоса знал об уродстве Зенобии, да если бы и не знал, Леко не собирался никого обманывать. Странная была судьба у этой женщины — один посватался за нее, подчиняясь своей минутной прихоти; другой пожелал взять ее в жены тоже по прихоти и желая получить такого союзника, как Леко. Впрочем, забегая вперед, скажу, что Леко оказался плохим союзником. Когда наши воины осадили Айдос, Леко благоразумно не явился на помощь своему тестю. Этот правитель Айдоса был уже немолод, вдов и много пил. Бедной Зенобии несладко приходилось с ним. И вот… Уверяли, будто однажды ночью ей приснился странный и очень яркий сон. Ей приснилось, что она летит в пропасть и, как это всегда бывает во сне, хочет закричать и не может. Наконец страшный полет завершился. Она упала на землю, стало больно и жестко, и она потеряла сознание. А когда очнулась, боли уже не чувствовала, но мучила мысль о том, что выбраться невозможно. Внезапно перед ней явился рослый и красивый человек. Он поднял ее на руки и понес, легко скользя по отвесному склону. Потом он откинул шелковое покрывало и поцеловал ее. Они подошли к ручью, странный человек снял с молодой женщины одежду, омыл ее тело свежей водой и надел на нее новую одежду. Молодая женщина ясно, как наяву, видела его лицо. Этот сон поразил ее. Невольно она снова стала на что-то надеяться; на то, что в ее жизни могут произойти перемены. Вскоре после этого началась осада Айдоса нашими войсками. Спустя несколько дней Зенобия, стоя у башенного окна, смотрела вниз. Сражение как раз приостановилось. Айдосцы отступили, укрывшись за воротами города. Внезапно молодая женщина вздрогнула и едва не вскрикнула от изумления. Она увидела человека, приснившегося ей! Это был мой дед Абдуррахман Гази. Зенобия написала письмо на греческом языке, привязала письмо к небольшому камню, а камень — к длинному тонкому шнуру. Она хотела было спустить письмо на шнуре, но затем раздумала, ведь ее могли уличить. Тогда она просто бросила камень. И — о чудо! Камень упал прямо перед копытами коня, на котором горделиво и уверенно восседал мой будущий дед. Он спешился и поднял письмо. Абдуррахман не знал греческого и отнес письмо полководцу Акча Кодже. Тот прочел послание, начинавшееся словами: «О ты, человек, явившийся мне в сновидении!..» Далее Зенобия писала, что он должен явиться с несколькими доверенными людьми на условленное место и она откроет им ворота. — Кто же решится пойти на это таинственное свидание? — спросил Акча Коджа. — Кто же может идти, кроме меня! — Абдуррахман Гази даже изумился. — Это дело следует обделать с умом! — сказал еще один полководец — Конур Али. И вот вскоре отряды наших воинов понеслись к воротам крепости. Ударили. Айдосцы ответили. И тогда наши отступили. Причем, это отступление скорее напоминало поспешное бегство. В Айдосе воцарилось праздничное настроение. А ночью Абдуррахман Гази пришел к стенам крепости, на условленное место, указанное в письме. Его сопровождало несколько самых преданных воинов. Зенобия спустила веревочную лестницу и Абдуррахман смело поднялся в башню. Оттуда он прошел к воротам города, стража была пьяна, он отворил ворота и впустил своих воинов. Беспрепятственно они вошли во дворец, где нашли владетеля Айдоса, супруга Зенобии, пьяным. Абдуррахман Гази объявил ему, что его правление кончено. Наутро, когда к стенам города подошел с войском Акча Коджа, город уже был в руках Абдуррахмана Гази, жители сдались на милость победителя. Акча Коджа приказал Абдуррахману Гази сопровождать к султану сокровища, принадлежавшие правителю Айдоса, и прекрасную Зенобию. Абдуррахман привез сокровища и молодую женщину в Эни Шехир — тогдашнюю резиденцию султана. И султан подарил ему часть сокровищ и женщину. Абдуррахман Гази видел, что Зенобия влюблена в него. Он не мог отказать влюбленной женщине, хотя и было обезображено шрамом ее лицо. И вот он сделал ее своей женой. И они и сейчас счастливо живут в Айдосе. Эту историю, похожую на сказку, я впервые услышал тогда, в кофейне, десятилетним мальчиком. Мне очень-очень захотелось увидеть своего деда и прекрасную Зенобию (она уже давно звалась Зейнаб), героев этой сказки. Я знал, что это мое желание скоро исполнится, и с нетерпением ждал.3 СЕЛЬВИ — АЙДОС
В дом моего деда Абдуррахмана мы приехали ночью. Я был совсем сонный. Смутно припоминаю свет фонарей и ламп, суетню слуг и служанок. Я проснулся утром и сразу осознал, что я в чужом доме, на чужой постели. Почему-то у постели моей сидела мать. Впрочем, эта странность быстро разъяснилась. Оказывается, в ночь нашего приезда я простудился и несколько дней пролежал в жару и бреду. Теперь, увидев, что я очнулся, мать нежно целовала мои щеки и благодарила Бога за мое исцеление. Я был ее единственным сыном, двое других — мои братья — умерли в раннем детстве, еще до моего рождения. Мать пребывала в постоянной тревоге за меня, но обычно не показывала вида и даже мало ласкала меня, чтобы никак не выдать своего тревожно-нежного отношения ко мне. Думаю, я никогда не заслуживал подобного отношения. Ни тогда, в детстве, ни после — в юношеские и зрелые годы. Я всегда оставался спокойным, немного углубленным в свой внутренний мир, но отнюдь не настолько, чтобы считаться человеком не от мира сего. Я был лишен честолюбия. Кто знает — может быть, именно эти свойства моей натуры сделали меня довольно счастливым человеком и помогли перенести мучительное ощущение душевной боли после той странной и страшной находки… Но о том — не сейчас… позднее расскажу о том… — Очнулся, Чами? — прозвучал нежный голос матери. Я улыбнулся ей. Она коротко рассказала мне о моей болезни. Я чувствовал себя немного ослабевшим. Было приятно лежать на мягкой чистой постели, иногда потягиваться, вытягивать ноги; ощущать, как тело обретает прежнюю силу, чувствовать себя предметом нежной бережной заботы. Мать принесла мне квашеного молока и лепешку. Усадила меня, облокотила на приподнятую подушку. Я начал есть и ел с удовольствием. Мать с улыбкой смотрела на меня. Внезапно дверь распахнулась. Я подумал сначала, что это отец. Но отец никогда не входил так резко и уверенно. Шаги его были мягкими. В дверном проеме возникла женщина. Она была невысокая, нарядно одетая, но выражение ее лица, узкого, с мелкими, заостренными какими-то чертами, было неприятным, злым, напыщенным и в этой напыщенности — глупым. Она казалась вовсе не старой; может быть, даже моложе моей матери. — Мальхун! — повелительно обратилась она к моей матери. — Посади его к столу! — она указала на меня. — Пусть ест за столом! Я сразу понял, к какой категории женщин следует отнести эту. У моей матери Мальхун была в Брусе такая подруга, жена кади. У нее не было сыновей, и она постоянно делала моей матери замечания, убеждая ее горячо в том, что меня совершенно неверно воспитывают и не тому учат. Наверное, и у этой женщины нет сыновей, вот она и срывает свою досаду на тех, кто сыновей имеет. «Интересно, — подумал я, — кто эта надоеда? Гостья дедушкиных жен или какая-нибудь домоправительница…» — Мальхун! — продолжала женщина. — Ты разве не собираешься сегодня же вывести его в сад? И тут произошло чудо. Моя мать, всегда спокойная, но гордая и строгая, служанки боялись ослушаться ее, вдруг произнесла тихим голосом, кротко склонив голову: — Я еще боюсь выводить его на открытый воздух, бедный малыш, он еще так слаб! Но когда он немного окрепнет, я непременно последую вашему совету, госпожа Зейнаб! Зейнаб? Это Зейнаб? Я не верил своим ушам. Но ведь этого не может быть, просто не может — и все! Зейнаб должна быть совсем другая, другая! Я снова посмотрел на нее. На лице — никаких следов удара мечом. Ни одного, даже самого маленького шрамика! Лицо так нарумянено и набелено, что кожа давно утратила свой естественный цвет. Я пристально посмотрел, изучая ее лицо. А вдруг под этими белилами и румянами найдется хотя бы маленький шрамик — подтверждение сказки… Но нет! Обидно! Я был еще слаб, не сумел сдержаться и заплакал. — Нельзя плакать, ты огорчаешь мать! Такие большие мальчики не должны плакать! — тотчас обратилась ко мне госпожа Зейнаб. Я сделал вид, будто не слышу ее слов. Так вот почему мама почтительна донельзя с этой женщиной — ведь госпожа Зейнаб — жена моего деда по материнской линии. Теперь она оставалась его единственной женой, две старшие жены уже умерли, одна из них приходилась матерью моей маме. У госпожи Зейнаб и вправду не было сыновей. Самое забавное во всем этом, конечно, было то, что я и после много раз слышал историю о шраме и покорении Айдоса, об изумительной красавице, обезображенной по прихоти могучего воина и спасенной силой любви. Эта история сосуществовала словно бы параллельно реальной госпоже Зейнаб и ее реальной жизни. И если бы даже (я уверен!) любому очередному рассказчику этой истории показали бы госпожу Зейнаб во плоти и обвинили бы его во лжи, он в ответ мог бы спокойно пожать плечами и заявить, что не лжет ни в малой степени. Я даже полагаю, что сказочная история окажется сильнее скупых сведений о реально происходивших событиях, она переживет эти скромные и порою даже несколько косноязычные сведения и в нее будут верить много веков спустя после того, как истлеют кости госпожи Зейнаб и всех остальных действующих лиц сказки. Впоследствии я понял, что правдой было только то, что Зенобия действительно приходилась, правда не сестрой, а дочерью одному из сербских князей. Отец выдал ее замуж за правителя Айдоса, вступив с ним в союзнические отношения, которые сам после и нарушил, добровольно перейдя на сторону османов. После покорения Айдоса Зенобия стала женой Абдуррахмана Гази. Вот и все! Да, и вот еще что: Зенобия и в самом деле отличалась спесивостью и злобным неприятным нравом. В сущности, она была глупа и не сведуща ни в чем, кроме того, что непосредственно касалось ее благополучия. Я быстро поправлялся после своей недолгой простуды. Разумеется, я заметил, что матери вовсе не хочется задерживаться в доме, где распоряжается госпожа Зейнаб. Но какое-то время мы все равно должны были гостить здесь, этого требовали правила благопристойности. Отец, впрочем, уже присмотрел для нашей семьи соответственное жилище. Однажды, когда я лежал в постели, мне показалось, что дверь слегка приоткрылась, кто-то робко заглянул и тотчас спрятался. Мне стало любопытно, я сел. Но тотчас же уловил звук легких шагов. Казалось, это отбежал от двери ребенок. Я так и подумал. Значит, в доме есть дети? Мне очень захотелось познакомиться с этим ребенком, поиграть с ним. Так сложилось, что мое воспитание было домашним, я мало общался со сверстниками и мечтал о таком общении. Вскоре я услышал за дверью голоса. — Нет… нет… — смущенно произносил детский голос. — Не бойся, — убеждал мужской, старческий и надтреснутый, — Чамил — добрый мальчик, я знаю… Узнав о том, что я «добрый мальчик», я покраснел и уткнулся лицом в подушку. Было как-то странно это слышать, вот так, из-за двери. А вскоре дверь распахнулась, и в комнату явилась целая процессия. Впереди шла моя мать и ласково улыбалась мне, за ней следовала служанка с подносом, на котором я тотчас разглядел сладости и разные другие вкусные вещи; в частности, мой любимый сладкий пилав. Замыкал процессию сгорбленный хрупкий старик в домашнем распашном халате. Старик ступал, волоча ноги. Одной рукой то и дело потирая поясницу. На его лице явственно виднелась печать времени — лицо сморщилось как печеное яблоко, щербатый рот сильно запал. Это и был мой дед Абдуррахман Гази, герой сказочной истории о покорении Айдоса. Когда-то он и вправду отличался несомненной храбростью, но рослым и могучим воином, конечно, не был никогда. За руку мой дед вел девочку, примерно моего возраста. Девочка шла, опустив головку, явно стесняясь меня. Одета она была в длинное пестрое платьице, из-под которого видны были края красных шальвар, обшитые золоченой тесьмой, такую тесьму зовут «назик» — «нежность». Волосы девочки были заплетены в две длинные косы и спускались на спину. Дед подошел к моей постели, пока мать и служанка хлопотали, устанавливая поднос на столике, и ласково прошамкал: — Здравствуй, милый! Рад видеть тебя в добром здравии. Не позволишь ли ты нам разделить с тобой скромное угощение? — глаза его смотрели лукаво и по-доброму; очень черные, яркие зрачки походили на маслинки. Я в свою очередь смутился и тихо произнес: — Здравствуйте… Приблизилась мать. Дед погладил ее по голове, она улыбнулась — — Ну же, Мальхун, — сказал он, — представь меня господину Чамилу! — Чами, это твой дедушка Абдуррахман, мой отец, — мать наклонилась и оправила мне подушку. — А эта девочка — твоя тетя Сельви, ее мать — госпожа Зейнаб. — Да-а, — протянул дед, опускаясь на маленькую круглую скамеечку у столика. — Это Сельви, моя последняя радость в этой земной жизни, мое утешение! Вот дождусь ее свадьбы, а там можно и покинуть этот мир! Девочка подняла глаза и посмотрела на своего старого отца с тревожной нежностью. Меня, помню, поразила серьезность и глубина ее взгляда. Хороша она была необычайно! Прежде мне казалось, что самая красивая из всех женщин, виденных мною, моя мать. Но теперь я вынужден был признаться самому себе, что никогда еще не видел таких красавиц, как десятилетняя Сельви. Она была поистине луноликая, округлое личико и нежное-нежное, я впервые понял, почему красивое девичье лицо в любовных стихах сравнивают с луной и персиком. Какой нежной смуглотой розовели щеки Сельви. А когда ей случалось раскраснеться, румянец был точь-в-точь розовые нежные лепестки. А маленький нежный алый рот… А черные полумесяцы тонких бровей… А этот нежно округленный подбородок… А волосы, темно-темно-каштановые с чудесным шелковистым отливом… А маленькие ступни в домашних туфельках, а нежно-точеные детские еще руки… А как чудесны были ее огромные, чуть округленные глаза в длинных загнутых темных ресницах, будто живые темные шмели кротко замерли на розовых лепестках. Но я уже и тогда догадался, что эти глаза могут выражать не только нежную глубокую серьезность, но и безоглядную страсть, боль, отчаяние, тоску. Сельви стеснялась меня. Ничего не оставалось, как приняться за еду. Девочка ела совсем мало. Меня также смущал ее серьезный взгляд. Спустя некоторое время к нам присоединились Пашша, мать Хасана, и сам Хасан. Они приветливо беседовали с дедом, не обращая внимания на Сельви. Им не представили ее, значит, они уже видели ее прежде. Затем пришла госпожа Зейнаб, недолго посидела с нами, сделала несколько замечаний моей матери и, к моему огорчению, увела свою дочь. Через два дня я уже был на ногах и занялся исследованием дедушкиного дома. Я и сам понимал, что брожу по дому в надежде снова встретить Сельви. Я хорошо помнил, как она заглянула в дверь комнаты, где я лежал. Она хотела увидеть меня, познакомиться со мной. Она так же одинока, как я! Она растет в покоях своей властной матери, без сверстниц-подруг; отец, быть может, единственный близкий ей человек. А что, если она просто разочаровалась во мне и нарочно теперь избегает меня? Кроме моей матери и Сельви у деда Абдуррахмана было еще несколько сыновей и дочерей, все они уже обзавелись собственными семьями. В Айдосе жили две мои тетки. Но у госпожи Зейнаб Сельви была единственной дочерью. Госпожа Зейнаб одевала ее нарядно и изящно, пригласила учительницу грамоты; одна старая рабыня, опытная в искусстве танца, учила Сельви танцевать и красиво двигаться. Разумеется, все занятия проходили только в присутствии матери. Я начал страдать. Ко мне еще не пригласили учителей, отец отложил это на то время, когда мы поселимся в собственном доме. Он занимался покупкой дома и земли, устройством Хасана в военный гарнизон Айдоса, и редко бывал с нами, со мной и с матерью, с Пашшой. Мать проводила дни в отведенных ей комнатах, сидя с Пашшой за вышиванием. Их искусные вышивки смягчили сердце спесивой госпожи Зейнаб, она даже стала беседовать с ними, даже училась у них; а они, женщины умные, относились к ней почтительно, ведь она была хозяйкой дома. У меня было вдоволь времени для страданий. До этого я несколько раз считал себя влюбленным, то в одну служанку моей матери, то в девушку-гостью. Но с этой девочкой все было совсем иначе. В прежние мои влюбленности я гордо говорил себе, даже убеждал себя, что влюблен; влюбленность приближала меня к взрослым, сказать себе: «Я влюблен!» было все равно, что потихоньку прокрасться в комнату отца и примерить его белый нарядный тюрбан. Тюрбан слишком еще велик для моей черной, стриженной ежиком детской головы, кисточка свисает на глаза, но все равно на какой-то миг ощущаешь себя очень значительным, причастным к большой и интересной взрослой жизни. Но о моем желании видеть Сельви я никогда не осмелился бы сказать — «любовь»! Я просто страдал, не видя ее; искал ее и не понимал, почему мне так больно, и почему эта боль имеет свою сладость. Но судьбе было угодно, чтобы я на короткое время отвлекся от моего чувства к Сельви. Дед ласково пенял отцу за то, что я еще не обрезан. Отец, нежно и трепетно любивший меня, все откладывал обряд обрезания, считая, что у меня слабое здоровье, хотя и понимал, что поступает дурно. Дед убедил его в том, что в зрелом возрасте обрезание переносится тяжелее и уговорил проделать этот священный обряд, пока мы гостим в его доме. — Это будет хороший повод для праздника в вашу честь! — говорил дед. Речь шла о мужском священнодействии, и строптивая госпожа Зейнаб, часто поступавшая наперекор желаниям мужа, на этот раз не осмелилась противиться. Я был немного напуган, но и торжественно настроен. Началась подготовка к церемонии. Мыли, убирали комнаты и залы. В обширном внутреннем дворе жарко запылали жаровни-мангалы. Разнесся вкусный запах жареного мяса. В большом котле кипела жидкая халва. Помню, как собрались гости, как отец молчал и в его молчании я ощущал тревогу; как Хасан ободрял меня. — Это быстро! И совсем не так уж больно! Зато ты станешь истинным воином Пророка! — Хасан улыбнулся, смягчая улыбкой торжественность своих слов. Это действительно оказалось быстро. Но больно было. И пришлось снова лечь в постель. Сначала было даже обидно. Я лежал, мне было больно. А дом гудел весельем, играли музыканты, звучали песни, плясали танцоры. Гости ели вкусное угощение. Но потом праздник пришел ко мне. Я сидел на широкой постели, нарядный, облокотившись на подушки. Музыканты играли в моей комнате. Мне давали все самое вкусное. Каждый спешил сделать мне подарок. Деревянные игрушки, жестяные свистульки, это, конечно, не считая многих дорогих и ценных предметов, пока имевших большую ценность для моих родителей, нежели для меня самого. Стемнело. Зажгли красивые медные лампы. Решили, что мне надо отдохнуть. Комната моя вновь опустела. Полный новых впечатлений, я и сам не знал, чувствую ли я себя усталым. На какое-то время я остался один. И вдруг… Сердце радостно забилось! Я узнал эти легкие шаги! Сельви! Она вошла быстро, осторожно и робко — розовый лепесток, гонимый ароматным ветром. На узорах настенного темно-красного ковра заколебалась ее легкая тень. Мы оба молчали, стеснялись говорить. Наконец она смущенно произнесла: — Тебе больно? Трудно описать мое состояние! Разумеется, обо мне заботились мать, отец, брат, няня, но это все было так обыкновенно, даже докучно. Как передать тот восторг, который охватывает душу, когда любимое обожаемое существо проявит хотя бы тень заботы о тебе! — Нет, — тихо отвечал я. Она устремила на меня долгий взгляд, серьезный и глубокий. Затем робко приблизилась к постели и протянула мне короткую снизку голубых бус. Считается, что эти бусы помогают от сглаза. Эти голубые бусы я сохранил и ношу как браслет на запястье. Но тогда я не осмеливался протянуть руку навстречу милому подарку. Сельви положила бусы на одеяло. — Это тебе, — сказала она тихо-тихо. — Почему ты пряталась от меня? — невольно вырвалось у меня. — Ты не хотела говорить со мной? Ты не хочешь? — Нет. Я не пряталась, — она смолкла, затем еще тише произнесла. — Я хочу говорить с тобой! И убежала, заслышав издали шаги кого-то из взрослых. С тех пор я стал часто видеть Сельви. Она сделалась моим проводником по дедушкиному дому. Дом, скучный и чужой, теперь ожил, затеплился мягким теплом. Сердцем дома оказалась кухня. Просторная, с высоким потолком, сияющая блеском металлической посуды и утвари; каменным полом, чисто вымытым, добела выскобленными скамьями вдоль стен. На скамьях уютно лежали пестрые подушки и простые ковры. Очаг никогда не простаивал без дела. Готовилась горячая пища, жарились кофейные зерна, запекали сладкие плоды инжира. Служанки входили с кувшинами из внутреннего двора, где была установлена каменная плита — чешма, из которой текла струя чистой холодной воды, проведенная от лучшего колодца. Служанки переговаривались, сплетничали, напевали. Было тепло и уютно, а перехватить что-нибудь на ходу гораздо интереснее, чем сидеть вместе со взрослыми за тщательно приготовленной трапезой! Мы оба, я и Сельви, так и стремились на кухню. Оказалось, у девочки все же было свободное время, и она умела ускользнуть от бдительных глаз своей матери. Сельви по натуре была серьезной девочкой, но когда она изредка шалила, в темных глазах ее вспыхивали странные огоньки, пугавшие меня каким-то оттенком безумия. Жизнь моя обрела новый смысл — говорить с Сельви, бродить вдвоем по саду, убегать в кухню, прятаться. Нам ужасно нравилось бегать в саду наперегонки и играть в прятки. Помню, как однажды мы сидели на ступеньке деревянной садовой лестницы, приставленной к плоской крыше одного из строений в саду. Мы взобрались не так уж высоко. Это был отдаленный уголок сада, буйно разросся здесь шиповник. — Интересно было бы жить в таком домике, совсем одной, — вдруг задумчиво произнесла Сельви. Мы сидели рядом. Она натянула на растопыренные пальчики тонкую бечевку и выкраивала из бечевки странные причудливые сплетения, приговаривая тихо: «Дом… колыбель… дорога… могила…» — старинная игра маленьких девочек нашего народа. Я молчал. Вслушивался в звучание ее голоса, тихо посматривал на нее. Мне было хорошо. И ей тоже. Мы не нуждались в беседе, в обмене мыслями… Но вот отец наконец-то приобрел подходящее жилище, и мы всей семьей перебрались в наш новый дом. Я прощался с Сельви, едва сдерживая слезы. Она тоже, казалось, вот-вот заплачет. Мы утешали друг дружку — ведь все равно мы живем в одном городе, будем приходить в гости друг к другу. Так и вышло. Мы продолжали часто видеться. Миновал год. Оба мы подросли. Я стал замечать новые странные черточки в характере Сельви. Порою на нее находило какое-то желание диковатого озорства. В глазах загорались эти пугавшие меня странные огоньки безумия. Озорство ее в таких случаях оказывалось довольно странным. Например, однажды привезли мясо. Мясо собирались разделывать во внутреннем дворе. Запалили мангал. Мы вертелись поблизости, наблюдая работу взрослых. Внезапно, улучив минуту, когда мы были во дворе одни, Сельви схватила коровью ногу с сохранившейся шерстью и копытом, взяла ее на руки, как куклу, и заговорщически зашептала мне: — Эту ногу надо спасти! Надо спасти! С этими самыми своими огоньками в глазах она побежала через кухню в дом. Я — за ней. После мы выбежали в сад. Сельви принялась бегать по саду. Потом начала смеяться; и все повторяла, смеясь: — Надо спасти! Надо спасти! Я следовал за ней, хотя мне сделалось как-то не по себе. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы мы не попались на глаза дедушке Абдуррахману. Он вышел в сад, увидел меня, растерянного и немного испуганного; увидел Сельви, такую странную. На миг лицо его приобрело выражение какой-то печальной покорности судьбе. Это мгновенное выражение еще больше напугало меня, передо мной словно бы приоткрылась вся безысходность бытия взрослых, когда время надежд прошло и нельзя ничего изменить. Но тотчас же лицо дедушки сделалось спокойным и ласковым. Он осторожно приблизился к дочери, бережно взял ее за плечо. Но Сельви вывернулась каким-то резким, странно враждебным движением и снова побежала. Затем вдруг замерла. Отец снова подошел к ней. Теперь она притихла и чуть заметно дрожала. Он взял у нее из рук эту несчастную коровью ногу, она послушно отдала. Отец погладил девочку по голове и позвал за собой, она пошла. Я остался в саду один. Мне было не по себе. Я, одиннадцатилетний мальчик, пытался разобраться в своих чувствах. Эти странные состояния, периодически находившие на мою Сельви, отдаляли меня от нее. Меня смущало то, что такую ее я не мог любить, она вызывала во мне какое-то подсознательное отвращение. Но я, подверженный этому отвращению, был неприятен самому себе. Я впервые столкнулся с проблемой — следует ли пытаться изменить свою натуру, или покорно подчиниться ей. Но все же я оставался ребенком. И просто думал о том, как хорошо было бы, если бы Сельви всегда была моей чудесной Сельви, серьезной девочкой с такими нежными глазами, а не этим странным и пугающим меня диковато-озорным существом. Я не знал, как добиться этого, и в первый раз помыслил о Боге, как о подателе благ и исполнителе просьб. Мне захотелось просить Бога прямо сейчас, здесь, в саду. Но произнести свою просьбу вслух я не осмелился. Я только чуть закинул голову и робко глядел в небо, сосредоточенно и напряженно думая о Сельви и о том, что я прошу, умоляю Бога. Внезапно мне пришло в голову — а как бы отнесся к моей просьбе, к моей мольбе тот самый Зан, в которого верили эллины, будто он сидит на вершине Олимпа и повелевает громами и молниями. Но тут же я испугался — ведь это грех: сравнивать истинного Бога с языческим идолом! Я наклонил голову, сжал пальцы обеих рук и мысленно думал о моей покорности Богу, о том, что я всегда останусь грешным и виновным перед ним, и о том, чтобы он спас Сельви; мне все чаще казалось, что ей угрожает опасность. Но я устал думать обо всем этом, я никогда прежде не переживал ничего подобного, и поспешил тихо пойти домой. Помню еще один странный приступ, случившийся с моей Сельви. Мы были в доме ее отца, на кухне. Вдруг она вскочила, все с теми же огоньками в глазах, принялась скакать по скамьям, вскрикивая и размахивая руками. На меня она не обращала внимания. Я выбежал из кухни, позвал взрослых, а сам поспешно ушел. Я снова был неприятен самому себе, потому что Сельви вызывала во мне чувство отвращения, а ведь этого не должно, не должно было быть!4 ПАНАЙОТИС — МОНАСТЫРЬ
Мне исполнилось двенадцать лет. По-прежнему я учился дома, ко мне приглашали учителей, я уже читал по-гречески и по-латыни, ознакомился с книгами славян, прекрасно овладел персидским и арабским языками. Мне очень хотелось начать изучение какого-нибудь франкского языка. Отец одобрил это мое желание. — Наша держава крепнет, — говорил он, — скоро понадобятся послы во франкские страны и ученые переводчики. Следует нам знать обычаи, нравы и книги франков! У меня по-прежнему не было друзей, даже с Хасаном я виделся не так уж часто, брат служил в айдосском гарнизоне. Сельви по-прежнему оставалась моим горем и моей радостью. Я никому не рассказывал о своих чувствах к ней. В тот день я обедал у дедушки Абдуррахмана. После трапезы мы втроем, он, я и Сельви, прогуливались по саду. Я обмолвился о своем желании изучать франкские языки. — Ну, этому горю можно помочь, — улыбнулся дедушка. — Я знаю одного ученого греческого монаха, он долго жил во франкских землях. Пусть он и будет твоим учителем! — Но согласится ли он? — спросил я. — Ведь зачастую эти неверные почитают за грех само общение с нами! — Согласится, согласится, — дед махнул рукой. — Он добрый человек, мой приятель, и согласится за небольшую плату. А помнишь, Сельви, — старик обратился к дочери, — как мы проезжали мимо монастыря? — Нет, — отвечала Сельви своим обычным голосом, тихим и нежным. — Я не помню. В тот день она была моей Сельви, тихой, нежной, серьезной. — Как же не помнишь? — удивился ее отец. — Мы еще разбили шатер на поляне и провели чудесный день! Жарили ягненка на вертеле. Даже твоя мать, — он усмехнулся, — была очень даже добра и весела. — Правда, не помню, — произнесла Сельви и покраснела. «Может быть, это еще одно следствие ее странного недуга, — подумалось мне. — Может быть, бедняжка время от времени теряет память…» Снова змеей шевельнулось в глубине души ненавистное мне чувство отвращения к Сельви. Боже, неужели никогда не кончатся мои мучения?! Кто мог ответить на этот вопрос, который я даже и не мог никому задать… В один из вечеров после этого разговора в саду мы с Сельви были на кухне. Темнело. Но было еще рано зажигать лампы. Прислужницы столпились вокруг старухи, частенько захаживавшей в дом деда. Она слыла гадалкой и знахаркой, а также знала много страшных историй о духах пустыни и демонах ночи. Имя у нее было самое что ни на есть неподходящее для ее нынешнего вида — Лейла. И почему только человеку не дозволено иметь для каждого возраста новое имя? Тогда не пришлось бы сморщенную, как сушеный финик, старуху звать Лейлой! В тот вечер Лейла рассказывала о призраке музыканта. Это юноша в нарядной одежде, играющий на тамбуре. Время от времени призрак музыканта является в домах знатных османов и навлекает беду на людей, обитающих в доме. При слове «музыкант» я подумал вновь об Омире, о его могиле. Вспомнился Анадол, мой родной город Бруса, мне стало грустно. Сельви напряженно слушала старуху. Вдруг Сельви вскрикнула. Это просто дерево колыхнуло в окне листвой. Но бедная девочка, напуганная страшным рассказом, испугалась. — Перестаньте болтать! — резко обратился я к старухе. — Это все небылицы и противно воле Аллаха! — Если молодой господин не желает… — старуха примолкла. Служанки надулись. Я понимал, что им хочется слушать дальше, и вовсе не намеревался мешать им. Я только хотел увести Сельви. — Пойдем, Сельви, — я приблизился к ней. Она пошла за мной с той покорностью, какая часто бывала свойственна ей. Она дрожала. Я злился настарую Лейлу. Когда мы проходили через темные комнаты, Сельви молча и испуганно ухватилась за мою руку. В коридоре показался слабый свет. Кто-то медленно приближался к нам. Даже мне сделалось как-то не по себе. А Сельви громко и пронзительно закричала. Странная закутанная фигура двинулась быстрее. Мы оцепенели. Вот она уже перед нами, держит в руке светильник. Сельви упала ничком на ковер. Я невольно зажмурился на миг. А уже в следующее мгновение услышал голос госпожи Зейнаб, матери Сельви — — Доченька! Боже! Что с тобой? Поставив светильник, госпожа Зейнаб наклонилась над лежащей девочкой, обняла ее, помогла подняться. — Мама, — тихо проговорила Сельви. Убежать, скрыться я не догадался, и легко себе представить, что было дальше. На меня обрушился гнев госпожи Зейнаб, надо, впрочем, признать, что в чем-то она была права. — Это все из-за тебя! — кричала госпожа Зейнаб, обращаясь ко мне. — Не смей мучить мою дочь! И чтобы ноги вашей больше не было на этой проклятой кухне! Я убью этих служанок, чтобы не смели болтать глупости, пугающие детей! И как она догадалась! Госпожа Зейнаб внезапно смолкла и залилась слезами. Мне стало жаль ее. Я тихонько ушел. На следующий день я узнал, что ночью у Сельви случился странный приступ. Она разбудила весь дом пронзительными криками. Кричала, будто видит музыканта, который предрекает ей несчастье! Мать сидела у ее изголовья, уверяла, что в комнате никого нет, но Сельви кричала и плакала. Потом вскочила, заметалась, едва могли удержать ее. Бедная девочка потеряла сознание и лежит в горячке. Дед Абдуррахман и госпожа Зейнаб в страшном горе. В доме держат совет опытные лекарки. Моя мать поспешно оделась, и двое наших рабов-негров отнесли ее в крытых носилках в дом ее отца, где она оставалась весь день. К вечеру Сельви стало лучше. Мать вернулась и позвала меня. — Ты знаешь, Чами, — она казалась немного смущенной. — Лучше тебе пока не бывать в доме дедушки Абдуррахмана… — она хотела было что-то мне объяснить, но осеклась; затем решительно сказала. — Ты умный мальчик, даже и не мальчик уже, совсем почти взрослый. Сельви очень больна. Но мы все надеемся и будем надеяться на ее выздоровление. Госпожа Зейнаб думает, что общение с тобой дурно влияет на здоровье ее дочери. Госпожа Зейнаб — мать, и у нее есть свои права… — она замолчала. — Да, — сказал я. — Я все понял. Я тоже от всей души желаю Сельви здоровья и даже готов не видеть ее, если это ей поможет. Мать признательно улыбнулась мне. Что я чувствовал? Гадко было на душе. Ведь я солгал. Я притворился, будто не видеть Сельви — это для меня жертва во имя здоровья той же Сельви. А на самом деле, когда мать попросила меня не ходить в дом деда, я испытал что-то вроде облегчения. Значит, мне и самому хотелось этого? И я был рад, когда решили за меня, как бы помимо моей воли, сняли с моих отроческих плеч бремя вины и ответственности. Значит, я не люблю Сельви? Не люблю за то, что она больна? Но ведь такая нелюбовь отвратительна! Но если я не люблю, я не могу заставить себя… Значит, я такой! Пусть Бог наказывает меня! Когда-нибудь я состарюсь, буду немощным и противным, и пусть тогда я буду умирать в одиночестве и небрежении, пусть! И я вновь ощутил ту безысходность бытия, тот замкнутый круг, который ощущают взрослые. Да, я взрослел. Но невозможно постоянно грызть и мучить свою душу! Я все чаще вспоминал слова деда о пригородном монастыре, обещание договориться с монахом, который будет учить меня франкским языкам. Я и сам не знал, чего в моем желании больше, чего я, в сущности, хочу — учиться или просто хоть как-то соприкасаться с домом Сельви!.. В конце концов я решился и попросил мать напомнить деду о его обещании. Прошло недолгое время, и мать сказала мне, что я через несколько дней поеду в монастырь, отец и Хасан поедут со мной. Я заранее радовался предстоящей поездке. Мне казалось, эта поездка освежит мои мысли, прогонит уныние. И вправду чудесно было ехать шагом по берегу пролива, углубиться в лес, вдохнуть прохладный воздух, пропитанный ароматом трав и листвы. Монастырь высился на холме. Он немного напоминал крепость. А, может быть, это когда-то и была крепость. Смутно припоминаю, как нас впустили в ворота, расспросили о цели нашего приезда. Отец показал письмо моего деда Абдуррахмана для отца Анастасиоса. Оказалось, монах ушел в лес — собирать целебные травы. Нас почтительно попросили подождать. А я, в свою очередь, попросил у отца позволения немного погулять по окрестностям. Отец согласился и отпустил меня. Я бегом спустился с холма. Было хорошо ощущать свое тело в движении — сильное молодое тело. Вот я уже иду по лесу. Я не очень хорошо знаю названия растений и теперь жалею об этом. Но если этот монах Анастасиос собирает целебные травы, значит, он многое знает о растениях. Попрошу, чтобы он и этому поучил меня! Вдруг странные нежные звуки поражают мой слух. Это флейта! Как странно слышать флейту в лесу! Откуда? Тотчас вспоминаются древние божества эллинов. Они верили в лесных козлоногих юношей — сатиров. Конечно, это все язычество, но… если и вправду существуют сатиры, я почему-то не испытываю ни малейшего страха перед ними. Эллинские языческие божества всегда представлялись мне добрыми, взбалмошными и немного смешными. Я решил найти таинственную флейту. Кто же это играет? Я иду медленно. Раздвигаю осторожно ветки кустов. Наконец-то! Удивительная картина! Словно оживший рисунок с древнего эллинского кувшина! На выпуклом холмике, покрытом зеленым мхом, прижавшись спиной к стволу невысокого дерева, стоит мальчик, года на два постарше меня, лет четырнадцати. Он одет в темную короткую рубашку. Одна стройная голая нога чуть согнута в колене и выставлена вперед, на другую ногу он свободно перенес всю легкую тяжесть юного своего тела. Его лицо кажется мне странным и привлекательным. Шея у него длинная, я видел такие у эллинских статуй. Стройный нос, но кончик чуть утолщенный и от этого лицо кажется таким милым и немного смешным. Брови почти срослись на переносице. Волосы не совсем светлые, но и не темно-каштановые, немного вьющиеся. На щеках и подбородке уже пробился первый, смешной еще пух — начало будущих усов и бороды. Юноша играет на двуствольной флейте. Я видел такие, опять же на рисунках на эллинских сосудах, но не думал, что и сейчас кто-то может играть на такой флейте. Два ее ствола разведены в разные стороны, звук такой странный, тонкий, беззащитный. Я вышел из чащи кустарниковых листьев. Юноша опустил флейту. Он не боялся, просто смотрел на меня выжидающе. Я улыбнулся ему. И он улыбнулся в ответ. Странное у него все же было лицо. Когда он улыбался, глаза делались узкими, карие смешливые глаза выражали дружелюбие. Как причудливо, должно быть, перемешались в этом юноше кровь древних эллинов и кровь тех пришельцев, которых франки зовут славянами, болгарами, тюрками. Верно, были в его роду и ромеи-римляне, и сами франки. Улыбаясь, он слегка выпячивал губы. — Ты сам сделал этот инструмент? — спросил я, указывая на его флейту. — Это не настоящий, — ответил он дружелюбно. — Секрет настоящего утерян. Это я просто связал вместе две продольные флейты — вот и все. — Может быть, и Омир был когда-то таким как ты! — сказал я. — Омир был слепой, — он посмотрел на меня с любопытством. — Но не всегда же! — мне захотелось показать свои познания. — Сначала он, должно быть, был воином, и только потом, когда его ранили и он ослеп, стал певцом и музыкантом. — Возможно и такое, — миролюбиво согласился юноша. Он мне все больше нравился. Мне очень захотелось подружиться с ним. Я не стал дожидаться, пока он проявит интерес к моей скромной особе, и спросил первым: — Как твое имя? — Меня зовут Панайотис. И снова он не спросил, как же зовут меня. Но я назвался, не дожидаясь вопроса: — А меня — Чамил. Он дружески улыбнулся. — Ты здесь поблизости живешь? — снова я первым задал вопрос. — Да. — А знаешь ли ты большой монастырь? — Монастырь пресвятого архангела Михаила? Знаю. Я там живу. — Ты — монах? — я отступил на шаг. — Нет. Мать отдала меня на послушание. Но я не хочу становиться монахом. Мне просто нравится учиться у отца Анастасиоса. — Но и я хотел бы у него учиться! А правда, что он знает многие франкские наречия? — Правда! И у него есть такие франкские книги! Но если ты будешь у него учиться, ты сам увидишь! — Отец Анастасиос хоть и неверный, гяур, но приятель моего деда Абдуррахмана, — выпалил я. И тотчас пожалел об этой нечаянной фразе. Панайотис состроил гримасу. Но совсем не разозлился. И уже через несколько секунд его лицо приняло задумчивое выражение. — Прости меня, — сказал я. — Я не хотел тебя обидеть. Он пожал плечами и улыбнулся мягко. И вдруг сам предложил мне пойти с ним: — Пойдем поищем отца Анастасиоса. Хочешь? — Хочу! — я почувствовал, что краснею от удовольствия. — А как мы его найдем? — Он в лесу, собирает целебные травы. Он славный. Добрый такой и веселый. Мы пошли вместе. Я спрашивал у него названия деревьев и растений, и видел, что ему приятно отвечать мне. «Наконец-то у меня будет друг! — думал я. — Вот кому я расскажу о Сельви! Вот кто поймет меня и подаст добрый совет!» И тотчас же пришла в голову мысль: а если когда-нибудь от чего-нибудь и Панайотис изменится, как изменилась Сельви из-за своей болезни? Неужели я и его разлюблю? Меня с новой силой охватило презрение к себе самому. Я думал о том, где пролегает граница, отделяющая в одном человеке здоровье от болезни. Когда, в каких случаях можно говорить, что человек изменился настолько, что это уже и не он, а что-то совсем другое… Так мы шли и шли. И вдруг я понял, что именно сейчас могу открыть Панайотису свою тайну. — Ты… любил кого-нибудь? — осторожно начал я. — Да, — Панайотис обернулся ко мне и я был поражен серьезностью его лица и глаз. Мои собственные страдания вдруг показались мне незначительными. Панайотис умел любить совсем иначе, чем я. — Я любил одну девочку, — начал я. — Мне нравилось видеть ее, говорить с ней. Но у нее случаются какие-то странные приступы, вроде приступов безумия. Да, приступы безумия. Это отвращает меня от нее. Но я чувствую себя каким-то предателем и несправедливым человеком. — Но разве ты виновен в том, что больше не любишь ее? Не все ли равно, по какой причине ты разлюбил ее? Зачем приказывать своему сердцу? Пусть оно будет свободно! — А тебя не смутило бы такое? Не отдалило бы от любимой? — Думаю, нет, — ответил он серьезно после короткого раздумья. — А если бы она так изменилась, что это была бы уже не она? — Все равно хоть что-то, какая-то тень былого осталась бы! — А если нет? — Думаю, здесь дело в том, насколько сильна моя фантазия; смогу ли я вообразить, будто в обезумевшем существе я узнал свою прежнюю любовь… Если смогу, значит, она не изменилась. — А я вот не могу, — грустно признался я. — Должно быть, у меня бедное воображение! — Совсем не обязательно! — горячо возразил он. — Просто сила твоей фантазии, так уж получилось, направлена не на любовь, а на что-то иное. Например, на книги! Мне понравилось такое объяснение моего поведения. Панайотис показался мне очень тонко мыслящим. Так мы бродили по лесу, пока не столкнулись с тем, кого искали, с отцом Анастасиосом. Это оказался пожилой белобородый монах с большой корзиной в руке. Корзина была наполнена разными травами. Панайотис приблизился к нему и поцеловал ему руку. Монах, весь в черном, оглядывал меня и Панайотиса. Лицо у него оказалось широкоскулое и отнюдь не изобличавшее благородное происхождение, красноватое, обветренное, глаза серые. Он не походил на местных жителей. — Это Чамил, наш гость, — представил меня Панайотис. — Он приехал учиться у тебя франкским наречиям, но поскольку он считает тебя неверным, то еще не знает, захочешь ли ты учить его! — говоря все это, мой друг смеялся. Меня удивило, что Панайотис разговаривает со своим старым учителем, как со сверстником. — Что ж, — заметил монах, — возможно, юный воин Пророка и прав, именуя меня неверным. Ведь я не всегда был греком и не всегда — монахом; стало быть, изменил чему-то в своей сути. «Вот и этот толкует об изменении сути одного человека» — подумал я. — А кем же вы были, когда не были ни греком, ни монахом? — осторожно спросил я. — Я рожден франком от родителей-франков. Они дали мне имя Крэтьен. Итак, я был франком и подданным римской церкви. Я согласен учить тебя. У тебя славное лицо. — Я — внук Абдуррахмана Гази! — вспомнил я. — О, тогда я просто обязан учить тебя, и притом — бесплатно! А что, старый грешник еще жив? Много мы с ним выпили кипрского вина, а еще больше мимо рта протекло! — Дедушка жив и здоров, — сказал я. — Страшно рад этому! А Курица как поживает? — Какая курица? — разумеется, я удивился. — Какая? Госпожа Зейнаб! Разве может быть другая? — И она здорова, — я представил себе, что сказала бы госпожа Зейнаб, если бы услышала, как ее обзывают Курицей, и невольно прыснул. Кроме того, мне было странно узнать, что мой дед, по пять раз в день совершавший намаз — молитву с омовением, оказывается, когда-то пил вино! С христианином! А теперь он даже не заехал в монастырь, разбил шатер на поляне! А если недуг Сельви — наказание за его юношеское нечестие? Но тут ход моих мыслей прервался, мы вошли в ворота. Отец передал монаху письмо деда. Затем обговорили условия моего учения. Мне очень хотелось почаще встречаться с Панайотисом, и я обрадовался, узнав, что буду ездить в монастырь. — Но и я требую соблюдения одного условия, — строго сказал мой отец. — Ты, господин Анастасиос, не должен отвращать моего сына от правой веры, не должен соблазнять его. — Я не собираюсь делать это, — ответил монах. — Я буду учить вашего сына по мирским книгам. Отец согласился. На стенах монастырской приемной я увидел несколько изображений христианских святых, греки зовут их «иконами» или «образами». Отец и Хасан тоже обратили на них внимание. Наш упрямец Хасан, верный своей привычке высказывать собственные оригинальные мысли, не думая о том, не обидит ли это собеседника, сказал монаху: — Краски совсем свежие! Эти изображения написаны совсем недавно. Но ведь они не дают никакого представления о том, как изменилась жизнь на этой земле, ничего не говорят о нас, например, — Хасан повел рукой, указывая на себя и на моего отца; я стоял поодаль и потому не попал в очерченный рукой моего брата невидимый круг. — А ведь жизнь этой земли немыслима без нас, мы создаем ее заново, ее и ее людей! Разве не так? — Образа пишутся по определенному канону, — спокойно ответил отец Анастасиос. — Нарушать этот канон нельзя. Образа пишутся не для того, чтобы отразить живую жизнь, но для того, чтобы передать людям хотя бы тень божественной благости! Изображения, отражающие жизнь, совсем иные. Я видел такие в земле франков. В болгарском селении Бояна я также видел прекрасные изображения людей, но это не иконы, это другое. А, впрочем, сейчас я вам кое-что покажу. Он отворил створчатую дверцу маленького деревянного шкафа и вынул еще одну икону — совсем небольшую. Он повернул ее к нам. Панайотиса он куда-то услал и мне было немного грустно. — Вот, посмотрите! На доске была изображена совсем юная девушка. Одетая в тяжелое алое платье, подчеркивавшее хрупкость ее фигуры, девушка сидела на широком троне. Фон был темный, тревожный. На этом фоне платье девушки и ее лицо выделялись как-то тепло, нежно и тоже тревожно. Я посмотрел. Это была Сельви! Она была старше, чем в жизни, будто неведомый художник хотел представить себе, какой она станет, войдя в пору девического расцвета. — Человек, изобразивший эту девушку, считает изображение иконой святой Параскевы, но мне так не кажется. В этом изображении художник не стремится смиренно раствориться в каноне, но хочет показать именно себя, похвалиться своей любовью! — И все же это прекрасное изображение! — заметил отец. — Кто же художник? Он жив? — Это работа послушника Панайотиса. Ему четырнадцать лет. Да вы видели его. Парнишка с флейтой. — А! — отец улыбнулся. — Юный Омир! Кажется, с ним подружился мой сын. Я покраснел. Но меня поразило такое совпадение — и в сознании отца внешний вид Панайотиса соотнесся с представлением об Омире! — Они будут вместе учиться у меня, — сказал монах. — Но я надеюсь, — он с усмешкой пригладил бороду, — молодой господин Чамил не станет пытаться обращать моего послушника в свою правую веру? — Это условие будет строго соблюдаться, — серьезно ответил отец. Когда я увидел деревянную доску с портретом девушки, я чуть было не воскликнул: «Сельви!» Но сдержался. Потому что мгновенно вспомнил свою беседу с дедом и Сельви о поездке в монастырь. Панайотис, конечно, видел ее! Возможно, как раз когда дед разбил шатер на поляне, во время поездки за город! Значит, Сельви и есть… Это ее он любит! Я вспомнил, как она смутилась и уверяла, будто не помнит о поездке, о монастыре. Я даже обрадовался — стало быть, ее болезнь не зашла еще так далеко, то была не потеря памяти, но влюбленность. Я понимал Сельви. Она сказала, что не помнит, потому что не хотела говорить и слышать, как говорят другие о том месте, где она увидела того, которого полюбила! Я почему-то не сомневался, что они еще не сказали друг другу ни слова. На эту мысль меня натолкнуло изображение Сельви, сделанное Панайотисом. Такой можно изобразить ту, которой поклоняешься издали, только издали, не зная ее и предаваясь мечтам о ней. Значит, они полюбили друг друга. На миг мне стало легко: Сельви любит другого; я не предал, не оставил ее, и как прекрасно, что этот другой — такой славный, умный и добрый, и будет моим другом! Я немного обеспокоился — а что будет, когда Панайотис узнает о болезни Сельви? Но мне почему-то показалось, что это не остановит его. И в то же время какая-то легкая печаль угнездилась в моем сердце, я чувствовал себя покинутым, но, говоря откровенно, эта легкая печаль была мне даже приятна. Я самым искренним образом захотел помочь влюбленным. Я уже представлял себя в самопожертвенной роли посредника, и это тоже было мне приятно. Сначала я боялся, что отец и Хасан узнают Сельви в изображенной девушке. Но они оба не так уж часто видели ее, и обычно видели мельком. Разговор продолжился. Вскоре я заметил, что брат притих, почти ничего не говорит и то и дело смотрит на икону святой Параскевы с какой-то мрачной сосредоточенностью. Это было странно. Но тогда я не придал этому особого значения. Отец стал расспрашивать старого монаха о Панайотисе. — Родители этого юноши — болгары из Харман Кая. Отца его звали Мануил, по прозванию Кесе — «безбородый», ибо он всегда брил бороду, оставляя на лице только висячие длинные усы. Когда Эскишехирский бей отказался подчиниться султану Орхану, Кесе Мануил взял сторону Эскишехирского бея, потому, конечно, что надеялся выгадать на ссоре бея с султаном. В битве Кесе Мануил был взят в плен. Но султан сказал, что сердце не дает ему казнить такого храбреца, простил его и отпустил. Кесе Мануил сделался верным слугой султана, но веры не менял. Умер Кесе Мануил от оспы в селении Итбурну, Он оставил своей вдове вот этого мальчика и довольно богатое имущество, а также землю. Госпожа Анна, его вдова, хотела все пожертвовать нашему монастырю, но я удержал ее от этого опрометчивого поступка. Она пожертвовала лишь часть имущества, а также сделала вклад в женский монастырь святой Параскевы, куда удалилась сама. Она считала своего супруга грешником и отдала сына нам, надеясь, что он в конце концов решит принять постриг; но пока я таких склонностей за ним не замечаю. Я и не думаю, что его отец был настолько уж грешен! Не настолько, чтобы сын всю жизнь замаливал его грехи! Бедная госпожа Анна, она была добра и благочестива, но и ее уже нет в живых. Я как умею, управляю имуществом сироты, и надеюсь, когда он закончит свое учение в монастыре, то сможет жить безбедно в поместье покойного своего отца. — Мой сын говорит, что этот Панайотис — умный и добрый юноша! Он не ошибся? — спросил отец. — Нет, он не ошибся нисколько! — засмеялся монах. — Думаю, многие добрые люди захотят в будущем иметь такого друга, как Панайотис! Я смутился и отвернул голову. И тут заметил, что Хасан осторожно и с каким-то странным смущением, обычно ему не свойственным, чуть подался вперед, сидя на скамье, и коснулся кончиком указательного пальца нежной щеки девушки, изображенной на иконе.5 ЛЮБОВЬ
Отец Анастасиос выполнил свое обещание и учил меня франкским наречиям по мирским книгам. Новый чудесный мир раскрылся передо мной. Я скоро заметил, что книги франков походят на стихи и повествования арабов и персов. В чудесных историях о принцессах и рыцарях я находил много общего с поэмами о Тахире и Зухре, о Лейле и Меджнуне, о прекрасном Юсуфе и гибнущей от страсти Зулейхе. Я сказал об этом своему учителю. — У тебя острый ум, — похвалил он меня. — Да, франкские книжники многое взяли у арабов, персов, иудеев и древних эллинов. Но все же остались собою, не утратили своих собственных черт. Мы с Панайотисом жили погруженные в мир чудесных приключений, порою непристойных, порою трагических. История Тнугдала, воочию видевшего подземное царство, милые повествования о девушке на муле, о нежной любви Окассена и Николетты, похождения хитрого лиса Ренара — все так нравилось нам. Отец Анастасиос рассказывал нам о столицах франкских государств, о больших городах — Париже, Флоренции, Риме, Толедо. Он много повидал на своем веку. Он рассказывал, как учился в университетах Парижа и Болоньи. Студенты живут бедно, но весело. Однажды воспоминания так разгорячили доброго старика, что он, оглянувшись на дверь своей кельи, заговорщически подмигнув, сказал нам: — Вот погодите, я сейчас кое-что вам покажу! С этими словами он вынул из ниши в стене, где хранил свои книги, одну старинную с плотными пергаментными страницами. — Вот! Это «Кармина Бурана». В этой книге были собраны веселые песни, сочиненные франкскими студентами на латыни. Мы, Панайотис и я, листали страницы, краснели, прыскали, закусывали губу и, честно говоря, завидовали франкским студентам — они были такими свободными, к их услугам всегда находились искусные в своем ремесле блудницы (если быть совсем уж честным, это вызывало особенную нашу зависть), а мы… Ладно еще Панайотис, он сирота, и отец Анастасиос, его опекун, не станет его так уж стеснять. Но я! Куча родственников следит за каждым моим шагом и когда придет время, они и женят меня и будут направлять в жизни, и будут пользоваться моими услугами улема, а я, должно быть, стану улемом — ученым толкователем Корана. Целые дни буду проводить в мечети, а дома — жена, дети, все те же родственники — что за скука будет! Нет, надо хорошенько изучить франкские наречия. Вдруг это позволит мне сделаться посольским переводчиком? Отец Анастасиос взял из рук Панайотиса книгу, раскрыл, и запел приятным, немного дребезжащим голосом:6 ХАСАН
Разумеется, я ни на миг не усомнился в том, что мой брат не сделался неверным. Я просто о многом вспомнил, многое сопоставил, и, соответственно, многое понял. А после я просто многое узнал — от Хасана, от моей матери, а кое-что и сам домыслил. Увидев изображение Сельви, тогда, давно, когда отец Анастасиос показал нам в монастыре икону Панайотиса, мой брат влюбился в девушку. Он понял, что это портрет, и решил узнать, кто же эта девушка. Разумеется, Панайотис мог знать, кто она такая. Но спрашивать открыто Хасан, конечно же, не хотел. Он устроил всю эту ловушку со своим доверенным слугой, продажной гречанкой и ее девушками, и таким образом кое-что узнал о Сельви. Он понял, что влюбился в дочь моего деда Абдуррахмана. Он поделился со своей матерью и попросил ее посмотреть на девушку и подготовить почву для сватовства. Он слышал о болезни Сельви, но был уверен, что после замужества все ее болезненные припадки и видения пройдут. Он так и сказал матери в ответ на ее возражения, она-то не очень хотела видеть Сельви своей невесткой. Но ради единственного сына, чтобы не огорчать и не раздражать его, все же отправилась в дом моего деда. Сватать Сельви Пашша, впрочем, не стала, но внимательно понаблюдала за ней и за ее матерью. После этого Пашша решила, что девушка больна серьезно, а кроме того, избалована, изнежена. Но опять же, чтобы не огорчать сына, Пашша сказала, что по ее мнению Сельви еще рано замуж, надо чуть выждать. И тут нетерпеливый Хасан вдруг проявил какое-то мрачное терпение и упорство. И мать его поняла, что он от своего желания не отступится, но не знала, что делать. Хасану было уже за тридцать. Его мужская жизнь началась довольно поздно, лет в семнадцать-восемнадцать, с двух черных рабынь, которых ему подарила его мать, когда заметила, что сын вошел в возраст любви. Несколько раз Хасана женили на девушках из хороших семей, но характер его с возрастом делался все тяжелее, и жены покидали его, требовали развода, забирали свое приданое и уходили. Таким образом, Хасан довольствовался рабынями, которых сам покупал, да притонами в греческом квартале. На невольничьем рынке он выбирал покладистых полнотелых негритянок, быстро пресыщался и дарил их приятелям. Казалось, главным в жизни Хасана было совершенствование воинского искусства. Спустя какое-то время он выдвинулся на поле боя при взятии крепости Бига и был назначен командующим айдосским гарнизоном. Ему приходилось подолгу не бывать дома. То было время походов султана Мурада. Но Хасан не забывал Сельви. После разъярившей его истории с Панайотисом он решил, что пришло время сватовства. Он рассуждал так: на честь девушки легло пятно, ее родители должны быть благодарны человеку, который пожелает взять ее в жены; к тому же Хасан — не пустое место, но лицо значительное. И вот он отправил в дом моего деда опытную сваху. Но Абдуррахман Гази и госпожа Зейнаб решительно и твердо отказали. Они сказали, что Сельви больна и что они не желают, чтобы недуг их дочери отравлял жизнь такому человеку, как Хасан, которого они уважают за храбрость и успехи в воинском искусстве. Вскоре Хасан снова оставил город, он должен был принять участие в походе на Эдирне.7 ПЕРВЫЙ БРАК СЕЛЬВИ — ЮСУФ
Я посылал Панайотису в брусскую тюрьму съестные припасы и одежду. Посылать письма заключенным запрещалось. Сельви я так и не видел больше. Но моя мать рассказывала, что она здорова, то есть единственное проявление ее болезни — ночные припадки, когда она видит все тот же призрак музыканта, кричит, плачет. Впрочем, эти припадки случаются не так уж часто. Я готовился к отъезду в Брусу, Отец уже добился того, чтобы меня и Хасана призвали ко двору. Он предложил мне стать софта — изучающим богословие в медресе. Но я отказался, сказав, что мечтаю быть посольским переводчиком. Отец не стал спорить. В это время мы потеряли деда Абдуррахмана. После неудачного побега дочери, опозорившего ее, он все хворал. Умер он на рассвете, а до этого целую неделю уже не вставал. Утром пришли к нему и увидели его мертвым. Он умер тихо, во сне. Старого воина хоронили торжественно. Когда по городу быстрым шагом, как положено, несли носилки с его телом, а следом шли в синих траурных халатах его зятья, сыновья, внуки; многие жители Айдоса жалели о нем. Он не был злым человеком. Сельви потеряла отца, нежно любившего ее. Моя мать рассказывала, что после ее возвращения он запретил госпоже Зейнаб напоминать дочери о побеге и сам не говорил об этом. Был всегда ласков с бедной девочкой. Если бы он прожил еще какое-то время; возможно, не произошло бы то, что произошло. После смерти мужа госпожа Зейнаб повела совсем затворническую жизнь. Никого она не принимала, в гостях не бывала. Только моя мать наведывалась к ней. Целыми днями Сельви и госпожа Зейнаб перебирали и перекладывали одежду, украшения, белье столовое и постельное, посуду. Эти занятия заполняли их жизнь — проветривание, стирка, чистка — все это, думаю, в состоянии заполнить бытие женщины до отказа. Но госпожа Зейнаб была женщиной очень эгоистичной. В сущности, это однообразие тяготило ее. Ей хотелось перемен. И, как женщина недалекого ума, она, недолго подумав, пришла к выводу, что ей необходимо выдать замуж дочь. Свадьба, зять, внуки — все это казалось ей очень интересным и занятным. Кроме того, в глубине ее души теплилось желание доказать соседкам и товаркам, что она сумеет удачно выдать Сельви замуж, несмотря на болезнь Сельви и несмотря на то, что еще была свежа в памяти горожан скандальная история побега с Панайотисом. Впрочем, с мыслями и планами удачного замужества дочери госпоже Зейнаб скоро пришлось расстаться. Все свахи, которых она приглашала, ясно дали ей понять, что мало кто захочет взять Сельви в жены. Конечно, госпожа Зейнаб подумывала о Хасане. Но дед в присутствии свидетелей взял с жены клятву не выдавать дочь именно за Хасана. Дед считал, что это его долг перед моим отцом — не допустить брака Хасана с безумной Сельви. Нарушить эту клятву госпожа Зейнаб не смела. Наконец одна из свах посватала Сельви за Юсуфа — сына покойного мевляны Махмуда. Этот Юсуф жил вместе с матерью и незамужней горбатой сестрой. Женщины отличались благочестием. А что им еще оставалось? Мать Юсуфа была сухощавая, невысокого роста старушка, тонкие ее бесцветные губы всегда были как-то нарочито скорбно поджаты. Семья была среднего достатка. И все бы ничего, но Юсуф не был особенно умен. И даже хуже того. В чем-то его можно было счесть придурковатым, весьма странным. Высокий толстый чернобородый парень лет двадцати шести уже, он целые дни проводил за чтением богословских книг. Но ни пересказывать, что же там написано, ни толковать Коран он не мог. Начав говорить, он, не завершив одну фразу, начинал другую, и мог таким манером говорить довольно долго, и чем дальше, тем бессвязнее. Лицом он был неприятен — слишком круглое, одутловатое какое-то лицо, словно восковое, и вечно сальное. Ходил он странной походкой, не отрывая ног от пола, тяжело шаркая большими ступнями, упрятанными в стоптанные туфли. От него исходил тяжкий тошнотворный запах, какой часто исходит от людей, страдающих излишней полнотой. Вот какому человеку госпожа Зейнаб собралась отдать свою единственную дочь. Наблюдая жизнь, я порою задавал себе вопрос, почему матери так стремятся выдать замуж дочерей? Думаю, ими движет некое порочно-изощренное мстительное желание, чтобы юные прелестные чистые существа как можно скорее уподобились им и были бы загрязнены родами, спаньем с мужчиной, женскими болезнями. Ведь те же матери зачастую всячески оттягивают женитьбу сыновей. Впрочем, в свое время и я выдал замуж четырех своих дочерей, и матери их очень этого хотели, и дочери мои счастливы в браке. Но, должен признаться, я не питаю особой любви к женщинам. Однако все это уже не имеет отношения к истории Сельви. Моя мать пыталась отговорить госпожу Зейнаб, но та настаивала. Как многие неумные люди, госпожа Зейнаб была упряма. Мать говорила о болезни Сельви, о том, что какие-то потрясения могут привести к обострению ее болезни. Но госпожа Зейнаб и слушать не желала. Нет, нет, нет! Сельви, мол, почти совсем поправилась и только иногда видит этот ужасный призрак музыканта. — Но ведь это значит, что она все еще больна! — печалилась моя мать. Но госпожа Зейнаб закусила удила. То обстоятельство, что и сама Сельви вовсе не желает выходить замуж, особенно за Юсуфа, отнюдь не смущало госпожу Зейнаб. Сельви плакала и, кричала, а ее мать то пыталась ласково уговаривать девушку, то принималась топать ногами и бранить ее, даже угрожать. Сельви теперь чаще видела призрак музыканта, плачем и криком будила всех в доме. Но неожиданно она перестала сопротивляться, успокоилась и, казалось, напряженно чего-то ждала. А то вдруг делалась веселой, смеялась, шутила. Наступил день свадьбы. Сельви выглядела встревоженной. Прикрыв ее лицо плотным покрывалом, раскинув над ней нарядный балдахин, ее повели в находившийся неподалеку дом жениха. Были и музыканты и угощение. Госпожа Зейнаб успела обменяться колкостями с матерью Юсуфа. Наконец молодые остались одни в спальне. Свадебный ужин продолжался. Играли музыканты. И вдруг всех потряс страшный вопль. Кинулись к дверям спальни. Крик уже прекратился, сменившись стонами. Это кричал и стонал мужчина. Постучали, затем отворили дверь. Сельви, без покрывала, но одетая, сжалась в углу. На постели стонал Юсуф. Бросились к нему на помощь и увидели, что на шее его вздулась багровая неровная полоса. Стало быть, кто-то пытался задушить его! Мать Юсуфа злобно смотрела на тихо плачущую Сельви. — Кто это сделал? Кто? — спрашивали его. Наконец он нашел силы для ответа. — Призрак музыканта! Сельви кивала, плача. Оказалось, что когда молодые остались одни, и Юсуф попытался обнять молодую жену, она вырвалась и заплакала. В тот же миг откуда-то из-за занавески-ширмы появился в смутном свете медного светильника призрак — юноша с тамбуром. Он бросился на Юсуфа и принялся его душить. Юсуф закричал. Услышав шаги бегущих на помощь, призрак исчез за ширмой. Принялись выспрашивать у Юсуфа и Сельви, как выглядел призрак. Сельви ничего не отвечала, только всхлипывала, а Юсуф уверял, что это был не кто иной, как сам дьявол! Но многие решили, что призрак существовал лишь в больном воображении бедняги Юсуфа, а пыталась задушить его сама Сельви. Над госпожой Зейнаб, соединившей двух безумцев, начали посмеиваться. О первой брачной ночи нечего было и думать! Сельви попросила свою мать забрать ее из этого дома. Но госпожа Зейнаб рассердилась и зашипела на дочь, призывая ее вести себя прилично, как положено. Наконец сам Юсуф попросил увести Сельви. Ее, плачущую, увели в другую комнату. А наутро мать Юсуфа прислала служанку к госпоже Зейнаб, с настоятельной просьбой, чтобы та забрала свою дочь. Юсуф заявил, что дает Сельви развод. — Я не желаю, чтобы меня душили по ночам! И Сельви, опозоренная вновь, вернулась в родной дом. О ней сплетничал весь город. В бане, в торговых рядах, в женских покоях богатых домов перемывали косточки бедной Сельви и ее матери. Но сама Сельви, кажется, не была огорчена. Вскоре к ней вернулось спокойное ровное настроение. Она была тиха и серьезна, иногда улыбалась своей милой улыбкой. Иной раз, ночью, ей снова являлся призрак музыканта, она вскрикивала, но уже не плакала, как прежде, привыкла, должно быть, к этому видению. Когда все это случилось, Хасана не было в городе. Узнав о незадачливом браке и новом позоре Сельви, он, говорят, рассвирепел. О клятве, взятой дедом Абдуррахманом с госпожи Зейнаб, он уже знал. Да, характер брата сильно изменился по сравнению с юностью. Хасан делался все более мрачным, молчаливым и жестоким. У него даже пропало это прежнее его стремление высказывать свои мысли в любых обстоятельствах, не задумываясь о последствиях. Теперь он говорил мало, часто хмурил брови. В сущности, он был нетерпелив и раздражителен, но его раздражение и досада выплескивались в свирепости во время боевых действий. В Истанбуле его именем, говорят, пугали детей — «Вот придет Гази Хасан! (Воин Хасан)». Брат ни с кем не делился своими планами и надеждами, но любовь его к Сельви не проходила. И я чувствовал, что он продолжает надеяться. Но я не представлял себе, как он намеревается добиться своего. Поводов же для раздражения и мрачности, для свирепой ярости, жизнь бедной Сельви подавала ему предостаточно.8 НОВОЕ ПОХИЩЕНИЕ СЕЛЬВИ — ФАЗЫЛ
Это случилось вскоре после незадачливой свадьбы Сельви. В городе заговорили о шайке разбойников, орудовавшей на дороге близ леса, ведущей к монастырю архангела Михаила. Случилось несколько нападений на проезжавших торговцев. Затем крупные кражи начались и в самом городе. В бане мать узнала о том, что у нескольких ее приятельниц из местных богатых семей похищены драгоценности. Горожане заволновались. Состоятельные люди стали нанимать стражу для охраны домов. Тут-то все и случилось. Бедняга Зейнаб, еще не так давно — властная госпожа, супруга прославленного воина, пользовавшаяся всеобщим почетом и уважением, теперь утратила все прежнее. Она и сама чувствовала, что ее перестали принимать всерьез, теперь в ней видели предмет насмешек и издевательств, глупую мать сумасшедшей дочери. Уже считалось чуть ли не неприличным приглашать ее в гости, а тем более — самим бывать у нее. Она напрягала все силы, пытаясь вернуть прежнее отношение. Но ее разговоры и действия были неразумны, взбалмошны и ни кчему хорошему не приводили. В бане девушки и молодые женщины сторонились и ее и Сельви. Доверительные беседы смолкали, когда она и ее дочь приближались к щебечущей женской компании, располагавшейся, как обычно, в центре зала на тершене — мраморном возвышении, где можно было прогреться перед купанием. И после купания, когда женщины, раскрасневшиеся, похорошевшие, угощались соленьями и сладостями, госпожа Зейнаб и Сельви вынуждены были сидеть поодаль вместе со своими служанками. Только моя мать оставалась госпоже Зейнаб верным другом. И та, кажется, наконец оценила это ровное дружеское отношение. Значит, не совсем была глупа. Хасан уже перебрался в Брусу. Но когда умерла его мать Пашша, он, конечно, приехал на похороны. Первая жена моего отца скончалась от разрыва сердца. Она происходила из бедной семьи. Мой отец взял ее в жены по страстной любви, за красоту и доброту. Я думал о странности человеческого восприятия. История первого брака моего отца всегда казалась мне какой-то ирреальной. Трудно было себе представить, что отец когда-то был молодым и влюбленным, а ни меня, ни моей матери не было в его жизни, и Пашша была молодой. В детстве я совершенно не представлял себе этого. Для меня существовала наша семья только в том виде, в каком я ее узнал, — спокойный внимательный отец, мама, Хасан, молчаливая Пашша, которая так красиво вышивала и угощала меня сладким изюмом. На ее похоронах я вспомнил себя маленького. Как я изменился! Как утратил беспечность и светлый взгляд на мир. А сам мир? Нет, кажется он всегда оставался неизменным, непознаваемым, созданным и развившимся непонятно для какой цели. Это я менялся. На похоронах Хасан был очень удручен. Я не говорил с ним, чтобы не досаждать ему. А после похорон он скоро уехал обратно в Брусу. Вскоре и мне предстояло покинуть Айдос. Ужасное нелепое происшествие случилось ночью. В ворота госпожи Зейнаб постучали. Старый садовник, исправлявший также обязанности привратника, стал спрашивать, кто там. Мужской голос отвечал, что это из столицы, по срочному делу, посланные Алаэддина, старшего сына покойного деда Абдуррахмана. Привратник начал уговаривать людей, стоявших за воротами (а он понял, что там не один человек), подождать до утра. Он говорил, что не может впустить их в дом ночью, и советовал пока поехать в гостиницу — хан — у рыночной площади, где принимают постояльцев в любое время. Но стоявшие за дверью не слушали и настойчиво требовали отпереть. Они уверяли, что дело срочное и чуть ли не касается жизни и смерти Алаэддина, они называли имена его домочадцев. Только потом уже, задним числом, у нас сообразили, что узнать эти имена и подробности жизни Алаэддина было совсем не трудно, он был в Брусе известным лицом. В конце концов привратник сдался и открыл ворота. Дальше все происходило, как в сказке о разбойниках. Привратника связали и заткнули ему рот. Лица напавших были прикрыты черными платками, и он не мог разглядеть, кто эти люди. Они прошли через сад к дому. Кое-кто в доме уже успел проснуться, но никто еще не понял, что же происходит. Главарь двинулся прямо в комнату Сельви (значит, он заранее разузнал, как устроен дом). Он вошел в незапертую комнату, имея, вероятно, целью похищение Сельви. Но что-то помешало ему. Тем временем проснулись окончательно слуги и служанки, госпожа Зейнаб. Кликнули на помощь людей из соседних домов. У разбойников, судя по всему, имелся план действий, но план этот нарушился. Главарь должен был схватить Сельви. На улице ждали кони. Но главарь медлил, не выходил из комнаты девушки. Никакого шума оттуда не доносилось. Разбойников окружили, взяли их коней. Явились городские стражники. Тут же нападавшие признались, что их главаря зовут Фазылом, он привел их сюда для того, чтобы похитить Сельви. До этого они совершали кражи в городе и в окрестностях города. Госпожа Зейнаб кинулась в комнату дочери. Все остальные — за ней, и стражники. Распахнули дверь. Сельви, побледневшая и напряженная, стояла у окна. Она была одета в ночную одежду. На полу лежал главарь разбойников — Фазыл. Он истекал кровью. Кто-то вонзил ему в горло нож и тотчас вытащил. Разбойник уже был мертв. Стали спрашивать Сельви. Она отвечала довольно спокойно, хотя голос ее слегка дрожал. Она сказала, что этот человек внезапно ворвался в ее комнату и бросился к ней. Она не спала. Но даже не успела позвать на помощь. Разбойник тотчас был убит. Разумеется, ее спросили, кто же убил разбойника. Она в ответ повела себя как-то странно. Улыбнулась, но глаза ее, как всегда, оставались серьезными. О эта милая ее улыбка! Плотнее закуталась в шаль. И серьезно произнесла: — Никто. Один из стражников предложил поискать в комнате нож, ведь Фазыл несомненно был зарезан. На ноже должна была остаться кровь. Но в комнате не было ножа. Не было и под окном комнаты, в саду. Вокруг все было истоптано, потому что толпилось много людей. Когда Сельви произнесла это свое «Никто», все сочли это очередным проявлением ее безумия. Больше ее ни о чем не спрашивали. Все просто подумали, что она сама убила напавшего на нее человека. А нож спрятала. Теперь все говорили о Сельви с изумлением и с некоторой даже брезгливостью. Безумная девушка-убийца! Даже госпожа Зейнаб стала немного побаиваться ее и говорила с дочерью сдержанно и мягко. Разбойников допросили. Один из них, Якуб, показал, что был ближайшим помощником Фазыла, это подтвердили и остальные. Однажды Фазыл, Якуб и еще несколько человек из шайки отправились в греческий квартал к продажным женщинам. Там Фазыл увидел икону с изображением прекрасной девушки. Хозяйка сказала, что это безумная Сельви, дочь покойного Абдуррахмана Гази. Фазыл загорелся желанием похитить девушку. Он решил, что за нее некому будет вступиться. Мой отец решительно вмешался во все эти дела. Он строго приказал госпоже Зейнаб оставить всякие попытки выдать дочь замуж. На всякий случай он нанял стражников, теперь дом госпожи Зейнаб охранялся круглые сутки. Несколько лет тому назад отец купил прекрасный загородный дом на берегу Босфора. На лето, когда началась жара, он перевез туда мою мать и госпожу Зейнаб с дочерью. Перед отъездом в Брусу я приехал за город к отцу. Зеленые, мягко-холмистые берега, нарядные дома и дворцы столичной знати, проводившей здесь жаркие месяцы; голубое высокое небо, светло-синяя чудесная вода, скользящие по волнам белые парусные суда. Я приехал поздно вечером, когда женщины уже спали. Долго говорил с отцом, поужинал. Утром проснулся рано и решил искупаться. Я знал, что поодаль есть уединенное место на берегу у самой воды, и направился прямо туда. Но оказалось, что не один я умею рано просыпаться. Я увидел двух наших слуг с мечами. Они кого-то охраняли. Но меня они, конечно, пропустили к берегу. Чудесный свежий ветерок вызывал желание дышать полной грудью. Несмотря на ранний час, солнце уже начинало пригревать. У воды, на пестром небольшом ковре сидела госпожа Зейнаб. Я едва мог узнать ее. Она ужасно постарела. Сидела такая маленькая, сгорбленная, сухая. Она увидела меня и посмотрела как-то заискивающе. Я почтительно поздоровался с ней. Она сбивчиво заговорила о хорошей погоде, о полезности морской воды, затем о покойном Абдуррахмане и его достоинствах и благородстве его души. Тут она прослезилась, утерла слезы тонким платком, нос у нее покраснел. — А вон Сельви, — сказала она внезапно. — Вон, видите! Я посмотрел, куда она указывала. Стройная женская фигура у самой воды. Сельви стояла в отдалении и не могла слышать нас. — Как вы выросли, Чамил! — произнесла госпожа Зейнаб. — Вы очень похожи на свою мать. У вас такие же умные глаза цвета темных каштанов и благородное лицо. Я учтиво поблагодарил ее за похвалу. — Скажите, — госпожа Зейнаб посмотрела на меня с беспокойством, — вы… Вы тоже верите во все это? Я сразу понял, что она имеет в виду попытку удушения Юсуфа и смерть Фазыла. — Разумеется, Сельви не могла ничего такого сделать, — без колебаний ответил я. — А кто… — госпожа Зейнаб не договорила. Я пожал плечами. — Я все же думаю, — госпожа Зейнаб зашептала и немного подалась ко мне, — я думаю, что она… Она не помнила, что делает! И потом, она ведь защищалась, спасала себя! — Ну-у! Не будем говорить об этом, — мягко попросил я. Мне совсем не хотелось говорить о том, как Сельви пыталась задушить одного человека и убила другого. — А тот? — вдруг спросила госпожа Зейнаб. И снова я легко понял, о ком она хочет спросить. О Панайотисе. — Он в тюрьме, в Брусе, — ответил я. — Я посылаю ему одежду и съестные припасы. Я сказал это вовсе не для того, чтобы похвастаться. Просто мне показалось, что ее интересует, жив ли Панайотис и как ему живется. — Надо было… — она снова не договорила. Но по звучанию ее голоса было ясно, что это за «надо было». Надо было выдать Сельви замуж за Панайотиса. Или — надо было позволить Панайотису увезти Сельви. Госпожа Зейнаб посмотрела на меня пристально. Когда-то, в ту давнюю ночь побега Сельви, когда я все рассказал, она считала меня виновником случившегося. Теперь она, кажется, вновь считала меня виновным, но уже по иной причине — я был виновен в том, что не помог убежать Сельви и Панайотису. Такое преображение чувств госпожи Зейнаб нисколько меня не удивляло, я уже кое-что знал о людях. Должно быть, основное — это не сердиться на людей и не воображать, будто они плохи, а ты хорош; если они плохи, значит, и ты плох; и хорош ты в той же самой мере, что и они. Но все же мне показалось, что госпожа Зейнаб очень поумнела. В прежние времена она бы непременно надулась и принялась бы выражать мне свое презрение и досаду на меня. Видно было, что ей и теперь этого захотелось. Но она нашла в себе силы подумать и понять, что я не виноват. И чтобы показать мне, как она мне доверяет, она сказала: — Вы, должно быть, хотите поговорить с Сельви? Идите к ней. Я подошел к Сельви. Давно я не видел ее так близко и не говорил с ней. Она обернулась и стояла прямо против меня. Две длинные темно-каштановые косы она перекинула на грудь и, улыбаясь, теребила пушистые кончики. Как и мне, ей пошел двадцатый год. Она еще выросла. Красота ее теперь напоминала прекрасный зрелый плод, налитый свежестью, нежно алеющий румянцем среди скромной темной листвы. Она показалась мне очень спокойной, несколько замкнутой, но вовсе не безумной. В ее темных бровях, в глазах и губах проглядывала прежняя детская серьезность, эта детскость как-то трогательно соотносилась с ее высоким женским ростом и стройной пышностью ее молодого тела, облаченного в простое изящное платье зеленого цвета. Мы поздоровались. Я ожидал смущения, робости, но она была спокойна. Спокойно, дружески расспрашивала меня о моей поездке, о моих планах. Меня удивило то, что она даже намеком не упомянула о Панайотисе. Она знала, что я еду в Брусу, и не говорила о нем. Впрочем, она ведь не знала, что он в тюрьме в Брусе. Кажется, ей не сказали. Мне вдруг пришло в голову, что ей сказали, будто Панайотис уже мертв, казнен, потому она и не спрашивает о нем. Я заколебался. Сказать ей, что он жив, но в тюрьме? Или не говорить ничего? Она сейчас так спокойна. Может быть, ее судьба еще устроится. А если я скажу ей, что Панайотис жив, начнется бесплодное ожидание и даже, быть может, вернутся какие-то приступы безумия. И я решил молчать. Так мы беседовали, спокойно и дружески. И я спокойно любовался ее красотой. Я вдруг вспомнил детскую свою влюбленность, боль и радость. Все это исчезло. Теперь я любил Сельви лишь как сестру. Она сбросила маленькие летние туфельки, открыв нежные ступни. Шальвары, как в детстве, были по краю обшиты узкой тесьмой — «назик» — «нежность» — она называется. Сельви вошла в воду. Я стоял у воды и смотрел на нее. Меня внезапно поразила мысль о том, что Хасан любит ее так терпеливо. Неужели такая любовь недостойна награды? Душа деда не будет сердиться за нарушение клятвы… — Проходит жизнь, — спокойно сказала Сельви и улыбнулась. Она стояла на мелководье у самого берега, маленькие ступни скрывала вода. — Сельви, не печалься! — искренне воскликнул я. — Все еще будет хорошо! И она улыбнулась мне с такой детской открытостью, как будто была намного взрослее меня.9 ПРИ ДВОРЕ КНЯЗЯ ЛАЗАРА
В Брусе, несмотря на все перемены в моей жизни, захватившие мое воображение и душу, первые мои мысли были о Панайотисе. И я постоянно возвращался к этим мыслям. Я думал о том времени, когда мы вдвоем учились, строили планы, мечтали, беседовали, спорили, бродили по лесу и слушали отца Анастасиоса. Тогда нам казалось, что та жизнь, которой мы жили, еще не была нашей истинной жизнью, что истинная жизнь еще только ждет нас. И вот, можно сказать, что мои мечты о какой-то новой, деятельной, интересной жизни сбываются. А истинной жизнью моего друга оказалась тюрьма. А ведь он был наделен тонким умом и многими дарованиями. Эта несправедливость судьбы наводила на меня уныние. И тут же я говорил себе, что нечего винить то, что называют «судьбой». Лучше мне винить себя. Я виновен в том, что Панайотис оказался в тюрьме. Я не позволял себе никаких излишеств, хотя у меня теперь были собственные средства, ведь я стал переводчиком при дворе; мои знания, мои способности к изучению языков были оценены по достоинству. Но я предпочитал тратить деньги не на себя, а на своего друга. Покупал для него лучшие съестные припасы, одежду и белье, и посылал в тюрьму. Иной раз мне приходила в голову мысль, что я должен устроить ему побег. Или хотя бы попытаться увидеть его. Но я гнал от себя подобные мысли. Нет, нет и нет! Чего я добьюсь? Навсегда испорчу жизнь себе, а ему не помогу. Тюрьма охраняется более, чем хорошо, побег не может удаться. А если меня уличат в подготовке побега, самым малым наказанием будет удаление от двора. И что же? Снова прозябание вместо живой жизни? Но допустим наилучший вариант — побег удался и меня ни в чем не заподозрили. Но какое я имею право нарушать законность и порядок в своем государстве? Ведь не я один терплю разлуку с другом! Многие родственники и друзья заключенных разлучены с близкими. Но следует быть терпеливыми, иначе наше государство просто развалится на глазах, а сами мы превратимся в дикарей, которые поступают так, как им взбредет на ум, не задумываясь ни о каких правилах поведения в этой жизни! И чтобы избежать искушения, я даже не ходил мимо тюрьмы. То было время победоносных походов султана Мурада, преемника Орхана. Наши войска вошли в Румелию. Одна за другой сдавались крепости — Гелиболы, Бентуз, Чорлу, Хисини. У всех на устах были имена прославленных полководцев — Хаджи Илбеги, Гази Эвреноза, Гази Хасана — моего брата. Под их могучим натиском пали Диметока, Кешан, Ипсала. В это время Хасан предложил собрать христианских подростков и обучать их военному делу, обратив их в правую веру. Так и было сделано. Многие родители сами приводили своих детей, надеясь на то, что они сделают карьеру при дворе или в армии. Этих пехотинцев стали называть янычарами. Их отличительным знаком были белые тюрбаны. Из янычаров набирались потом и солаки — личная стража султана. Солаки тоже носили белые тюрбаны с воткнутыми в них перьями птиц, были вооружены луками и стрелами и всегда сопровождали султана. После взятия Эдирне султан Мурад построил в Йени Шехире имарет — заведение, где могли кормиться бедные путники, сироты, неимущие. Многие богатые люди давали деньги на содержание имаретов. А за городом была построена отшельническая обитель — завие. В Биледжике в честь взятия Эдирне воздвигли две мечети. Большую мечеть воздвигли в Бурсе. А в Каплудже султан Мурад также приказал построить имарет и медресе для обучения будущих богословов. Это приказание было скоро исполнено. Так отпраздновали победу под Эдирне. Под власть султана перешел и Ниш. Затем Караман и Конья. В битве при Карамане приняли участие войска сербского князя (его иные звали царем) Лазара. Он нарушил недавно заключенный мирный договор и в союзе с боснийцами напал на наши войска. Это, впрочем, дорого Лазару обошлось; однако он своего вероломства не оставил. Было решено отправить к Лазару посольство во главе с Эвренозом Гази, храбрым воином и далеко не глупым человеком. И должность переводчика в этом посольстве должен был исправлять я. Наконец-то начала сбываться моя мечта о путешествиях. Сначала ближние земли, а за ними последуют и дальние. (После я и вправду побывал во многих франкских городах, и часто думал при этом: и почему наши мечты не исполняются, пока мы молоды и в состоянии оценить сладость исполненной мечты? И всегда думал о Панайотисе. Другого такого друга я не обрел. Может быть, тому был виной мой тяжелый характер, чуждый легкомыслию, мое вечное стремление к поискам логики? Не знаю.) В свите Эвреноза Гази я ехал, оставив позади других всадников и повозки. Было раннее утро, только что рассвело. Эвреноз Гази решил, что мы можем поехать короткой дорогой через горный проход, в то время, как остальные поедут кружным путем. Это был очень узкий горный проход. Мы ехали гуськом, один за другим. У выхода, довольно тесного, нас ожидала засада. Было нас всего человек десять. Эвреноз Гази приказал скакать во весь опор, чтобы прорваться. В нас полетели копья неверных. Мы ответили ударами своих копий. — Берегите переводчика! — крикнул Эвреноз Гази. — Он нам еще пригодится! Так я осознал преимущества моего образования, моих знаний. Если быть откровенным, я вовсе не желал участвовать в битве, в стычке, в чем угодно, не желал! Осознание того, что я могу быть убит или сам убить кого бы то ни было, приводило меня в отчаяние. Несколько воинов окружили меня, чтобы защищать. Я видел, как Эвреноз Гази и сербский воин бились копьями. Эвреноз Гази, резко отведя руку, послал копье, оно пробило его противнику грудь и вышло через спину. Я успел увидеть оскаленный рот умирающего, кровавые пузыри в уголках губ, и отвернул лицо. Сербы, после того, как наши воины убили несколько человек, обратились в бегство. — Интересно мне увидеть, как будет изворачиваться эта старая лисица Лаз, когда мы расскажем ему о нападении его вздорных гяуров на нас, неприкосновенных послов! — заметил Эвреноз Гази. Теперь мы ехали через сербские земли. Это были земли весьма обширные. Две реки протекали на этих землях (впрочем, и теперь протекают) — Малая и Великая Морава. Мне пришлось наблюдать разлив этих рек — как настоящее море — птица не долетит до другого берега. Подданные Лазара жили — каждый в своей крепости, но являлись ко двору. Местные крестьяне очень бедны, в то время как одежда и убранство домов воевод и князей ослепляли варварским богатством. Мы приблизились у крепости Звечан к границам земель, которыми управлял зять Лазара — Вук Бранкович. Остановились и послали Вуку весть о своем прибытии. Он выехал нам навстречу. Держался он гордо, ехал в сопровождении большой свиты. Кроме Звечана, в его управлении находилось еще несколько крепостей — Приштина, Вылчитрын, Трепча. Вук заявил, что слышал о нападении на наш отряд и сожалеет об этом недоразумении. Эвреноз Гази принял это извинение. Но, разумеется, мы не верили Вуку и думали, что нападавших мог послать и он сам. Вук гордился своим древним родом и это служило постоянным источником ссор и стычек при дворе. Целью посольства было — предупредить Лазара о необходимости соблюдения тех договоров, которые он заключил с султаном Мурадом. Но уже нельзя было сомневаться в том, что никаких договоров Лазар соблюдать не намерен. Имелись сведения о том, что он собирает войска, рассылает своим союзникам, родственникам и подданным просьбы и приказы о поддержке его войск. Султан Мурад также готовился к решительной битве. Таким образом, основной целью нашего посольства становилось наблюдение за действиями Лазара. Несмотря ни на что, он оставался сильным противником и следовало понять его, то что называется, изнутри. Расскажу немного о прошлом Лазара, поскольку это может пролить некоторый свет на его характер. Родом он был из небогатой и даже не очень знатной семьи Гребляновичей. В то время Сербией правил Стефан Неманич, много содействовавший ее процветанию. По его приказанию возводились церкви и крепости, он привлекал ко двору умелых иконописцев, и церкви, расписанные при Неманиче, еще и по сей день радуют глаз. Двор Неманича, как и дворы многих неверных властителей, отличался непомерной пышностью и порочностью. Охота, пиры, кровавые ссоры — вот что составляло смысл жизни Стефана Неманича и его приближенных и вассалов. В числе прочих пороков этого правителя было и предпочтение общества мальчиков и юношей женскому обществу. В этом он, можно сказать, не знал себе равных. Его окружали юноши самых разных типов — одни носили женское платье и подражали женщинам в поведении, другие, хотя и одевались по-мужски, но также с женственной пышностью. Особенно мила была Стефану редко встречающаяся разновидность подростков, тонких в кости, смуглых и большеглазых, соединяющих в своей натуре юношескую безоглядность с девической нежностью. Маленький Лазар рано потерял родителей, отец его погиб в какой-то очередной стычке, а мать вышла замуж в дальние земли, не давала о себе знать, и о ее смерти Лазар узнал, уже став взрослым. Мальчик остался на попечении деда. Детство Лазара проходило в полуразрушенной крепости, в бедности. Его ничему не учили, потому что в Сербии презирают образованных людей. Считается, что уметь писать и читать — дело монахов. Встретить князя или воеводу, который хотя бы раз в жизни держал в руках книгу или перо, — просто невозможно. К своему духовенству они относились (и сейчас относятся) довольно странно — одновременно и презирают (ведь духовный сан несовместим с воинскими добродетелями, а воинские добродетели — это единственное, что они ценят) и боятся (потому что они дикари, язычники по самой своей природе, и опасаются, что рассерженный поп или монах может наслать на них беду). Монахи, затворившись в монастырях, пишут книги, но сами и читают эти книги. Книги эти представляют собой летописи происходящих событий или толкования Евангелия. У франков же книги — мирские, занимательные, и потому читают их многие люди. То же — у персов и арабов. Мне всегда казалось это весьма важным. Если и у нас появится много книг о любви и страстях, и книги эти будут читаемы многими, мы навсегда одолеем франков, и будущее будет принадлежать нам. Эта идея особенно ярко сложилась в моем сознании во время моего пребывания при дворе Лазара. Как мне хотелось поделиться этими своими мыслями с Панайотисом! Я чувствовал себя совсем одиноким. Несколько раз мне снилось ночью, будто мой друг здесь, со мной. Мы едем рядом вдоль речного берега. Кони наши поворачивают головы друг к другу и словно бы улыбаются. Все горести кончились, все забыто, и мы снова вместе! Я не отвожу глаз от его доброго лица, уже окаймленного темной бородкой, но все еще юного; от почти срастающихся на переносице темных бровей. Он смотрит на меня внимательно, серьезно и чуточку смешливо. Темные, чуть вьющиеся волосы выбиваются из-под маленькой темной меховой шапки. Я говорю, говорю, спешу поделиться с ним всеми своими сокровенными мыслями, всеми наблюдениями… Просыпался я, чувствуя, что подушка влажна от слез. Но вернусь к истории князя Лазара, пока оставив собственные горести и радости в стороне. Итак, маленького Лазара не учили ни читать, ни писать. Иногда его возили в ближний монастырь. Но к монахам и попам, как я уже говорил, отношение было самое дикарское, как у язычников — к своим жрецам, которых следует бояться, иначе они могут наслать беду. От слуг (впрочем, их оставалось в запустелом доме немного) Лазар научился разным порокам и грязным словам. Дед учил его спеси и презрению к простым крестьянам и беднякам. Хотя и сам жил бедно. Но ведь Гребляновичи были какого-никакого, а знатного происхождения. У деда, когда-то страстного охотника, еще оставались остатки былого великолепия — пара соколов и несколько гончих. С его легкой руки мальчик пристрастился к охоте. По возвращении с охоты начиналось беспробудное вечернее пьянство. Если не удавалось залучить к себе кого-нибудь из соседей, старик пьянствовал со слугами. Он поил и мальчика, забавляясь, когда тому делалось худо от выпитого. Дед Лазара отличался беспечностью и не думал о будущности внука. Но мальчик рос. И глядя на его расцвет, старик все чаще вспоминал известное ему пристрастие правителя Стефана. Старик воображал себе, что вот он при дворе, его почитают и даже побаиваются, и все это благодаря красоте и очарованию внука. Но, очнувшись от этих мечтаний, он снова видел себя в грязной рубахе, на грязном запустелом дворе, в покоях, где с потолка сыпалась штукатурка, а в иных потолок уже успел рухнуть. Наконец старик решился. Лазару уже минуло двенадцать. Утром дед приказал слуге принести свежей воды из колодца и сам принялся умывать внука. Неуклюжими пальцами он оттирал застарелые полосы грязи. Мальчик жмурился, вертелся, жаловался на боль. Но вот и его чистое лицо, раскрасневшееся, продолговатое, с большими темными глазами, нежное и в то же время юношественное. И сам он тонкий в кости, но видно, что эти тонкие мускулы сильны. Мечтания воскресли с новой силой. Старик велел мальчику одеться в чистое. Холщовая рубашка оказалась с прорехой под мышкой, кожаные штаны изношены, короткий кафтан узок в плечах. Но это было еще не самое страшное. Ведь никаких связей, никакой протекции при дворе старик не имел. В городе ему даже негде было остановиться. Не было и денег — заплатить за ночлег. Старик свел дружбу со стражниками у городских ворот. Они давали поесть и позволяли ночевать в караульном помещении. Но расплачиваться за это приходилось Лазару, ибо стражники отличались тем же пристрастием, что и правитель Стефан. Прошло несколько дней, а старик так и не придумал, как ему оказаться вместе с внуком при дворе. Он знал, что не только он, но и люди богатые, охотно пристроят своих сыновей к Стефану и будут всячески стараться не допускать к нему чужих мальчиков. Лазар не испытывал особого удовольствия, угождая стражникам. Они, случалось, ссорились из-за него. Однажды свидетелем такой ссоры стал один из приближенных Стефана. Въезжая в ворота, он разглядел подростка, которого тянули — каждый к себе — двое стражников, осыпая друг друга грубой непристойной бранью. Мальчику, должно быть, было больно, он вскрикивал и отбивался. Приближенный правителя подъехал поближе и удивился красоте мальчика. Как раз в это самое время родственники очередного фаворита Стефана взяли при дворе большую силу. Но этот парнишка, судя по всему безродный бедняк; конечно, завладеет сердцем правителя и тот удалит от себя многих… Всадник сделал повелительный знак стражникам отпустить подростка и приказал ему: — Ступай за мной! Во дворце он расспросил мальчика, затем выслал со слугой немного денег для деда. Старика уведомили о том, что благородный господин оставляет его внука при себе, и велели ехать домой. Неизвестно, что собирался предпринять дед Лазара, потому что ночью его нашли мертвым за воротами города. Умный приближенный Стефана не желал, чтобы исполнению его планов мешали абсолютно ненужные ему люди. На смерть старика никто не обратил внимания. Полагали, что он погиб в какой-нибудь пьяной драке, какие вспыхивали здесь ежедневно во множестве. А Лазар, зажив новой жизнью, не печалился о деде. Лазара представили Стефану и все вышло, как задумывалось. Красота мальчика покорила правителя. Лазар сделался его единственным фаворитом. Сначала Лазар был послушным орудием в руках того придворного, который представил его Стефану. Но с возрастом Лазар осознал свою силу и сам выучился интриговать. Многие князья и воеводы, более дальновидные, отлично понимали, что этот юноша, властный, спесивый, капризный, как все фавориты подобного рода, беспечный и страстно любящий всевозможные удовольствия, угрожает гибелью царству. Несколько раз его пытались убить, но заговорщики были схвачены, кто-то из своих же их и предал, и казнены со всей жестокостью. Но, несмотря на всю свою власть над сердцем Стефана, Лазар ощущал себя во дворце чужаком, красивой игрушкой, которую бросят, едва пресытятся ею. Кроме того, он боялся, что после смерти Стефана разом утратит все! На пирах Лазар всегда служил Стефану виночерпием. Со времен эллина Ксенофонта с его «Киропедией» — историей воспитания древнего персидского царя Кира — всем известно, кого называют «виночерпиями», кто бывает виночерпием — мальчик-любовник. Обдумав свое положение, Лазар пришел к выводу, что только выгодная женитьба поможет ему удержаться на той ступени лестницы бытия, куда он успел вскарабкаться. Он даже уже выбрал себе девушку, на которой собирался жениться. К желанной свадьбе вели две дороги — первая — влюбить в себя девушку, похитить ее, сделать так, чтобы ему уже не могли отказать. Но этот вариант исключался — девушка, которую Лазар выбрал, и смотреть бы не захотела на парня-любовника, пусть даже и царского! Тогда оставалась вторая дорога — улестить царя, чтобы тот сам стал Лазару сватом. Эту дорогу Лазар выбрал и сумел добиться своего. Все было подготовлено и удалось даже лучше, чем мечталось Лазару. На царский пир было приглашено много вассалов, в основном это были те, что часто противопоставляли свое мнение царским решениям. Этот пир запомнился, и еще много лет спустя его помнили под названием «Пир непокорных». Лазар, как обычно, наливал вино из кувшина в золотую чашу и подавал Стефану. Все заметили, что в тот вечер Лазар был неулыбчив, выглядел обиженным, то и дело надувал свои красивые губы. Царь, напротив, поглядывал на своего любимца с доброй усмешкой. Все, что случилось после, было заранее задумано Стефаном и Лазаром. Лазар несколько раз переполнил чашу и вино пролилось на царский кафтан. Когда это случилось в третий или четвертый раз, царь спросил: — Почему ты все время переполняешь чашу, Лазар? Что тебя печалит? — Государь, — ответил Лазар (так между ними было уговорено), — погляди вокруг! Все мои ровесники давно женаты, имеют детей, наслаждаются прелестями своих жен, лишь я одинок, словно дерево в долине! Никто не знал об уговоре Лазара с царем, все замерли, услышав такую дерзость из уст царского любовника. Царь тоже сделал вид, будто огорчен, смущен, и будто обдумывает слова юноши. — Что ж, — сказал наконец Стефан, — твое желание вполне законно. Я тоже давно уже думаю о твоем будущем. Но неужели ты полагаешь, я женю тебя на дочери какого-нибудь свинопаса или коровьего пастуха! Я подобрал для тебя кое-что получше! Ступай в Южную башню, Лазар, и принеси золотое яблоко — свадебный дар! Лазар быстрым шагом покинул пиршественную залу. Кое-кто уже начал догадываться, что все происходящее обговорено заранее. Вскоре вернулся Лазар и принес золотое яблоко. На пиру, вместе со своими многочисленными сыновьями, находился один из богатейших, знатнейших и самых непокорных вассалов Стефана — Богдан Юг. Его младшая дочь, юная Милица, еще не была просватана. Царь Стефан взял из рук Лазара золотое яблоко и задумчиво удерживал на ладони. Князья и воеводы, имевшие дочерей на выданье, чувствовали себя не в своей тарелке — никто не хотел бы отдать свое дитя мальчишке, подставляющему зад, пусть даже и самому царю. Но вот Стефан поднялся и вышел из-за стола. Держа в руке золотое яблоко, он решительно подошел к тому концу стола, где важно восседал Богдан Юг в окружении своих воинственных сыновей. Все поняли, что независимости непокорного вассала приходит конец, и смотрели на него, не скрывая злорадства. — Нет, — машинально шептал старый Юг, — нет, нет, нет! Царь приблизился, отдал поклон, протянул Югу яблоко и, как настоящий сват, произнес обычную фразу: — Говорят, живет в твоем саду красавица-куропатка? Не позволишь ли ей перелететь в наш терем? И снова поклонился. Все ждали. Юг встал и принял яблоко дрожащими руками. Лазар скромно остановился в стороне. Царь гордо распрямился и оглядел своих подданных: — Слушайте же! Сегодня верный наш сподвижник Богдан Юг просватал свою красавицу-дочь не за какого-то безродного мальчишку, но за наследника нашего престола и всего сербского царства. У меня нет ни супруги, ни детей, и наследником своим я объявляю Лазара Гребляновича! Так Лазар сделался зятем богатого и знатного человека, мужем красавицы и наследником престола. Чего еще желать? Говорят, пока не скончался Стефан, Лазар только считался мужем Милицы, но на самом деле им не был. Впрочем, Стефан умер спустя недолгое время после того, как объявил Лазара своим наследником и женил его. Разумеется, сразу пошел слух, что Стефан был отравлен Лазаром, которому поскорее хотелось занять престол, да и стать настоящим мужем своей красавицы-жены. И тут Лазар показал себя. Нескольких сплетников он посадил на кол, злые языки смолкли. Милица, супруга Лазара, воспитывалась в строгости, отец и братья берегли ее. Сначала она горько плакала, не хотела идти за Лазара, но ее согласия, конечно, никто не стал спрашивать. Постепенно она привыкла к своему мужу, он был не хуже других людей, которых она знала; например, ее братьев, да и его красота и мужская сила пришлись ей по нраву. Я ее видел всего несколько раз. Это была уже пожилая женщина со следами былой красоты, все еще стройная, несмотря на многочисленное потомство. Она редко выходила к гостям, предпочитая проводить время в своих покоях. Лазар порою бывал злым, жестоким, необузданным, но этого мало для того, чтобы быть правителем. Он не умел обдумывать свои действия, легко поддавался чужому влиянию, любил лесть. Его супруга была гораздо умнее его и часто подавала ему разумные советы. Но по обычаю этой страны он презирал женщин и не желал прислушиваться к словам жены. В тех же случаях, когда он все-таки это делал, получалось совсем недурно. Мне рассказывали, как однажды царица пришла на пир вместе со своими придворными дамами и стала уговаривать Лазара не тратить столько денег на вино, вспомнить Стефана, как по приказанию последнего воздвигались и украшались церкви и крепости. Именно тогда Лазар отдал приказ о воздвижении Раваницы — монастырской крепости. Это, кажется, было единственное, что он построил за все время своего правления. При Лазаре местные князья и воеводы снова принялись отстаивать свою независимость в бесконечных стычках друг с другом. Он оставался на престоле, кажется, лишь потому что все время шел на уступки, во многом власть его была чисто номинальной. Лазар был отцом большой семьи. Сына его звали Стефаном. Позднее Стефан стал вассалом султана Баязида. Дочери Лазара были замужем за различными воеводами и князьями. Одну из дочерей он выдал замуж за царя Иоаннеса Болгарского, надеясь, что болгарский царь станет его союзником. Но этого не произошло. И болгарский царь Иоаннес Шишман, зять Лазара, и его брат Иоаннес Сырцемир, оба признали свою вассальную зависимость от султана. А Иоаннес Шишман даже отдал в жены Мураду свою сестру Тамар. Когда же Лазар призвал этого своего зятя привести войска и принять участие в битве на Косовом поле (о которой я еще буду говорить), Шишман войска не привел. Два зятя Лазара постоянно жили при дворе, звали их Вук Бранкович и Милош Обилич. Они отлучались из столицы лишь для того, чтобы время от времени объезжать подвластные земли. Мы приехали в столицу поздно вечером. Вук Бранкович сопровождал нас. Наш обоз ехал следом. Город производил впечатление разбойничьего притона. Пьяные выкрики, драки, всадники с факелами. Ворота многих домов были широко распахнуты, несмотря на поздний час. Мы попали в тот редкий день, когда во дворце не было пира. Эвреноз Гази, несколько его ближних людей и я, ждали Лазара в покое, стены которого были украшены коврами грубой местной работы, совсем не похожими на персидские или арабские. Я немного волновался, готовясь к своей роли переводчика. Лазар вышел к нам быстрым шагом. На нем была длинная холщовая рубаха, поверх которой он небрежно накинул что-то вроде алого суконного кафтана. Ноги его, обутые в мягкие сапоги, ступали легко. Ему было уже лет шестьдесят, он явно был сильно пьян, волосы всклокочены, лицо избороздили глубокие резкие морщины. Но глаза его смотрели с определенным очарованием, а все еще видимая природная стройность, изящный овал лица, нежная впадинка на подбородке, маленьком и округлом, все это напоминало о его прошлом царского любовника и красавца. Бороду он брил, длинные лохматые усы свисали книзу. Странно, но я нашел в нем нечто общее с Хасаном, моим братом. Я бы и сам затруднился определить, что у них было общего, но несомненно они в чем-то относились к одной человеческой разновидности. Эвреноз Гази сделал шаг навстречу Лазару и произнес приветствие. Лазар хмурился. Когда глава нашего посольства кончил говорить, я передал его слова на сербском языке. Это произвело неожиданное впечатление. Лазар резко обернулся ко мне. Дернул себя за ус. Подошел, положил мне ладонь на плечо, заглянул испытующим взглядом мне в лицо. Затем вдруг поцеловал меня в щеку, дыша перегаром, и заговорил бессвязно: — Парень! Ты по-нашему знаешь. Ты не думай! Я ваших ненавижу, но кого люблю, того уж люблю! Ты молодец! Не храбрец, нет, — Лазар помотал головой, — не храбрец, но молодец! — тут Лазар обернулся к Вуку Бранковичу: — Накорми их! Завтра будем говорить! — и он, чуть пошатываясь, вышел. Эвреноз Гази и остальные едва сдерживали смех. Даже зять Лазара Вук улыбнулся. Затем он повел нас в отведенные нам комнаты. Эвреноз Гази сделал распоряжения о наших воинах и повозках. После, обдумывая слова Лазара, я нашел, что они вовсе не были такими уж глупыми и бессвязными. И оценил он меня весьма своеобразно. В чем-то и меня можно счесть молодцом, а вот храбрецом я действительно никогда не был. И часто я вспоминал стихи древнего поэта эллинов, Архилоха, который потерял щит на поле боя, потому что бежал, зато остался жив и продолжал творить стихи. Многие не понимали меня, а этот пьяный дикарь Лазар понял, едва услышав и увидев. Должно быть, что-то в нем такое было! На следующий день Лазар принял нас уже официально. В приемной зале находились две его дочери, супруги Вука Бранковича и Милоша Обилича. Обе были одеты с поистине варварской пышностью. Невольно я вспомнил старую легенду о госпоже Зейнаб-Зенобии, о том, как она вышла к разбойнику Маркосу в нарядной своей одежде. Не стану останавливаться подробно на всех многочисленных словах, произнесенных князем Лазаром и Эвренозом Гази, представителем султана Мурада. Я переводил. Эвреноз Гази вежливо напоминал Лазару о его обещаниях, о скрепленных печатями договорах. Лазар заверял, что непременно все свои обещания выполнит, все условия договоров, заключенных им с султаном, будет соблюдать. — Зачем же мне дразнить льва! — уверял Лазар. — Как прекрасно, что вы это понимаете! — почтительно отвечал Эвреноз Гази. Но и он, и Лазар, и все остальные отлично понимали, что никакого мирного сосуществования уже не будет, все договоры — бумажный хлам, все обещания — пустые слова. И все в итоге будет решаться на поле битвы, силой оружия! Лазар то и дело улыбался мне. Я было встревожился, не имеет ли он дурных намерений по отношению ко мне. Но почувствовал, что он вовсе не собирается соблазнять меня. Должно быть, ему просто нравилось, что я так хорошо говорю на его родном языке. Моя невоинственность тоже, кажется, оказывала на него умилительное действие; возможно, он вспоминал себя, невоинственного, хрупкого юношу, опуская в этих воспоминаниях все порочное и грязное, и вспоминая с горечью лишь свою ребяческую беззащитность и одиночество. — Бедный парень! Ты совсем один! — обратился он ко мне. И я снова подивился тому, как он понимает меня, и почувствовал к нему нечто вроде симпатии. Одарив подарками Эвреноза Гази и его приближенных, Лазар приказал особо поднести мне нарядную одежду, золотую чашу и несколько книг, написанных сербскими книжниками-монахами. Я искренне поблагодарил его. Книги были украшены интересно сделанными рисунками. Эти книги и теперь я сохраняю в своей домашней библиотеке. Вечером все мы были приглашены на пир. Меня поразило беспробудное пьянство, непомерное обжорство приближенных Лазара, то, как невоздержанны они были на язык. Обращаться друг к другу с бранными словами, считалось среди этой знати самым обычным делом. По залу, между скамьями, бегали породистые охотничьи псы, им кидали куски мяса. Мне и остальным нашим было неприятно. Опьяневший Лазар пытался заставить нас пить. Эвреноз Гази велел мне перевести, что пить нам запрещает наша вера. Я перевел. — Переведи им! — приказал Лазар. — Вера их собачья и сами они собаки! — Этих слов я переводить не буду! — спокойно ответил я. Думаю, по интонациям голоса Лазара наши догадались, что ничего хорошего он не сказал. — Не будешь, — произнес Лазар с внезапной пьяной грустью, совершенно неожиданной после его недавней ярости. — Не будешь и не будешь! Все равно я их ненавижу, а ты мне как сын! — он отвернулся от нас и махнул рукой, словно отмахивался от всех на свете мыслей, и своих и чужих. Две отличительные черты я заметил при дворе Лазара — непомерная роскошь и непомерная же грубость нравов. Женщины у сербов ходят с открытыми лицами. Мужчины презирают их, избивают, но и сами женщины в жестокости не уступают своим отцам и мужьям. Здесь часты случаи убийства новорожденных детей. Однажды Лазар пригласил нас на охоту. Когда мы вернулись и шли по дворцовым покоям, вдруг раздались отчаянные женские крики, брань. Лазар двинулся на шум. Мы все — следом за ним. Всей толпой вошли в один из дворцовых залов. И что же? Дочери Лазара, жены Вука и Милоша, безобразно дрались. А их придворные дамы не смели разнимать их. Одна ударила другую по лицу рукой, пальцы которой были унизаны тяжелыми перстнями. У ее сестры хлынула кровь из носа, заливая шитое золотом платье. Они бранились, выкрикивая оскорбительные слова — каждая — в адрес мужа сестры. Драка случилась из-за того, что обе они выхваляли достоинства своих мужей, их знатность, богатство и мужскую силу, нимало при этом не стесняясь в словах. Лазар с помощью их мужей едва сумел разнять этих разъяренных волчиц. Еще один случай, говорящий о нравах сербских женщин. Женился крестник царя, молодой князь Лазар Раданович. Я воспользовался приглашением, чтобы посмотреть, как у сербов справляются свадьбы. Жених с огромной свитой отправился за невестой. Невеста была дочерью вдовы одного из полководцев царя Лазара. Обширный двор замка заполнился толпой шумных друзей жениха. Пора уже было нести приданое невесты и вестиее самое. Из дома донеслись крики. Крики эти приближались. Наконец выбежала нарядная, но растрепанная невеста. Щеку ее украшала кровоточащая ссадина. Невеста держала в руках вышитую холщовую мужскую рубаху. Следом бежала ее мать, проклиная дочь страшными проклятиями. Девушка обернулась и не постеснялась у всех на глазах ответить матери тем же. Тогда мать выхватила из кожаных ножен, подвешенных к поясу, острый нож, и швырнула его в родную дочь. Нож по счастью вонзился в деревянный столб, поддерживавший потолочные балки, и только потому девушка осталась жива. Мать схватили за руки и увели в дом. Она извивалась, плевалась и бранилась, продолжая проклинать дочь. Вынесли сундуки с приданым, погрузили на повозки. Счастливая невеста вручила жениху вышитую холщовую рубаху. Они ехали рядом верхами. После мне пояснили, что рубашка эта издавна хранилась в роду невесты. Якобы эта рубашка обладала какими-то чудодейственными свойствами. Невеста решила ее взять для своего жениха, мать же хотела оставить для младшего сына, брата невесты. Из-за этого и разгорелась ссора, завязалась драка, окончившаяся победой девушки. Впрочем, довольно обо всем этом. Дело близилось к развязке. Мы тайком отослали султану несколько важных донесений. Лазар открыто собирал войска, вербовал союзников. Когда Эвреноз Гази напомнил ему вновь о его обещаниях, Лазар даже не потрудился выдумать что-то в свое оправдание. Он просто объявил, что посол султана вместе со свитой и всеми своими воинами остается у сербов в заложниках. Я перевел эти слова. Эвреноз Гази спокойно выслушал. Лазар приказал держать наших взаперти в отдаленных комнатах дворца. — Только его оставьте! — указал он на меня. Я сначала хотел было гордо заявить, что желаю разделить участь остальных, но потом сообразил, что принесу гораздо больше пользы, оставаясь на свободе, и ничего не сказал. Эвреноз Гази удовлетворенно кивнул и я понял, что сделал верный выбор.10 БИТВА НА КОСОВОМ ПОЛЕ
Султан Мурад также собирал войска. Лазар послал на разведку нескольких своих воинов. Вернулся только один из них. Он рассказал, что товарищи его были убиты и проклинал зверство османов. Любопытно, как бы он сам поступил с пойманными разведчиками противника? Вероятно, погладил бы по головке и отпустил домой! — Господин мой! — уверял вернувшийся разведчик. — Я видел войско османов, видел их оружие. Наше оружие сильнее, а людей у нас больше по крайней мере в три раза! Эти сведения очень ободрили Лазара. Помню, он призвал меня к себе и говорил со мной. Он показался мне нервным, неспокойным, то и дело дергал себя за длинный ус чуть подрагивающими пальцами. — После моей победы все ваши будут казнены! — пообещал он. — Кроме тебя! Когда Лазар говорил, трудно было понять, издевается он над собеседником или говорит всерьез. Такая манера свойственна многим пьяницам и преступникам. Я промолчал в ответ на его слова. — Боишься? — спросил он. — Да, боюсь, — спокойно ответил я. — Но если будешь казнить Эвреноза Гази и его спутников, казни и меня! — Эх, парень, — он потрепал меня по плечу, — молодец ты! Не храбрец, а молодец! — повторил он. Должно быть, ему самому эта фраза казалась очень удачной. Я молчал. Лазар нервно ходил по комнате. — А трепану я ваших! Трепану! — он остановился против меня. Мне стоило больших усилий сдержать улыбку. Этот пьяница собрался «трепануть» наших полководцев. «Трепануть» моего брата Хасана. Интересная идея! — Не веришь? — спросил Лазар. Я ничего не ответил. — Не веришь, знаю! — он вдруг сел на покрытую ковром скамью, обхватил голову руками и глухо заговорил. — Горе мое! Вот так, разбудишь льва, раздразнишь тигра, на змею наступишь, хвост ей отдавишь, — он рассмеялся нервным смешком. — Камнем волка шибанешь. Ну и все! Отдувайся после, как знаешь! — Еще есть время, — сказал я мягко. — Еще можно исполнить свои обещания и соблюсти договоры! — Какая мне польза от позднего раскаяния! — он махнул рукой. — Мне одно осталось — биться не на жизнь, а на смерть! А ты ступай, Чамил, ступай! Я вышел. Вскоре Лазар отдал приказ не выпускать меня из дворца. Но внутри я мог ходить свободно. Опасался ли я за свою жизнь? Пожалуй, нет. Я заметил, что когда смерть угрожает не тебе одному, а многим людям, с которыми ты связан, эту угрозу как-то легче переносить. Я много думал о Панайотисе. Мне казалось, что то, что мне сейчас угрожает гибель, сближает меня с моим другом, терпящим пожизненное заключение. Обо всех событиях и подробностях битвы рассказал мне Хасан. Рассказ его я записал и сейчас передам. Но начну со своих впечатлений. Я видел из окна своей комнаты, как Лазар, его зятья, многочисленные родственники его жены, его приближенные рыцари выезжали из дворцовых ворот. Они представляли собой довольно внушительное зрелище. Следом выбежала супруга Лазара, Милица, она подбежала к его коню, покрывало на ее волосах развевал ветер. Лазар наклонился к ней с коня. Позднее я узнал, что она просила мужа оставить при ней кого-либо из ее многочисленных братьев и племянников. Я видел, как Лазар подозвал их взмахом руки. Они подскакали, окружили его. Он что-то говорил им, предлагал любому из них остаться. Но все отказались. Опечаленная царица ушла во дворец, она плакала, утирая слезы покрывалом. Любопытно, что сын Лазара, Стефан, не участвовал в битве. Он был в плохих отношениях с отцом, жил в отдаленной крепости и не бывал при дворе. Между тем, войска Мурада перешли Малую Мораву. Развевались алые знамена, гремели боевые барабаны. Ехали прославленные полководцы — Али паша, за ним — мой брат Хасан Гази, следом — Челеби султан Баязид, старший сын и наследник султана Мурада. За Баязидом — субаши Эйне бей, Якуб Челеби, Саруджа паша. Замыкающим был сам султан Мурад. Остановились в местности, которую мы теперь называем Гюмюш Хиссар. Это ровная местность, без оврагов и скал. Разбили шатры. Местность Гюмюш Хиссар напоминала бурное море, а шатры — парусные суда среди разбушевавшихся волн. Воины в доспехах сновали, словно стаи железных рыб. С несколькими верными приближенными, в числе которых был и мой брат, султан отъехал довольно далеко. С холма он разглядел войско Лазара. Несмотря на то, что многие союзники не поддержали его, Лазару удалось собрать весьма значительное войско. Султан Мурад долго вглядывался в движущуюся массу людей, затем тихо произнес: — О, Аллах! Во имя деяний посланца божия Мохаммеда пошли милость правоверным! Не дай мне стать виновником их гибели! Затем состоялся военный совет. Сначала Мурад обратился к своему сыну Баязиду: — Что ты предлагаешь, милый мой? Этот гяур собрал огромное войско. Такого я и не предполагал! Может быть, мне защитить наших пехотинцев рядами верблюдов? — Прежде мы этого не делали, — ответил Баязид. — Пусть у неверных огромное войско, но с нами божья милость и благословение Аллаха! Прежде мы побеждали, одолеем врага и теперь. А если погибнем, то погибнем мучениками за правую веру! Мурад похвалил Баязида, затем обратился с тем же вопросом о верблюдах к Али паше. — Грех прикрывать себя, когда ведешь священную войну — газават, — заговорил Али паша. — В битве за веру следует уповать на одного лишь Аллаха! Он не допустит победы неверных! Мурад кивнул и спросил о верблюдах моего брата Хасана. — С одной стороны это хорошо, — сказал Хасан, — верблюды были бы надежным прикрытием нашим пехотинцам, истоптали бы коней противника. Но с другой стороны, всем известно, что верблюды очень пугливы. Если они испугаются шума, поднятого наступающими войсками, то повернут назад, начнут топтать наших воинов. Вот почему я считаю, что следует отказаться от плана с верблюдами. Вспомните, что случилось с Искандером Двурогим, Македонским царем и полководцем, когда он бился с индийским правителем Фурихиндом. Тот поставил впереди своего войска боевых слонов. Искандер приказал напугать слонов, они повернули назад и истоптали воинов Фурихинда. — Это разумные доводы, — заметил султан. — Что же ты предлагаешь? — Впереди надо поставить пехотинцев, вооруженных луками и стрелами. За ними ударят воины с мечами и саблями. Султан одобрил это предложение. Выставили часовых и лагерь притих. Ночь выдалась темная, мрачная, сильный ветер нес тучи темной пыли. В шатре султана оставались его сын Баязид, а из остальных полководцев — Али паша и мой брат Хасан. Султан велел им ложиться. Брату не спалось, он лежал с открытыми глазами, слушал вой ветра, думал о своей жизни, о своей любви к Сельви. Вдруг ему начинало казаться, что он в этой жизни — всего лишь песчинка, гонимая темным ветром, и все — все равно — останется он в живых или погибнет! Все равно — будет ли он счастлив или проведет отмеренное ему время в тоске и горе! Все — все равно! Брат разглядел в темноте, как Мурад поднялся, омылся, как положено, водой из кувшина, встал на колени, склонил голову на землю и принялся горячо молиться. Брат слышал, как он произносит вполголоса слова молитвы, а снаружи шумел темный ветер. — Господи, Боже мой! — молился Мурад. — Сколько раз ты, во благости своей внимал моим мольбам и не оставлял меня! Услышь меня и сейчас! Рассей страшный мрак, пошли дождь, чтобы улеглась пыль! Озари мир своим светом, чтобы смогли мои воины увидеть войска неверных и биться с ними! О, Господи, все в руке твоей — и люди и земли! Даруй победу, кому пожелаешь! Я всего лишь один из ничтожных рабов твоих. Тебе ведомы все мои мысли, все мои тайны. Мне не нужно богатство. Я иду на поле битвы не для того, чтобы обратить побежденных в рабов. Единственное мое желание — искренне и преданно пытаться заслужить твое благоволение. Господи, сделай меня жертвой ради моих воинов и подданных, только не оставляй их побежденными в руках неверных, не губи моих людей! О Боже, не допусти, чтобы люди погибли из-за меня. Даруй нам победу! Возьми мою жизнь, прими мою жертву! Я душу и жизнь свою отдам во имя того, чтобы мои правоверные остались живы! Господи, возьми меня к себе. Да сделаюсь я жертвой во имя правоверных. Ты сотворил меня борцом за правую веру, позволь мне претерпеть мученичество во имя ее![3] Так молился султан Мурад. И Всевышний услышал его горячую молитву. Облака покрыли небосвод и благодатный дождь пролился на землю. Ветер стих. Совсем иначе прошла эта ночь в лагере князя Лазара. Выкатили бочки с вином. Началось обычное пьянство. Сподвижники и союзники Лазара развлекались, продавая друг другу и обменивая воображаемых пленников. Они говорили о том, скольких перебьют и скольких обратят в рабство. Вук Бранкович предложил ударить ночью. Но другой зять Лазара, Милош Обилич, уверял, что это унизит достоинство царя. Решили дождаться утра. Рассвело и стало видно, что день будет солнечный, теплый, но не жаркий. Хасан вышел из шатра султана. Было еще тихо. Он посмотрел на траву. По крупному изогнутому стеблю карабкался большой темный жук, в тени травинок суетились муравьи. Крохотные дети природы жили своей, отдельной от человека жизнью, нимало не заботясь о том, что могут погибнуть под натиском его мощной стопы. Но вот зазвучали боевые трубы. Всадники садились в седла, пехотинцы проверяли готовность оружия. Чавуши — предводители отрядов ободряли воинов. «Вперед, борцы за правую веру! Сегодня день верховных ваших усилий! Покажем свою храбрость, свою доблесть! Отблагодарим повелителя нашего за хлеб-соль, за наших добрых коней, за острые сабли, за прекрасные празднества, данные в нашу честь! Вперед!» Войско строилось — центр, фланги, обоз. Султан Мурад с полководцами поместился в центре. Отряд за отрядом впереди войска встали дворцовые гвардейцы. Баязид и Хасан поместились справа. Эйне бей — в левом крыле. Справа поставили свои отряды Сарухан, Айдын, Саруджа паша. Сзади находился обоз. Султан Мурад приветствовал воинов. Он обещал им богатые дары и безграничные милости. Великий визирь Али паша прочел утреннюю молитву. Затем раскрыл Коран наугад и попал на стих о том, что избранные должны бороться с неверными и двуличными. Али паша поцеловал страницу. Лазар также выстроил свои войска. Многие из его рыцарей запаслись веревками и цепями. — Глупость! — сказал Вуку Милош Обилич. — Не могу себе представить османских полководцев связанными, закованными в цепи, плененными! — Что же делать? — спросил Вук. — Теперь уже выхода нет, — ответил Милош. — Будь что будет! Оба войска двинулись навстречу друг другу, чтобы сойтись в битве на Косовом поле. Справа встали стрельцы из лука под командой Хамидоглу, слева — под командой его сына Мустафы Челеби. Мой брат Хасан Гази и Михалоглу Искандер бей готовы были врезаться в неприятельские фланги. — Будем хитрить! — сказал мой брат. — Когда неверные, закованные в броню, скачут с обнаженными мечами в руках вперед, они все сметают на своем пути. Поэтому нужно обратиться в притворное бегство, обойти неприятеля с тыла и ударить тяжелыми палицами. Полетели тучи стрел. Наши пушкари во главе с бесстрашным Хайдаром зарядили пушки. Посыпались ядра, сметая все на своем пути. Между тем, враги оттеснили наших стрельцов и ударили по центру. Им удалось добраться до обоза и уничтожить часть обозных служителей. И тут с обеих сторон слепящими молниями засверкали сабли. Стрелы летели градом. Разносились стоны раненых, крики о помощи. Баязид, сын Мурада, видя, какая опасность угрожает войску, встревожился. Он приказал выкликать: «Неверные разбиты и бегут! Неверные разбиты и бегут!» В наши войска всегда набирают таких голосистых парней, которые должны ободрять остальных подобными возгласами. Этим ребятам платят особую плату, называют же их «бозюнджилер». Словно сокол в стаю ворон, Баязид врезался в ряды неверных. За ним последовали остальные полководцы во главе своих отрядов. Вдруг конь под Баязидом споткнулся, Баязид упал. Вот-вот накинут на него веревочную петлю. Но он вырывается, молнией взлетает обратно в седло и принимается сечь неверных саблей, как жнец сечет колосья под корень. Правоверные с криками «Велик Аллах!» наступают неудержимой волной. Противник сметен. Еще не успело зайти солнце, а Косово поле уже покрывают горы трупов. Мертво посверкивает сплющенная ударами палиц серая броня. Тошнотворно пахнет кровь. Каркая, слетаются вороны. Рыцарское войско Лазара разбито. Сербское царство пало. Вдали наши всадники добивают остатки вражеского войска. Султан Мурад, окруженный несколькими телохранителями, идет через поле. Ему прокладывают дорогу среди трупов. Он знает, чувствует, что должен пасть жертвой во имя правоверных, и удивлен тем, что все еще жив! Внезапно Мурад видит, что к нему направляется вражеский воин. Воин этот ранен, обливается кровью, его шатает. Телохранители Мурада хотят остановить этого человека, но султан приказывает: — Не трогайте его. Пусть приблизится. Воин приближается с трудом. Вот он склонился перед султаном. И вдруг ударяет Мурада кинжалом. Мгновенно отлетела душа Мурада. Неверного, убившего султана, тут же посекли. Это был Милош Обилич, зять Лазара. В шатер султана быстро вводят обоих его сыновей. Старшему, Баязиду, суждено унаследовать престол. Младший, Якуб, должен быть убит, чтобы в корне пресеклась возможная опасность династической смуты. Якуб достойно встречает смерть. Лазар схвачен и ему тотчас отрубают голову. Баязида провозглашают султаном. Я нисколько не удивлюсь, если когда-нибудь Лазар, из-за которого погибло столько людей, будет объявлен у сербов святым. Неверным это свойственно — поклоняться побежденным полководцам и дурным правителям.11 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ВО ДВОРЦЕ
Посольство Эвреноза Гази было освобождено. Мы прибыли в Брусу героями. Столица встречала победителей, печалилась о смерти султана Мурада и праздновала воцарение султана Баязида. Снова я в Брусе, в городе, где я родился и провел первые годы своей жизни. Я думаю о Панайотисе. Мне странно, что пока происходили все эти бурные события, он по-прежнему жил в своей темнице, одинокий, лишенный новых впечатлений. Я поспешил отослать ему одежду и еду. Снова рядом со мной Хасан, мой старший брат. Он находит, что я окреп и возмужал. Я нахожу его усталым и еще более помрачневшим, но не говорю ему об этом. Он показывает мне письма отца и матери. Они очень тревожились за нас и радуются нашему возвращению. Они хотят, чтобы оба мы приехали в Айдос — отдохнуть. Далее я вспоминаю торжественный прием во дворце. Множество сановников в роскошных одеждах. Море тюрбанов и высоких шапок. Светильники разливают яркий свет. Возносятся мраморные колонны и легкие арки, выложенные пестрыми плитками. Послы из франкских стран приветствуют султана. Султан Баязид щедро оделяет милостями победителей сербского войска, не забывая по завету своего отца ни великих, ни малых. Я тоже оделен золотом и землей. Мой брат Хасан преклоняет колени перед троном султана. Он просит о милости. Он жаждет единственной награды — пусть милостивый султан позволит ему взять в жены Сельви, дочь покойного Абдуррахмана Гази. Хасан рассказывает о клятве, которую Абдуррахман Гази взял, умирая, со своей жены Зейнаб. Казалось бы, почему сразу нельзя удовлетворить просьбу храброго полководца? Ведь на одной чаше весов справедливости — клятва, данная женщиной умирающему старику, она поклялась не отдавать в жены Хасану свою дочь; для того, чтобы не погубить Хасана, связав его судьбу с судьбой безумной девушки. Но на другой чаше — желание самого Хасана, зрелого человека, отвечающего за себя. Но можно ли сделать исключение? Можно ли отменить клятву, данную человеку, который давно уже мертв? Ведь если сделать исключение один раз, придется после вновь и вновь допускать исключения, пока нарушение клятвы не сделается самым обычным делом! Султан обещает обдумать просьбу моего брата, посоветоваться с законниками. И действительно, через несколько дней великий муфтий выносит свое решение. Мудрое, как решения древнего иудейского царя Сулеймана. Клятву дала госпожа Зейнаб и должна ее соблюсти. Но после смерти госпожи Зейнаб Хасан может попросить руки Сельви у ее опекунов, и ему не должны отказать! Светлым солнечным днем я прощаюсь с братом. Я еду в Айдос к родителям, Хасан остается в Брусе. Он говорит, что не в силах видеть Сельви. Он передает мне письмо, в котором просит прощения у родителей. Я думаю о его любви к Сельви. Странная любовь! (Но, кажется, любовь всегда бывает странной, а если не странная, то, должно быть, не любовь!) Хасан никогда не говорит ни о каких достоинствах Сельви (а какие у бедной больной девушки достоинства? Разве что ее красота и обаяние!), его любовь — некая данность. Вот у человека есть руки, глаза, и есть любовь! И любовь эта — такая же необъяснимая частица его существа, как руки или глаза! — Ну, что мне делать? — Хасан стоит у стремени моего коня. Я сижу в седле. — Убить эту надоедливую докучную старуху? — Я понимаю, что речь идет о госпоже Зейнаб, как не понять! — Придушить ее ночью под маской разбойника с большой дороги? Отравить, как Лазар отравил своего покровителя Стефана? — Хасан смеется нервным коротким смешком. Это напоминает мне смех Лазара. — Ничего! — отвечаю я. — Ничего не делать! Не сердись на меня! Совсем ничего не делать, потому что делать нечего! — я улыбаюсь. — Просто ждать! Хасан тянет меня по-детски за руку. Я нагибаюсь с седла и обнимаю брата. Мы хохочем горестно и насмешливо, на большой анадольской дороге. Странная группа — смирный конь, пеший полководец и склонившийся с седла всадник. А вдали на голубом небе светло белеет вершина Олимпа — моей горы. И впереди на дороге, должно быть, уже цветут розы на могиле Омира.12 ЖЕНА ХАСАНА
В какой-то момент своей жизни человек замечает, что время пошло быстрее. Еще недавно я был ребенком, еще недавно полдень тянулся бесконечно, а ночью не хотелось ложиться спать, ночь тоже казалась бесконечной и было страшно окунуться в эту темную скучную бесконечность. Я не понимал, как это дедушка спит не только ночью, но и днем; а теперь я сам не прочь вздремнуть в полуденный зной. И, должно быть, не только с отдельными людьми так бывает. Вот еще недавно казалось, что нет никого сильнее рыцаря на коне, закованного в прочную тяжелую броню. И вот рыцари наголову разбиты нашей пехотой. Началось новое время — время регулярной армии, в которой пехота — основная сила. А когда-нибудь и это время пройдет и начнется какое-нибудь новое время. Я провел несколько лет во франкских землях, увидел города, о которых прочел в книгах, — Венецию, Флоренцию, Париж. Об этом я, наверное, когда-нибудь и сам напишу книгу. Я женился. У меня семья — две жены, четыре дочери, три сына. Я женился отнюдь не по страстной любви, обеих невест мне подыскала мать. Это смирные девушки из хороших семей. Все мы любим друг друга мягкой спокойной любовью, бережно и внимательно относимся к детям. Мне приятно вступать в телесную близость с моими женами. У меня есть некая уверенность, что и им это приятно. Хотя, впрочем, всякий человек, в чем-либо уверенный, выглядит немного комично. Хасан участвовал еще в нескольких победоносных военных походах. В Брусе он выстроил себе огромный дом. В доме прекрасное убранство, много дорогих ковров и тканей, много красивой утвари и посуды. Этот дом ждет Сельви. Умер отец. От какой-то внутренней болезни. Мы с Хасаном приглашали к нему самых дорогих и умелых лекарей, но ничего не помогло. Как я жалел тогда, что не изучил лекарское искусство! Перед смертью отец передал мне опекунство над Сельви. Я стал ее официальным опекуном. Теперь, когда Хасан захочет жениться на ней, он должен будет просить у меня позволения. — А вдруг ты не позволишь мне! — грустно усмехается Хасан. — Может статься, может статься! — подыгрываю ему я. Моя мать и госпожа Зейнаб очень постарели, очень сдружились. Целыми днями могут сидеть в саду у фонтана и беседовать о разных пустяках, которые им приятны, — о болезнях старости, о мазях и притираниях для кожи лица, о вышивании, о приготовлении разных варений и солений. Сельви скоро исполнится тридцать. Она все так же хороша. Время, должно быть, решило на какой-то период оставить ее в покое. Она уже не выглядит двадцатилетней, но все равно выглядит гораздо моложе своего настоящего возраста. Можно сказать, что она здорова, только грустна. И как-то изредка поминает о призраке музыканта. Мы скрываем от нее сватовство Хасана. Кто знает, как бы она приняла это известие. Пусть уж она все узнает после смерти госпожи Зейнаб. Если госпожа Зейнаб вообще когда-нибудь умрет! Возможно, она просто переживет нас всех. Я живу в Брусе, но время от времени наезжаю в Айдос, где остались женщины — мать, госпожа Зейнаб, Сельви. В Айдосе теперь спокойно, им ничего не угрожает, да и дома их надежно охраняются по моему распоряжению. Иногда я испытываю потребность думать о Панайотисе. Я не забываю его. Но мне не хочется предаваться мыслям о нем дома, где в соседних с моей комнатой покоях играют дети, плачут и смеются; а женщины суетятся, занимаются своими обычными женскими делами. У меня большой дом. Я могу уединиться в своей комнате или в библиотеке. Но дома я не хочу думать о Панайотисе. У меня делается такое ощущение, будто кто-то неведомый и издевательски-ироничный подслушивает мои мысли, посмеивается над ними. Для того, чтобы подавить это ощущение, я отправляюсь в кофейню. Где ты, моя первая кофейня? Та, из детства! Та, на берегу Босфора. Та, где я впервые узнал горький и странно манящий вкус кофе. Та, где я впервые услышал сказочную историю госпожи Зейнаб-Зенобии, после слышанную мною столько раз, и так непохожую на правду! А потом оказалось, что правда хитра, и не всегда то, что видишь, что можешь потрогать пальцами, и есть правда. Теперь кофейня для меня — что-то привычное, обыденное. Меня здесь знают. Служитель знает, какой кофе я люблю. (Покрепче, разумеется!). Я сижу среди посторонних мне людей. Я хожу в кофейню подальше от дома, чтобы поменьше встречать знакомых. Сижу, отпиваю горячий кофе маленькими глотками, и думаю о Панайотисе, о его страшной судьбе, о том, что вряд ли мы когда-нибудь увидимся снова. У меня ноет сердце от этих мыслей, и слезы навертываются на глаза. Мне так хочется, чтобы мой друг был со мной. Пусть он сильно изменился, пусть он больше не захочет говорить со мной… Я представляю себе, как его освобождают из тюрьмы, как он живет в моем доме, как я окружаю его заботой и силы его восстанавливаются. Я все продолжаю посылать ему одежду и провизию. Надо бы справиться у смотрителя тюрьмы, жив ли мой друг. Но, сам не знаю, почему, я боюсь сделать это, боюсь лишиться этого ритуального действия — покупки и посылки Панайотису одежды и припасов. Однажды я вот таким образом сижу в кофейне, когда туда врывается Хасан (он знает «мою» кофейню). Вид Хасана настолько необычен, что все посетители и завсегдатаи, как по команде, поднимают головы от чашек и подносов. На Хасана смотрят с любопытством. Кое-кто узнал его, и к любопытству добавилась почтительность. Хасан быстро движется ко мне. У него растерянное и вместе с тем напряженное лицо. Он подходит, снимает туфли и садится рядом со мной. Я приказываю принести для него кофе. — Что случилось, Хасан? — спрашиваю я. Он сначала не отвечает, хватается за чашечку, словно за якорь спасения, начинает с жадностью пить, будто это не горячий густой кофе, а студеная вода. Мне вдруг кажется, что он чем-то испуган. — Что случилось, Хасан? — повторяю я. Наконец он оставляет пустую чашку. — Случилось, — упавшим голосом произносит он. — Госпожа Зейнаб умерла! Эту фразу он выпаливает, как мальчишка — что-то запретное. Конечно, я должен что-то сказать, сию минуту. Что-то незначительное, вроде «да», или «не может быть», или еще что-нибудь в этом роде. Тогда легче будет начать настоящий разговор. Но я ничего не могу сказать. Я молчу и смотрю на брата. Прославленный полководец, которому пошел пятый десяток, он теперь выглядит явно испуганным, растерянным. Наконец я нашелся. — Ну, Хасан, — говорю я. — Это ведь совсем ничего не значит! И никто уже и не помнит о твоей просьбе. Успокойся, Хасан! Ты что же, решил, что тебя насильно заставят? Не хочешь — и не надо. Живи спокойно. Он внимательно слушает эти мои довольно бессвязные утешения и объяснения (если произносимые мною слова вообще можно так назвать!). В сущности, я хочу сказать ему очень простую вещь — если он больше не хочет жениться на Сельви, ну и не надо. Никто уже и не помнит о том, что он когда-то просил у султана дозволения жениться на ней. Еще одна человеческая странность — вот человек чего-то до смерти желал, жаждал; и все знали об этой его жажде; кто сочувствовал, кто отговаривал, кто советовал; короче, все были при деле; и вдруг становится возможным исполнить это сокровенное желание самым что ни на есть обычным способом; и человек — в растерянности; он так привык жить осознанием этой заведомой неисполнимости своего заветного желания, что когда появилась возможность простого воплощения этого желания в живой жизни, человеку стало не по себе; он не может разобраться в своих чувствах; и все сильнее он чувствует, что не хочет, не хочет, не желает исполнения своего желания. Вот это самое, наверное, и происходит сейчас с моим братом. А далее человек решает, что он просто должен, обязан воспользоваться обстоятельствами и исполнить свое желание. Ведь если он откажется, что подумают люди? Они, разочарованные, будут считать его таким же скучным и обыкновенным, как они сами. Нет, нет, он должен, он обязан, ради людей. Так я размышляю немного иронически. Потом я снова возобновляю свои попытки осторожно объяснить Хасану, что он вовсе не должен, не обязан жениться на Сельви. Но, наверное, я перегнул палку; наверное, в моем голосе брат почувствовал какие-то неприятные для него интонации. Теперь он уже не приемлет мои попытки отговорить его от необдуманного решения. Он так и рубит сплеча. — Я прошу у тебя руки Сельви, — говорит он, — ведь ты ее опекун. Я понимаю, что отговаривать его, убеждать — бесполезно. — Я даю свое согласие, — спокойно отвечаю я. — Благодарю. Я, собственно, за этим и искал тебя. Брат поднимается, обувается и выходит из кофейни. «Вовсе не за этим, — думаю я. — Не за этим ты меня искал. Ну да ладно.» Я приказываю принести мне еще кофе. И принимаюсь грызть себя — может быть, я мало отговаривал Хасана? Поленился? Может быть, попробовать еще раз поговорить с ним? Ведь я знаю, что этот брак не будет счастливым, ни для Хасана, ни для Сельви. И главное — я даже не могу отказать ему! Ведь в свое время было вынесено решение о том, что после смерти госпожи Зейнаб опекуны Сельви не должны отказывать Хасану. Кроме того, я уверен, что Сельви начнет противиться. Придется уговаривать Сельви. Ну, пусть этим займется моя мать. Вот еще хлопоты свалились на мою бедную голову. А я-то думал отдохнуть после целого года в Париже. И вот никакого отдыха не предвидится — ни приятного чтения в прохладном помещении библиотеки, ни игр с детьми, ни милых поездок всей семьей за город — ничего. Придется устраивать свадьбу, уговаривать и утешать Сельви, и еще бог знает что. — Хасан просит твоей руки, — объявила моя мать Сельви. Как я и полагал, Сельви ответила, что не пойдет за Хасана. Мать принялась уговаривать ее. И чем горячее уговаривала, тем сильнее Сельви противилась. Хасан был мрачен. Все мы приехали в Айдос, для того, чтобы здесь отпраздновать свадьбу, и потом ехать в Брусу. Но до свадьбы было еще очень далеко. Наконец мать сказала мне, что Сельви снова впала в состояние безумия. Болезнь проявилась открыто, как проявлялась в детстве. Почему-то я нисколько не сомневался, что Сельви просто притворяется. Она это умела. Я еще помнил, как она когда-то притворилась, будто забыла загородную прогулку, во время которой впервые увидела Панайотиса. Внезапно я поймал себя на мысли о том, что думаю о Сельви, как о чем-то докучном, раздражающем. А ведь я так любил ее в детстве; и после, когда мы выросли, я любил ее, как мог бы любить родную сестру. И вот теперь я совсем не люблю ее. Она раздражает меня. Бедная Сельви! Теперь ее никто не любит. Она никому не нужна. Один за другим ушли от нее люди, любившие ее. Умер ее отец, вот и мать умерла, Панайотис в тюрьме, я больше не люблю ее; моя мать, кажется, устала от нее. Но ведь остается любовь Хасана. Вот единственный человек, любящий ее теперь. Зачем же пренебрегать этой любовью? «Решено, — подумал я, — вот об этом я ей и скажу.» Я решил поговорить с Сельви. Когда я вошел в ее комнату, она поднялась с маленькой круглой скамеечки, на которой сидела у стола, обтянув платьем колени, и нарочитым жестом махнула рукой. — Пусть он уйдет, — сказала она. Я понял, что она приняла свое решение — притворяться безумной. Она, конечно, умела притворяться (все умеют), но умела плохо. Я сразу увидел, что она притворяется. — Я хочу поговорить с тобой, Сельви, — сказал я, присаживаясь на подушку на ковре. Она в ответ распустила свои длинные волосы, занавесила темно-каштановыми прядями лицо и нарочито-дико поглядывала на меня сквозь эту волосяную завесу. — Не надо, Сельви, — я кликнул служанку и велел ей принести кофе для меня и для Сельви. Кофе явился. Служанка ушла. — Выпьем кофе, Сельви, — предложил я. Она не отозвалась. — Послушай, Сельви, — я отхлебнул из чашки, — то есть, ты можешь слушать меня, а можешь не слушать. Зачем эти капризы? Ты совсем одна. Твои родители умерли. Моя мать уже стара. У меня семья и я не могу уделить тебе много времени. А Хасан любит тебя уже много лет. Он будет заботиться о тебе, тебе будет хорошо в его доме. Он готов исполнять любые твои желания. — У меня нет желаний. «Хорошо, — подумал я. — Значит, оставила притворство. Отвечаешь, как нормальный человек.» — Соглашайся на брак с Хасаном, Сельви, — я поставил на поднос пустую чашку, выпил воды. — Я прошу тебя об этом. Моя мать просит. Мы будем рады знать, что ты пристроена в этой жизни, что о тебе хорошо заботятся. — Мой отец не хотел этого брака. — Твой отец взял клятву с госпожи Зейнаб в том, что она не выдаст тебя за Хасана. Но госпожа Зейнаб умерла. А по указанию самого султана было принято решение — не отказывать Хасану, если он после смерти твоей матери попросит твоей руки. Видишь, я искренен с тобой. Хасан — единственный человек, который любит тебя. Сельви зло посмотрела на меня, откинула распущенные волосы назад и заговорила, плача: — Какой ты двуличный, Чамил. Сколько в тебе лицемерия. Ты давно разлюбил меня, ты уже не любишь меня даже, как сестру. Но вместо того, чтобы сказать об этом прямо, ссылаешься на семью, которая, якобы, отнимает у тебя слишком много времени. Когда-то ты разлюбил меня за то, что я была больна. Я не упрекаю тебя, хотя я не была виновна в своей болезни. Ты отнял у меня любимого. Но я снова отказываюсь упрекать тебя. Сейчас ты лицемерно уговариваешь меня выйти замуж за Хасана. Ты ведь знаешь, что я буду несчастна с ним. Но ты во что бы то ни стало хочешь исполнить его прихоть. Ибо его любовь ко мне — прихоть, и, уверяю тебя, прихоть, ведущая его прямым путем к безумию. Обо мне, о моей жизни ты не думаешь. Ты все говоришь о том, что никто не любит меня. Как же ты забыл о человеке, который любит меня, о своем друге? Ведь ты даже не знаешь, жив ли он? — Сельви, да, я ничего не говорю о Панайотисе. Но вовсе не из лицемерия, а всего лишь потому что не хочу напрасно мучить тебя, говоря о нем. Она опустила голову. Кофе она даже не коснулась. — Я не хочу видеть тебя, разговаривать с тобой. Ты мне неприятен. Уйди. И больше не уговаривайте меня. Ни ты, ни твоя мать. Хорошо. Я выйду замуж за Хасана. — Я благодарен тебе, Сельви, за твое решение, — учтиво ответил я. И с этими словами покинул комнату. Началась подготовка к свадьбе. Как всегда — суматоха, шум. Множество покупок. Хасан уехал в Брусу — подновить свой дом. Вернулся он довольно скоро. Привез много подарков для Сельви — кучу золотых украшений — кольца, браслеты, ожерелья — все это с жемчугом и драгоценными камнями — все вещи прекрасной работы. Даже моя мать, много повидавшая на своем веку, удивлялась этим украшениям и щедрости Хасана. Еще он привез для Сельви новую служанку — немую девушку. Мне это показалось мрачным. — Зачем ты взял немую? — спросил я. — Мне сказали, что она очень искусна в уходе за знатными дамами. Умеет и причесать и умыть и одеть. А что немая, так это даже хорошо, меньше будет сплетничать. Немая служанка была рослая девушка, вся какая-то плоская, с прямыми и светлыми, как пакля, волосами. Ее голубые глаза все время были широко раскрыты или просто казались широко раскрытыми. Ее еще девочкой вывезли из каких-то дальних славянских земель, воспитали в правой вере, обучили, как холить и украшать женскую плоть. Что-то в ее лице казалось мне неуловимо знакомым, но где я видел подобные черты прежде, я не мог припомнить. Она, как многие глухонемые, была некрасива, но в грубых чертах ее лица проглядывало и какое-то изящество. Например, у нее был красивый подбородок, нежно-округло вылепленный, с маленькой ямочкой. Хасан пригласил множество гостей. Сельви вела себя нормально. Ей передали подарки Хасана, она приняла их. Хасан вел себя немного по-детски. Ему вдруг захотелось, чтобы на его свадьбе были воспроизведены все обычаи свадебные, какие только были. Он все выспрашивал мою мать и других старых людей о свадебных обычаях. Сама свадьба мне запомнилась, как что-то шумное и смутное. С утра прислали свадебный наряд для невесты — подарок жениха. Когда моя мать развернула и посмотрела, она сказала, что Хасан, должно быть, сошел с ума, так дорого это стоило. Помню, как я обувал невесту и клал по обычаю в ее туфли золотые монеты. После совершения брачной церемонии Хасан надел на шею Сельви ожерелье в три ряда из золотых же монет. Свадебный пир в Айдосе длился неделю. Потом невесту (впрочем, теперь уже супругу) Хасана повезли в Брусу. Ехали шумным караваном, с музыкантами и танцорами. Моя мать рассказала мне, что когда она спросила у Сельви, как прошла брачная ночь, Сельви ответила, что брачной ночи еще не было, Хасан отложил это до возвращения в Брусу. Мне это не очень понравилось, потому что показалось признаком того, что он нервничает и чего-то боится. Но ни я, ни моя мать ничего не стали ему говорить, чтобы не смутить и не раздражить его еще больше. Я не хотел, чтобы мать оставалась в Айдосе, совсем одна, и был очень рад, когда уговорил ее переехать в Брусу. Дом, в котором жили отец и мать, я пока сдал внаем. Думал было продать, но после решил, что он мне еще пригодится, когда я буду наезжать в Айдос. Загородный дом на берегу Босфора я запер и решил, что мы будем приезжать сюда на лето. Все эти хлопоты отняли какое-то время. Что касается дома, где жила Сельви, то он был просто заперт, но это меня уже не касалось, хозяевами были Хасан и Сельви, супружеская пара. Вот пусть Хасан и заботится об имуществе Сельви, я уже заботился достаточно.13 БЕЗУМИЕ
Едва мы прибыли в Брусу, как моя мать тотчас послала служанку в дом Хасана — справиться о Сельви. Служанка вернулась с известием, что госпожа Сельви никого не принимает. Так сказали служанке. Мать встревожилась и написала Хасану письмо с просьбой прийти к ней. Хасан не пришел, но ответил вежливым письмом, извинялся, уведомлял нас всех, что плохо себя чувствует (должно быть, переутомился на свадьбе), и потому не выходит из дома, Сельви при нем и они оба вполне счастливы. Я чувствовал во всем этом что-то странное и зловещее. Но с возрастом у меня пропала всякая охота к приключениям. В конце концов, почему я должен приглядывать за Хасаном и его супругой, вмешиваться в их семейную жизнь? «Что я — сторож брату своему?» — как говорят христиане. Но мать все тревожилась. Она написала письмо Сельви. Та не ответила. Мать стала изо дня в день говорить мне, что я должен пойти к Хасану и все узнать. — Что я должен узнать? — раздраженно спрашивал я. Мать упрекала меня в пренебрежении интересами семьи. — Наоборот, — заметил я. — Я только и делаю, что целыми днями забочусь о тебе, об Амиде и Фатиме (мои жены), о детях. А ты хочешь, чтобы я еще и вмешивался в жизнь Хасана! — Но разве ты не чувствуешь, что с Хасаном и Сельви что-то неладное творится? Разве ты не чувствуешь? Да, конечно, я это чувствовал. И знал, что мне придется в скором времени вмешаться во что-то ужасное и нелепое, и сотворят это ужасное и нелепое, конечно же, Хасан и Сельви. Я все знал, все чувствовал, обо всем догадывался. Я просто оттягивал время. Но я знал, что рано или поздно меня, любителя нормальной жизни, непременно завлекут в нелепые сети каких-нибудь безумных поступков Сельви и Хасана. Так все и случилось. Однажды ранним утром нашу семью разбудил громкий стук в ворота и крики: — Отворите! Отворите скорей! Все мы вскочили, наспех накидывая одежду. Моя маленькая дочь, годовалая Малика, заплакала и никак не могла успокоиться. Это еще увеличило суматоху в доме. Кормилица укачивала малышку. Другие дети тоже проснулись и поглядывали любопытными и испуганными глазенками. Я очень люблю своих детей. И теперь я был страшно раздражен тем, что нормальная жизнь моих детей нарушается бог знает из-за чего, из-за чьих-то прихотей и глупостей. Те времена, когда я сам жил своими прихотями; например, покровительствовал любви Панайотиса и Сельви, те времена давно прошли. Я велел кормилице и няне увести детей, а привратнику приказал отворить ворота. У ворот стояли стражники из городской стражи. Они привели… Ну, вы догадываетесь, кого? Да, вы не ошиблись, правильно угадали. Конечно, они привели Сельви! Она была похудевшая, измученная. И, по всему видно, совершенно обезумевшая. И не притворялась на этот раз. Глаза ее смотрели одичалым взглядом, лицо потемнело, волосы свалялись и поредели. Она молчала, смотрела прямо перед собой и будто ничего не видела. Ноги ее были босы. Стражники, обходя дозором рыночную площадь, заметили какую-то женщину, сидевшую на земле. Они подошли поближе и узнали Сельви. Они ее видели, когда Хасан устроил в Брусе свадебное торжество и показал невесту гостям и другим горожанам, всем, кто званый или незваный явился на свадьбу. Ее повели к дому Хасана. Но она, видно, поняла, куда ее ведут, вырвалась и побежала очень проворно. Стражники побежали следом за ней. Она бежала прямо к моему дому. Они поняли, что она не хочет возвращаться к Хасану, и решили оставить ее у меня. — Дело здесь нечисто, — сказал один из них. Мать расплакалась при виде Сельви, обняла ее, повела в дом. Бедную Сельви умыли, одели. Но она все сидела молча, понурив голову. — Надо послать за Хасаном и потребовать от него объяснений, — сказала моя мать. — Не стоит посылать, — ответил я. — Думаю, он сам скоро явится — требовать объяснений от нас! — Сельви должна остаться у нас, — решила мать. — Что он сделал с ней? Уж не сошел ли он с ума? — Вольно же всем сходить с ума! — сердито бросил я. — Только я обязан всегда быть разумным и серьезным. Разумеется, днем в наш дом пожаловал Хасан. — Я пришел взять Сельви, — уже с порога заявил он. — Вот и носилки со мной. Выглядел Хасан, как обычно. — Погоди, — заметил я, — сначала объясни, почему Сельви оказалась на площади и в таком виде? Нам ясно, что она убежала из твоего дома. Но почему? Что произошло между вами? Почему ты лгал моей матери, будто у вас все хорошо? — Это что, допрос в суде? — заносчиво спросил Хасан. — Нет, это просто попытка узнать, что же произошло с младшей сестрой моей матери. — Я не обязан давать тебе отчет. — Но она больна. — Дома ее лечат. Приходится держать ее под замком. Вот служанка не доглядела, Сельви и сбежала. — Немая служанка? — вспомнил я. Он кивнул. — Да, немая. — Хасан, почему ты не давал нам знать о болезни Сельви? — Я боялся, что вы подумаете, будто я дурно обращаюсь с ней и она из-за этого заболела. — Обычно ее болезненным припадкам всегда предшествовали какие-нибудь потрясения. — Потрясение было. — Какое? — Брачная ночь! — Но… — вопрос замер у меня на губах. Я примерно представлял себе, что могло произойти в брачную ночь. — Но вы стали мужем и женой? — тихо спросил я. — Да. — В чем же дело? Ее так потрясла обычная боль? Или ты был груб с нею? — Нет. — Что же тогда? — Виновен не я. — Она? — Нет. — Кто же? — Невсе ли тебе равно? — Может быть, ты хочешь сказать, что Сельви потеряла девственность еще до первой ночи с тобой? — Сказать так, значит, оскорбить ее! — Но мое предположение верно? — Да. — И теперь ты мстишь ей, держишь ее взаперти. — Нет, не так. — Что же тогда? — Не могу сказать. Ни тебе, Чамил, ни кому-нибудь другому. Никому. — Сельви останется у нас. — Нет, нет! — воскликнул он с отчаянием. — Она больна. — Я сам ухаживаю за ней. Чамил! Не отнимай ее у меня. После той первой ночи я осознал, что не могу жить без этой телесной близости с ней. — Ты хочешь сказать, — строго начал я, — что вступаешь в телесную близость с больной, не помнящей себя женщиной? Это дурно, Хасан. — Не тебе меня учить. Мальчишка! Это моя жена. — Она останется здесь, пока здоровье ее не поправится. — Нет! — Ступай домой, Хасан. — Нет, я не домой пойду, — выкрикнул Хасан. — Я пойду отсюда прямо в суд! И пусть суд решит, где должна находиться женщина — в доме своей сестры и ее сына, или же в доме своего мужа!14 ИГРА
Когда Хасан ушел, я прошел в комнату Сельви. Она сидела на постели и, натянув на растопыренные пальцы обрывок тонкой бечевки, играла в эту старинную игру — вывязывала на пальцах разные узоры, фигуры, что-то отдаленно напоминающие. Девочки, когда играют в эту игру, обычно приговаривают что-то вроде: «дом, гроб, колыбель» и так далее, в зависимости от того, на что по их разумению походят фигуры. Но Сельви играла молча. Увидев меня, она посмотрела равнодушно и продолжала играть. Она не узнавала меня. Я сел напротив нее и задумался. Я вспомнил, как она играла, когда мы были детьми, в ту же игру, сидя рядом со мной. Тогда я любил ее. Потом перестал любить. Ее болезнь убила мою любовь. Потом я любил ее, как сестру. Сейчас я совсем не люблю ее. Разумеется, я не властен над своим сердцем. Но все же я чувствую, что это дурно — то, что я не люблю ее, то, что я разлюбил ее из-за ее болезни. Я подумал о своей семье, о детях. Я люблю моих детей. Во имя этой любви я многим готов пожертвовать. Но сейчас я вдруг понял, что моя любовь к детям отдаляет меня от людей. Мои дети — это одно, а все остальные люди — нечто иное. Интересами этих остальных людей я всегда готов пожертвовать во имя своей семьи. Значит, мои дети, моя семья, моя любовь к моей семье — все это всего лишь повод для того, чтобы не любить людей. Я внушаю себе, что та жизнь, которую я веду, это нормальная жизнь, а всякий, кто пытается жить и любить иначе — ненормальный человек, и его чувства не имеют особого значения, кажутся мне несерьезными, нелепыми, ненужными и никчемными. Вот к чему я в этой жизни пришел. Вот так огрубели и уплощились мои чувства. Я сижу напротив безумной Сельви и смотрю на ее игру. Сельви не узнает меня.15 СУД
Хасан действительно отправился в суд и пришлось мне отправиться к городскому кади в качестве ответчика. Хасан обвинил меня в том, что я беззаконно держу в своем доме его жену. Я ответил, что моя мать — родная единокровная сестра жены Хасана, у них один отец. Кроме того, я был опекуном жены Хасана до ее замужества. Кади счел, что все это не является достаточным основанием для того, чтобы жена Хасана жила в моем доме без согласия своего мужа. Я указал на то, что внезапная болезнь Сельви — несомненно есть следствие того, что муж плохо обращается с ней. Но Хасан возразил, что может представить свидетелей, старых слуг и служанок, которые подтвердят, что Сельви болела и прежде. Суд был отложен и в следующий раз Хасан привел свидетелей, которые подтвердили его слова. Я в свою очередь привел свидетелей (моих слуг и служанок), которые показали, что когда Сельви привели в мой дом стражники, она выглядела не только тяжело больной, но и грязной, измученной, была плохо одета. Было похоже на то, что за ней плохо ухаживают. Хасан возразил, что за его больной женой ухаживала служанка, нарочно для того приставленная к ней. И ухаживала хорошо. А если женщина выглядела оборванной, грязной, измученной, то это всего лишь следствие ее побега из дома. Она разорвала платье, когда бежала, и выпачкалась на рыночной площади. Кончилось все тем, что суд признал доказательства, представленные Хасаном, вполне достаточными для того, чтобы вернуть его жену в его дом. Нам пришлось отдать Сельви. Она оставалась все такой же безучастной. Увидев Хасана, вначале стала упираться, затем покорно позволила увести себя. И все молчала. Моя мать была всем этим очень огорчена, винила себя. А я чувствовал лишь усталость от жизни и отупение.16 ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Вскоре после этого мне снова пришлось пережить потрясение. На этот раз дело касалось тюрьмы. Султан назначил специальных чиновников — ревизовать городскую тюрьму. Об этом говорили. Я также узнал об этом. И даже втайне от самого себя стал надеяться на то, что, быть может, отпустят на свободу Панайотиса. Я никогда не забывал моего друга. Он был единственное светлое в моей жизни. Сельви изменилась до неузнаваемости. Хасан стал чужим и враждебным. И только Панайотис в моем сознании, в моей памяти остался прежним. И когда я вспоминал его, я вспоминал и прежнего себя. Мне казалось, что прежде я был чище, лучше. И вот меня снова вызвали в суд. На этот раз я выступил в роли свидетеля, а также в роли потерпевшего. Мне задали вопрос, посылал ли я одному из заключенных одежду и провизию. Я ответил, что да, посылал. Спросили, сколько лет подряд я это делал. Я прикинул. Оказалось, почти двадцать лет (если не все двадцать). Короче, в руки чиновников, ревизовавших тюрьму, попали съестные припасы и одежда, которые я в очередной раз прислал Панайотису. Чиновники взялись выяснять, кому все это предназначено. И тут вдруг выяснилось, что много лет подряд я помогаю заключенному, которого нет в тюрьме. Все, что я присылал, смотритель тюрьмы и другие ее служители просто-напросто делили между собой. Это было тем более легко, что я не справлялся о заключенном друге. Они бы и последнее, присланное мной, разделили бы между собой, если бы оно случайно не попало в руки чиновников-ревизоров. Как же все это вышло? Оказывается, Панайотис даже и не сидел в тюрьме в Брусе ни одного дня. Он бежал, когда его везли из Айдоса. Стражники, которые везли его, боялись, что им придется отвечать за то, что упустили важного преступника, приговоренного к пожизненному заключению. Поэтому они добрались до Брусы и там вступили в сговор с тюремным смотрителем и его помощниками. То есть, за определенную мзду смотритель внес несуществующего заключенного в списки. А тут и я начал присылать одежду и съестное. Иметь такого заключенного, как Панайотис, который существует лишь в общих списках заключенных, и потому не доставляет хлопот, а даже напротив, приносит выгоду, оказалось очень приятно, доходно и удобно. Но вот этой хорошей жизни пришел конец. Все было раскрыто и пришлось тюремным служителям самим превращаться в заключенных. Известие о том, что Панайотис все эти годы провел не в тюрьме, более чем ошеломило меня. Значит, все, о чем я так много размышлял все эти годы; все, чем я жил, было основано на мнимости. Значит, во всем этом реальны были лишь мои мысли и чувства, а тот, кому они адресовались, оказался мнимостью, фантомом. Затем я подумал, что Панайотис, должно быть, бежал далеко, куда-нибудь в земли франков. И, конечно, я испытывал нечто вроде разочарования. И, конечно, Панайотис, живой, где-то там живущий какой-то жизнью, быть может, похожей на мою, уже не казался мне чистым и светлым. Но я даже не удивился такому обороту своих мыслей, такой смене чувств. Я уже немного узнал и людей и даже себя.17 ЖИЗНЬ
Прошло лет десять. Моя мать умерла. Дети росли. Изредка я видел в городе Хасана. Иногда он являлся ко двору. Но что-то словно бы отделяло его от остальной жизни, от людей какой-то невидимой стеной. Порою он выглядел совсем одичавшим, несмотря на то, что одевался по-прежнему нарядно и богато. Сельви я не видел. Но поскольку в доме Хасана не было ни похорон, ни поминок, я приходил к выводу, что она жива.18 И СНОВА ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Но однажды ко мне пришел один из доверенных слуг Хасана и рассказал, что господин его исчез. Сначала я не поверил. Затем напряг память и вспомнил, когда видел брата в последний раз. Это было… я назвал слуге число. Хасан ехал через рыночную площадь. — И вскоре после того, он исчез? — спросил я слугу. — Да, вскоре. Если только не в тот же самый день! — День еще выдался очень жаркий, — уточнил я. Так и оказалось. Об исчезновении полководца Хасана Гази донесли султану. Он распорядился искать и найти или самого Хасана, или его труп. Управлять имуществом Хасана он назначил меня. Считалось, что это только до возвращения Хасана. Но я уже чувствовал, что Хасан не вернется.19 СЕЛЬВИ — БРУСА
Слуги и служанки в доме Хасана показали мне Сельви. Она сидела взаперти в отдаленном строении во дворе. Когда-то в детстве она, помню, что-то такое говорила, о том, что хотела бы жить в каком-нибудь отдаленном строении. И вот, значит, сбылось. Она никого не узнавала, но не казалась неухоженной. Ухаживала за ней та самая глухонемая служанка, которую Хасан когда-то нанял. Сельви не узнала меня. Служанка сказала, что ее госпожа никого не узнает. Очень изменилась Сельви, страшно подурнела, я тоже с трудом узнавал ее.20 СТРАШНАЯ НАХОДКА
Жаль, что это случилось чуть ли не в день свадьбы моей старшей дочери. Я устал от шума и суеты и решил проехаться за город. Добрался до своей любимой горы. Вот он, мой Олимп. Я сошел с коня и стал медленно подниматься по склону. Вдруг — окликают, догоняют меня. Я обернулся — мой лучший слуга, его отец служил еще моему деду, отцу моего отца. — Что случилось, Али? На тебе лица нет. И вправду лица не было. Я начал поспешный спуск. Слуга мой, напротив, стал подниматься ко мне. Где-то на полдороге мы встретились. — Госпожа Амида (моя старшая жена) просила вас вернуться. Очень просила. Я знаю, что моя старшая жена — умная женщина, спокойная, и не станет зря тревожить меня. Поэтому я испугался и всю дорогу до дома, пока мы ехали, выспрашивал у слуги, что же все-таки произошло. Он отвечал мне, что мои жены и дети, и Сельви — все здоровы. — Что же тогда? — Вы все увидите своими глазами. Мне и говорить не хочется. Ему не хотелось говорить, а я не знал, что думать. У ворот меня встретила Амида. — Только не показывай вида! — шепнула она. — Ведь готовимся к свадьбе. Пусть никто ничего не знает. Вот только Али да садовник. Мы прошли во двор, мимо конюшен и других строений. Мы перебрались в дом Хасана с год тому назад, потому что я затеял переделывать наш дом. Из объяснений жены я понял, что садовник должен был что-то перекопать во дворе за домом. Он принялся за работу и вскоре натолкнулся на страшное. Когда я подошел, они уже лежали на дерюге. Оба трупа. Только что откопанных. Солнце щедро тратило на них, уже ничего не чувствовавших, свои теплые животворные лучи. Должно быть, солнце думало не о них, но о тех мухах и червях, которых уже вскармливала их плоть. Трупы сильно подверглись разложению. Но одежда… Ее можно было узнать… И черты лица… И мой тамбур, когда-то я подарил Панайотису… Да, одним из мертвецов был мой старший брат Хасан, вторым — мой единственный друг Панайотис. Я пристально вглядывался в его лицо. Это был он. Он снова был со мной. Мне казалось, что лицо его (то, что осталось от его лица) не было лицом зрелого мужчины, разменявшего пятый десяток, но так и осталось лицом семнадцатилетнего юноши. Мой светлый мальчик. Не обманул меня, не изменился. Пришел. Он здесь, со мной. Хасан был одет в домашнюю одежду. Панайотис — в нарядный красно-желтый шелковый халат и белый тюрбан — призрак музыканта! Они умерли разной смертью. Хасан — от удара ножом в горло, Панайотис был задушен. Кто же убийца? Или убийцы? Как оказался здесь Панайотис? Искал Сельви? Бедный мой друг. Он сохранил тамбур — мой подарок. Когда-то я подарил ему и его священную книгу — Евангелие. Кто знает, сохранил ли он эту книгу. Может быть, Сельви что-то знала о случившемся? Но ее, не осознающую себя, и спрашивать не стоило. — Думаю, надо бы спросить глухонемую, — предложила моя жена. — Ведь она давно прислуживает Сельви. Она наверняка что-то знает. Пошли за глухонемой. Отыскали. Я следил, как она себя поведет, увидев трупы. Она не испугалась, только поморщилась. — Как же говорить с ней? — раздумывал я вслух. — Знаками, — подсказал Али. — Много мы поймем через ее знаки! Здесь история очень запутанная, видно сразу, — заметил садовник. — Я буду говорить, — произнесла вдруг девушка глухим надтреснутым голосом. — Ты, стало быть, не глухая и не немая, — сказал садовник. — Зачем же ты притворялась? — Чтобы больше знать, — ответила девушка этим своим голосом, не повернув головы в сторону садовника. — Как тебя зовут? — спросил я. — Анна. — Где-то я уже слышал это имя. — Оно часто встречается, — вступила в разговор моя жена. — Нет. Я не это имел в виду. А! Вспомнил. Так звали мать Панайотиса. Девушка рассказала, что служила у одной госпожи как рабыня. Однажды она услышала разговор о женитьбе Хасана Гази, о том, что он ищет для своей жены опытную служанку. Когда господин Хасан пришел в гости к мужу ее хозяйки, девушка подкараулила его у ворот и подала маленькое письмо, в котором писала о том, какая она умелая прислужница, и просила взять ее в услужение. Хасан справился о ней у ее хозяев, те все подтвердили. Так она стала служанкой жены Хасана. — Но зачем ты этого добивалась? — спросила Амида. — Ты была влюблена в него? — Нет, — девушка покачала головой. — Скорее напротив! Я родом из селения Харман Кая. Этот человек, — она указала на Панайотиса, — приходился мне двоюродным братом. Меня и звали, как его мать, мою крестную. Так вот чьи черты проглядывали в ее лице — черты Панайотиса! — После смерти своего мужа госпожа Анна, мать Панайотиса, ушла в монастырь, и его отдала в мужской монастырь архангела Михаила. О его имуществе, оставшемся в Харман Кая, заботился один старый монах, очень добрый и веселый, отец Анастасиос. Он позволил нам, мне, моей матери и двум моим братишкам жить в доме Панайотиса. Мы были бедны. Однажды ночью вдруг прискакали турки на конях. Они искали Панайотиса, говорили, будто он похитил девушку. Они сожгли в деревне несколько домов и убивали людей. Наш дом, дом Панайотиса, сожгли в первую очередь. Мою мать убили, когда она пыталась спасти хоть что-то из имущества. Братья мои сгорели заживо. Я была еще маленькая. Никому не была нужна, осталась сиротой. Никто не заботился обо мне. Панайотиса, говорили, что не то казнили, не то посадили в тюрьму. Отца Анастасиоса сослали в дальний какой-то монастырь. Девушка посмотрела на лежащие трупы и вздрогнула. Мы все еще не знали, как нам быть. Я и сам не понимал, почему я не прикажу закрыть тела. Или нет, я прекрасно понимал, почему. Потому что я хотел видеть их, смотреть на их полуразложившиеся лица. — Я бродила по деревне. Голодная. Иной раз меня подкармливали сердобольные женщины. Какие-то путники проходили через Харман Кая и взяли меня с собой, Я доверчиво пошла за ними. Потому что они покормили меня. Мне было восемь лет. Но один из них стал жить со мной, как с женщиной. Я много вытерпела в этой жизни. Всего рассказывать не стану. Мне было так горько и больно, что я решила больше не произносить ни слова. Так и сделала. Люди, которые увели меня из Харман Кая, сели на корабль, и меня взяли с собой. Мы долго плыли. В жаркой стране, где росли высокие деревья с широкими зелеными листьями, меня продали в один дом. Я все молчала. Обучали меня ремеслу, как прислуживать знатным богатым женщинам. Я многое умею. Приехал к моим хозяевам человек в гости, и меня подарили ему. Снова он вез меня на корабле. Я поняла, что плыву на родину и благодарила Бога. От этого человека у меня было двое детей, но оба умерли сразу после рождения. Переходя из рук в руки, попала я в Брусу. И вот увидела я того, кто был виновником всех моих горестей. Потому что это господин Хасан сжег наш дом, убил мою мать, и братья мои сгорели! — девушка всхлипнула. Я внимательно посмотрел на нее. Она была не так уж молода. Ей было уже лет тридцать. — Господин Хасан, — продолжала девушка, и в голосе ее послышалась нескрываемая злоба, — говорили после, сделал все это из-за любви. Он был влюблен в ту самую красавицу, которую похитил наш Панко. Вот отчего господин Хасан был так свиреп! От любви! — губы девушки скривились насмешливо. — Я решила отомстить за свою погубленную жизнь! — Ты убила его? — тихо спросила моя жена. — Я хотела убить его. Но когда я узнала его жизнь, я поняла, что убить его было бы для него благодеянием. Нет, надо было, чтобы он жил и мучился, мучился! А он мучился! Сейчас расскажу вам, почему. Вот что рассказал мне Панко. Когда его везли в тюрьму в столицу, ему удалось бежать, захватив с собой один сверток, что дал ему на дорогу его друг Чамил. Я знаю, это вы, — она указала на меня. — Перед ним снова раскрывалась жизнь. Он мог идти, куда угодно. Мог бежать в далекие земли. Но он предпочел явиться к своей возлюбленной, к той самой девушке. Она обрадовалась, увидев его, но бежать с ним больше не пожелала. Она сказала, что их новый побег принесет людям новые несчастья. Она уже знала о том, что случилось в Харман Кая, а мальчика-слугу, который тогда помог им бежать, убил ее разгневанный отец. И вот она не захотела бежать во второй раз. Пожалела людей, чужих, просто за то, что это люди. Просто. За это и я ее после жалела, когда судьба нас свела. И вот Панайотис стал прятаться. В Айдосе рассказывали такую легенду — о призраке юноши-музыканта, который несет несчастье. Панайотис пробирался к своей возлюбленной, облачившись в такой костюм, в каком, как рассказывали, является этот призрак. Он думал, что если его кто и увидит, то и примет за этот призрак, а не за живого человека. Да и девушка время от времени говорила родным, будто видит призрак музыканта. Они решили, что если от их любви появится ребенок, они откроются людям и уже никто не сможет разлучить их. Но от великой любви дети, должно быть, не рождаются, а только от грязи и горя, — она вздохнула. — Так и жили влюбленные. Иногда девушка говорила Панайотису, что из-за нее он губит свою жизнь, зарывает в землю свои дарования. Но он отвечал, что в жизни ему нужно лишь одно — она! Он прятался, скрывался. Порою просто скрывался в ее доме. Потом девушку решили выдать замуж. За слабоумного. В первую же ночь Панайотис пробрался в спальню новобрачных и когда муж хотел обнять молодую жену, Панайотис едва не придушил его. После тот утверждал, будто его чуть не придушил призрак музыканта. Спустя еще какое-то время девушку хотел похитить разбойник, и снова Панайотис спас ее, он убил разбойника. А думали на девушку, будто это она сама убила разбойника и едва не удушила нежеланного мужа. Так они жили и только грустили оттого, что у них не было детей. Но вот девушку выдали замуж за господина Хасана, а я стала ее прислужницей. Сначала я готова была ненавидеть ее, за то, что она была красива, за то, что ее любили такой любовью, за то, что она была косвенной виновницей моей злой судьбы. Но когда я ее увидела и стала служить ей, я полюбила ее за кроткий нрав и доброту. Я стала поверенной ее тайн.21 БРАЧНАЯ НОЧЬ
В первую их ночь Панайотис явился в своей одежде музыканта. Он хотел помешать господину Хасану. Но тот, недолго раздумывая, схватил саблю, с которой не расставался, и ударил беднягу. Панайотис упал. Трудно мне рассказывать о том, что было дальше, как плакала бедная госпожа, как обезумевший господин Хасан овладел ею грубо и злобно. Он вызвал доверенного слугу и вдвоем они закопали труп в саду. Я пришла к этой странной могиле, чтобы оплакать мертвого, ведь он мне приходился братом, из всех моих родных я потеряла его последним. Стала я оплакивать его и тихо причитать, и вдруг заметила, что земля шевелится. Я кинулась раскапывать могилу. И ногтями, ногтями. Обломала ногти, после опомнилась — побежала за лопатой. Разрыла землю. Он был еще жив, дышал, хотя и много крови потерял. Я перенесла его в самый дальний угол двора, в одно заброшенное строение, выходила его. А госпожа с той ночи потеряла рассудок. Господин Хасан запер ее во дворе в одном строении, неподалеку от того строения, где я скрыла Панко. А дальше было вот что. Господин Хасан не мог без госпожи. Он тайком пробирался к безумной и овладевал ею. А она не узнавала его. Ей, похоже, было все равно. Панайотис поправился, но свою безумную возлюбленную не покинул. Так они оба и приходили к ней. Только господин Хасан — для телесной любви, а Панко — просто сидел и смотрел на нее, плакал и умолял ее очнуться. Но она не слышала. Много времени прошло. Я ухаживала за госпожой. Очень я боялась, что столкнутся господин Хасан и наш Панко. И однажды они столкнулись. Господин Хасан растерялся при виде музыканта, которого сам когда-то убил и похоронил. А Панко ударил его ножом в горло. И тут произошло самое страшное. Госпожа дико закричала. — Я призрак музыканта, призрак музыканта! — кричала она. Никто не мог услышать ее в самом дальнем углу двора. А она вдруг бросилась на Панайотиса, повалила его, схватила за горло, и была такая страшная — зубы оскалены, словно клыки, глаза выпучены, кровью налились. И рычала, как зверь. — Вот тебе, Хасан! Вот тебе! — бормотала она. Потом отскочила в сторону. Я глянула на лицо Панко и поняла, что он мертв, лицо посинело. Я хотела подойти к нему. И тут вдруг она двинулась ко мне на четвереньках, урча, как животное. Я перепугалась и бросилась бежать. Только на следующий день осмелилась прийти туда. И подумала: «А вдруг мне все приснилось?» Трупов не было. Моя безумная госпожа кротко сидела на постели. Я с опаской подошла к ней, она была тиха. Я заметила землю у нее под ногтями и поняла, что все было наяву, а земля под ногтями — это оттого, что она зарыла трупы. Лопата была неподалеку. Но где она их зарыла? Сказать она не могла. Да я бы и побоялась спрашивать. И искать я боялась. Страшно мне казалось — найти, раскопать двух мертвецов. Так и не искала.22 АННА
— Ты страшную историю рассказала, Анна, — задумчиво заговорил я. — Она так непохожа на правду, что, наверное, она и есть сама правда, голая, нагая правда. Ты много испытала горя. Прошлого не вернешь. Но скажи мне, чего бы ты хотела? Чем бы я мог тебе помочь? — Я хотела бы вернуться в Харман Кая, на родину. Снова увидеть берег Босфора, и монастырские стены, и родное селение. — Хорошо, Анна, — ответил я. — Я прикажу, чтобы тебя доставили на родину, дам тебе денег и приданое. Ты еще молода и еще можешь быть если не счастлива, то хотя бы спокойна. Девушка кивнула, затем произнесла нерешительно: — У меня есть еще одно желание. — Какое? — спросил я. — Приведите мою госпожу сюда. Пусть она простится со своим возлюбленным. Сколько раз бывало, что такие страшные потрясения возвращали разум самым безнадежным безумцам. Я велел жене привести Сельви.23 СМЕРТЬ СЕЛЬВИ
Мы увидели, как Амида ведет под руку бедную Сельви, а та волочит ноги по земле и горбится. Вот они подошли к нам. Вот Амида подвела несчастную поближе и та увидела своего возлюбленного. И чудо произошло. — Панко! — вскрикнула Сельви звонким юным голосом. На мгновение распрямилась, будто стала прежней, юной и прекрасной, и сердце мое забилось, как в юности, как в детстве. Все вернулось. На миг, но вернулось! А Сельви бросилась к телу Панайотиса и упала на него. И сердце ее больше не билось.ЭПИЛОГ
Мы похоронили всех троих по-разному. Хасана — в нашей усыпальнице. А Панайотиса и Сельви — на кладбище, где хоронят самоубийц, ибо только там можно хоронить вместе людей разной веры. Могилы Панайотиса и Сельви — рядом. И розы там цветут. И одно маленькое деревце выросло, славное такое. Анна теперь живет в Харман Кая. Она вышла замуж за одного местного жителя. Они живут хорошо. У них трое детей. Две девочки и маленький мальчик, которого зовут Панко. Я этому очень рад, потому что мне вера не дает назвать кого-нибудь из внуков в честь моего друга-христианина, как, впрочем, не мог бы и он назвать кого-нибудь из своего потомства в мою честь. Зато в семье одной из моих дочерей растет маленькая Сельви. Недавно я возвращался из Харман Кая, где навещал семью Анны; поиграл с маленьким Панайотисом и подарил ему серебряную погремушку и несколько золотых монет — «на зубок». Проезжая мимо монастыря, я увидел толпу. Подъехал поближе и спросил, что происходит. Мне сказали, что сейчас повезут по окрестным селам чудотворную икону святой Параскевы. Я спешился и еще приблизился. И увидел икону. Это была одна из удачных копий с той давней иконы Панайотиса. Я увидел Сельви. Она словно бы выглядывала из-за множества людских голов, и смотрела на меня тихо и серьезно. Все вернулось. Это была она. Такая как в детстве. И я любил ее. Люди поклонялись ей, ее изображению, даже не зная, кто она. Ибо они поклонялись именно ей, моей Сельви, а не святой Параскеве. Можно было смеяться над людьми. Люди странные. Легковерные. Жестокие. Безоглядно добрые. Люди! У меня защипало в глазах. Я вспомнил, как отец Анастасиос говорил, что я не должен стыдиться своих слез. Быстрым шагом я прошел через толпу. Меня пропускали, давали дорогу, расступались, не понимая, что делает турок вблизи христианского монастыря. Я подошел к своему коню, уткнулся лицом в его теплый дышащий бок и заплакал. Фаина Гримберг — поэтесса, прозаик, переводчица. В ее переводах опубликованы романы Стефана Цвейга, Агаты Кристи и других западноевропейских писателей; а также произведения болгарских авторов — Л.Михайловой, Д.Коруджиева, Д.Цончева, К.Топалова, Т.Лижева и т. д. В переводе Ф.Гримберг опубликован роман «Лавина» известной болгарской писательницы и политической деятельницы, бывшего вице-президента Болгарии Благи Димитровой.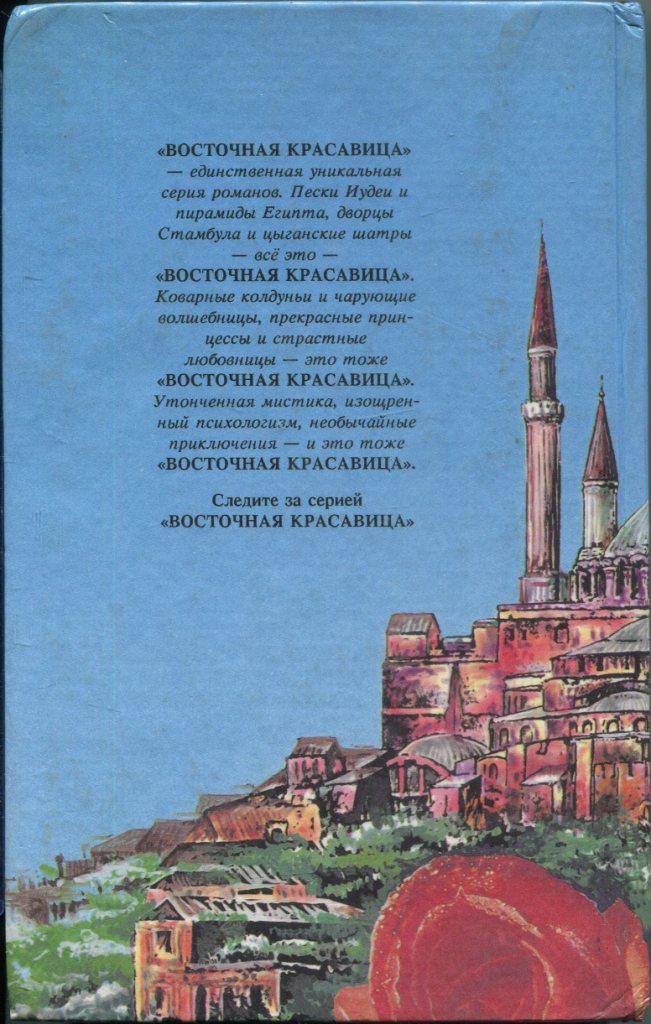
«ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА» — единственная уникальная серия романов. Пески Иудеи и пирамиды Египта, дворцы Стамбула и цыганские шатры — всё это — «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА». Коварные колдуньи и чарующие волшебницы, прекрасные принцессы и страстные любовницы — это тоже «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА». Утонченная мистика, изощренный психологизм, необычайные приключения — и это тоже «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА».
Следите за серией «ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА» Внимание! Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения. После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий. Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Последние комментарии
4 часов 55 минут назад
9 часов 11 минут назад
9 часов 20 минут назад
9 часов 25 минут назад
9 часов 46 минут назад
9 часов 54 минут назад