Белая Мария [Ханна Кралль] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
Annotation
Ханна Кралль (р. 1935) — писательница и журналистка, одна из самых выдающихся представителей польской «литературы факта» и блестящий репортер. В книге «Белая Мария» мир разъят, и читателю предлагается самому сложить его из фрагментов, в которых переплетены рассказы о поляках, евреях, немцах, русских в годы Второй мировой войны, до и после нее, истории о жертвах и палачах, о переселениях, доносах, убийствах — и, с другой стороны, о бескорыстии, доброжелательности, способности рисковать своей жизнью ради спасения других. Документальная правда соседствует у Ханны Кралль с вымыслом. «Белая Мария» — волнующие истории о судьбах людей, нанизанные на нить жестокого, трудного времени.
На русском языке книга издается впервые.
Ханна Кралль
Часть первая
1. Мать
2. Крестные родители
3. Марек
4. ***
5. Кшиштоф В[6]
6. Я.Ш., крестный отец
7. ***
8. Я.Ш., продолжение
9. Граф
10. Марек — продолжение
11. Марек — продолжение
12. М.Э.
13. Йохи
14. Юлианна
15. Графиня
16. Ворота
17. Сценарист
18. Я.Ш. — продолжение
19. Я.Ш. — продолжение
20. Подвалы
21. Женщина
22. Соседка
23. Социальная работница
24. Мария
25. Четырнадцатая
Часть вторая
1. Дорога
2. Галантерея
3. Ветер
4. Осмолице
5. Доктор
6. Мать Стеца
7. Приговоры
8. Мельница
9. Ветеран
10. Дочь
11. Поручик
12. Родственники
13. Рояль
14. К. К.
15. Экспонаты
16. Экспонаты, продолжение
Часть третья
Часть четвертая[92]
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Ханна Кралль
Белая Мария
Часть первая
Восьмая заповедь
1. Мать
А ложное свидетельство у тебя есть? — спросил ты[1]. (Ты любил задавать такие вопросы. Есть у тебя благородный коммунист? А иллюзионист? Может, и антикоммунист найдется?)
На этот раз имелась в виду заповедь. Восьмая, добавил ты. Не произноси…
У меня было. В самый раз для твоего фильма.
О женщине и мужчине, которые стояли в дальнем конце стола…
Нет. О матери, которая стояла напротив, довольно далеко от них, потому что стол был длинный.
Снова не так. О девочке, которую мать держала за руку…
Нет, все-таки о женщине и мужчине. Вежливые, приветливые, средних лет, у женщины на плечах гуральский платок, цветастый, с бахромой.
Стол был накрыт чем-то белым, то ли скатертью, то ли салфеткой.
Мать не захотела садиться. Смотрела выжидающе на хозяев, на эту пару у стола, но видно было, все яснее было видно, что они никуда не торопятся.
Как вы знаете, начала женщина, мы люди верующие..
(Мать кивнула. Серьезно, с уважением.)
А нужно лгать.
И где, в храме. Перед лицом Господа Бога.
Вы должны…
Пальцы сплетали и расплетали концы бахромы.
Вы должны нас понять.
Ее фамилия (жест рукой в сторону девочки).
Ее имя (жест рукой).
Почему такая большая, почему так поздно, а что с ее отцом? Вдруг ксендз спросит, что с отцом?
Все неправда, ну просто все, и где, в храме…
Она говорила все сбивчивее, все сильней нервничая: вы должны понять…
Незачем было это повторять, мать поняла с первого раза. Они люди верующие, лгать не могут, свидетельства о крещении не будет.
Попрощалась.
Они спустились по лестнице.
Вышли на улицу, остановились.
Стояли, стояли…
Сколько можно стоять посреди улицы. Когда волосы, которые мать в то утро обесцвечивала особенно старательно, прядка за прядкой, при свете летнего дня еще желтее, чем обычно, ужас, какие желтые. О глазах и говорить нечего… сколько можно… Пойдем, шепнула девочка. Пойдем. Ну пойдем же.
Годится?
Конечно, обрадовался ты. Но… ты замолчал, снял очки, взял сигарету.
Но?..
Там было что-то еще.
Да? И что?
Не знаю.
Ничего не было.
Ты упорствовал: было, только мы не знаем — что.
Ну и вы — ты и твой сценарист[2] — вставили гестапо. На всякий случай. А еще АК — хозяин был связан с Кедивом[3]. Люди, к которым они должны были пойти с этим свидетельством, работали на гестапо, крестных родителей могли схватить, хуже того — могла провалиться вся аковская подпольная группа. (Сведения были ложными, никто на гестапо не работал, но выяснилось это слишком поздно.)
Вам все стало ясно.
Вы написали сценарий.
Кроме гестапо, вы вставили человека, который привел девочку, это он держал ее за руку. От матери ты отказался. Вы — ты и соавтор сценария — решили, что будет вечер. «Вечер, холодно, девочка замерзла».
А был не вечер, был день. Трамваи, рикши, много прохожих и желтые волосы.
Чая тоже не было, ну да ладно, ты хотел, чтобы был чай, пускай. Поставил на стол чашки (из хорошего фарфора, добавил ты, хотя все разные). Выпей чаю, уговаривала хозяйка девочку.
Опять показывали «Декалог», восьмую часть. В неплохое время, сразу после концерта на пляже в Рио-де-Жанейро.
И опять я недоумевала. Почему ты не поверил, что это из-за Бога? Девочка поверила. Точно. Я ее довольно хорошо знала.
2. Крестные родители
Читай вслух.
Quid petis ab eccl… ecclesia…[4] Это ксендз. А мы: веры. По-польски.
Что — веры?
Требует. Потому что он спросит, чего требует от Церкви Божией.
Кто?
Она, естественно, ее ведь будут крестить. Fides quid… Это ксендз. Что дает тебе вера.
И что дает?
Вечную жизнь. Это мы.
А ксендз только к ней обращается?
Ее же будут крестить, значит — к ней.
Если к ней, пусть она и отвечает.
Ей нельзя. До семи лет говорят крестные, как за младенца. А если родители умерли, так крестные вообще всё.
Что — всё?
Опека, воспитание. Всё. Ксендз так сказал.
А можно по листочку?
Ксендз просил наизусть. Но в случае чего причетник подскажет.
И причетник тоже будет?
Должен быть. Дальше ксендз спросит ее про сатану. Отрекаешься ли ты от злого духа? Отрекаюсь. Повтори.
Отрекаюсь.
И от всех дел его?
Отрекаюсь.
И от всей гордыни его? Ну и крестит ее. И подает нам свечу, а мы…
Погоди. Он-то себя как вел?
Кто?
Причетник. О чем-нибудь спрашивал?
Почему так поздно. Удивлялся: только сейчас собрались крестить? Я объяснила, что отец был безбожник, а он: и дед тоже безбожник? А мать с бабкой не могли позаботиться, чтоб окрестили?
Так и спросил?
Ну. И еще органист. Про мать. Он должен будет записать в метрическую книгу. Хвастался, что учился каллиграфии… Будешь дальше слушать? Мы берем свечу, и ксендз говорит: прими зажженную свечу и храни свое крещение безупречно, дабы, когда придет Господь на свадебный пир, ты смогла Его встретить… Красиво. Были б у нас дети, мы бы их тоже так красиво крестили… Чего молчишь?
Думаю.
О чем?
О том, что если родители… Отца уже нет, мать в любой момент… Тогда мы с ней уже навсегда?
Навсегда. Ксендз так сказал.
Чего замолчала?
Крестить будем в ризнице, под распятием. Распятие аж до потолка, и фигура вся как на ладони. Я смотрела на лицо. На стопы. Хорошо так врать при Нем? Она ни веры от Церкви не требует, ни сама в Церковь не верит, даже имени настоящего не называет. Ты хоть знаешь, как ее зовут?
Так это могло выглядеть.
Так они могли бы разговаривать и в твоем фильме, понадобились бы только еще кое-какие типичные для оккупации детали. Тусклый свет карбидной лампы, хлеб с солью и капелькой подсолнечного масла, затемненные окна… твой сценограф отлично знает, как это делается.
Вот только другого фильма уже не будет.
3. Марек
Прожила у них она (девочка эта)… сколько — неделю? две? И всякий раз одно и то же: просыпается ночью и не знает, где она и как попасть в уборную. Такая большая и писается, удивлялась утром хозяйка. Тем не менее было неплохо. В шкафу щель, дальше ниша, можно даже присесть. Она туда залезала, когда должны были прийти чужие. Однажды пришел мужчина. Не постучался. Может, у него был ключ, может быть, хозяева не заперли за собой дверь. Скорее, был ключ. Он ее сразу заметил. Еще пальто не снял, еще не отпустил дверную ручку, а уже на нее смотрел. Наконец закрыл задвижку — и улыбнулся.
Здравствуй, сказал.
Она молчала.
Он повторил: здравствуй, я — Марек…[5]
Она встала.
Прошла мимо мужчины и…
Как можно было?! Она, смышленая шестилетняя девочка, которая в тайнике ни разу не заплакала, не кашлянула… Что сделала? Вошла в шкаф!
При чужом человеке!
Раздвигала одежду, искала проход! Нет, ей не было страшно. Она злилась. Обозлилась ужасно. Надо же, так себя повела, на глазах у чужого. Как идиотка. Мало того что позволила застичь себя врасплох, еще и прячется. Что он о ней подумает? Вот, подумает, дурочка! От злости и стыда она расплакалась. Ее плач доносился из шкафа, из-под пальто, которые свалились с плечиков… Перестань, говорил Марек, выпутывая ее из вороха одежды. Успокойся, детка…
Новые хозяева потребовали свидетельство о крещении. Прежние должны были стать крестными. Остальное ты знаешь: мужчина и женщина в дальнем конце стола — стол, накрытый чем-то белым…
4. ***
Ну да, не по порядку, знаю.
Должно быть: «…я — Марек».
Потом разговор о крещении.
Потом: «А ложное свидетельство у тебя есть?..»
А нужно, чтобы по порядку?
Так возьми и переставь.
5. Кшиштоф В[6]
…о крестном отце.
Что он был трусоват.
(Не был.)
Как это — не был? Бога не боялся?
(А, Бога. Ну, возможно…)
Интересно, когда больше. Когда согласился солгать и пойти крестить или когда отказался.
А может, просто испугался, что никогда уже от нее не избавится?
(От этой девочки, черненькой, с большими испуганными косящими глазами…)
Ну да. Только коснись еврейских дел — хлопот не оберешься. Того и гляди, в семье начнутся беды. Сиди и жди: что еще на тебя свалится. Только коснись…
Вот и все, что сказал твой тезка, тоже, кстати, режиссер, коллега.
6. Я.Ш., крестный отец
Ты был прав: было что-то еще.
Подпольная деятельность, как оказалось. Термитки и особые задания. Не АК, наоборот, коммунисты.
Термитки? Заряды, которые взрывались не сразу, их подкладывали в немецкие военные поезда, идущие на фронт. Про особые задания я до сих пор ничего не знаю. Он о них вспомнил, когда после войны захотел к соратникам. Его взяли, бумаги у него были лучше некуда: письмо, написанное лично бригадным генералом, одним из командующих польской армией. «Я знаю Я.Ш., он предан нашему делу, — писал генерал. — Может пригодиться в милиции или в органах безопасности на Возвращенных землях[7]».
7. ***
Я.Ш. пригодился на Возвращенных землях. Как и полагал бригадный генерал. (Которого все называли Марек, такой у него во время войны был псевдоним.)
8. Я.Ш., продолжение
Первым делом он принес присягу: к обязанностям своим относиться ревностно, поручения исполнять неукоснительно, секретную служебную информацию не разглашать, а в поступках руководствоваться представлениями о чести, порядочности и социальной справедливости. (Текст ему дали на листочке, достаточно было поставить подпись.)
Затем он получил: два офицерских мундира — шевиотовый и габардиновый, сапоги — хромовые и юфтевые, дерюжный поясной ремень и кожаный портфель. Портянок ни летних, ни зимних не выдали, в графе «портянки» значится: кокарда, одна штука.
Ему поручили немецкий сектор. Немцы и автохтоны. Немцев он выселял, за автохтонами присматривал, чтобы не поддавались на подстрекательства врага. Время от времени допрашивал тех, кто служил в АК. Одной из аковских девушек признался, что, хоть на фуражке у него орел без короны, но настоящего он сохранил. Придет время, снова буду его носить, заверил он девушку, полез в ящик и из самой глубины достал орла в короне[8].
Девушка из АК готова была пойти на сотрудничество с госбезопасностью. Послушай, детка, по-дружески отсоветовал ей Я.Ш., забудь, достаточно, что один из нас уже здесь. О чем не преминул сообщить в специальном донесении спецагент С-10.
Я.Ш. арестовали семь лет спустя.
За Эрика фон Ц., которым он занимался как немцем.
9. Граф
Фон Ц. был немец, граф и живописец. Жил в приморской местности. Было ему под шестьдесят. Высокий, худой, говорил мало, много курил, гулял с собаками по пляжу и смотрел на море.
Охотнее всего он рисовал солнце — восходы и закаты, но и весенние волны, и осенние штормы, приливы, отливы, дюны, каменистые пляжи… Рисовал Иисуса, идущего по волнам, а также маршала Роля-Жимерского[9]. Маршала без волн и размером пятьдесят на тридцать шесть сантиметров. Ленин, Сталин и Берут были побольше: пятьдесят четыре на семьдесят четыре каждый.
Около Ленина, Сталина и Берута[10] в перечне работ Эрика фон Ц. можно увидеть пометку: по заказу Управления общественной безопасности.
Стало быть, портреты заказывал Я.Ш. Платил, надо думать, прилично, и художнику хватало на краски. На спиртное, может, и не хватало, но бутылку Я.Ш. приносил с собой.
Он часто приходил, обычно вечером.
Выпивали. Разговаривали. Умолкали. Выпивали…
О чем они могли разговаривать — немецкий граф и польский офицер госбезопасности?
О термитках? Об особых заданиях? Но фон Ц. не воевал, староват был, к тому же у него была астма. Кажется, он копал рвы в каком-то лагере. Зато мог упомянуть двоюродного брата, Йоахима фон Ц., сокращенно Йохи. Тот тоже был граф, но по убеждениям левый и водил дружбу с другими левыми, например, с Есенской[11].
С кем? — мог в этом месте спросить Я.Ш.
С Миленой, приятельницей Кафки.
Чьей приятельницей? — мог допытываться Я.Ш., потому что ни в семилетке в Накле, ни на кулинарных курсах, которые он закончил, про Кафку им не рассказывали.
Кузен Йохи помогал евреям — фон Ц. перешел на почву, на которой собеседник чувствовал себя гораздо увереннее. Когда Гитлер занял Чехословакию, Йохи вывозил их в Польшу.
Упоминание о евреях могло кое о чем напомнить Я.Ш. Например, он мог сказать: «и я…» Или: «и у нас…», либо даже: «была однажды такая история…»
Нет, ничего этого он не сказал. Какое было дело графу до несостоявшихся крестин? У него хватало своих забот. Граф боялся, что его выселят. Что не дадут гражданства, даже права на проживание не дадут. Что не впустят Гизелу, его дочь. Что узнают про парабеллум. А больше всего он боялся худшего: разлуки с морем.


больше всего он боялся худшего: разлуки с морем
Я.Ш. ему помог. Во всем.
Граф остался в Польше.
Из Германии приехала Гизела. Она была медсестрой, ее взяли на работу, Я.Ш. попросил заведующего больницей.
И только этот парабеллум… Граф спрятал, Я.Ш. не сообщил. А еще эти вечерние разговоры… Агент С-10 не сомневался: немецкого графа и польского офицера госбезопасности могло связывать только одно — шпионская сеть.
Я.Ш. арестовали.
Он сдал дежурному партийный билет, фотографию жены — хрупкой шатенки с правильными чертами лица, из которой сегодняшние визажистки сделали бы настоящую красавицу, — и ежедневник на 1952 год. Это был плохой год для друзей Я.Ш., подпольщиков-коммунистов, но в его деле прокурор не усмотрел состава преступления. Довоенный парабеллум спрятал от Красной армии немощный старик, а что касается шпионской деятельности (продолжал прокурор), то не обнаружено «моментов, которые указывали бы…».
Я.Ш. получил обратно партбилет, фотографию и ежедневник и явился к своему начальству. Увы. Шпионом он, возможно, и не был, но проявил преступную бездеятельность.
На этот раз потребовалось сдать уже всё. Офицерские мундиры, дерюжный ремень, кожаный портфель и кокарду, одну штуку. И дать обещание не разглашать секретную информацию. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Текст был на листочке, достаточно было поставить подпись.
Миссия, возложенная на Я.Ш. генералом Мареком, была завершена.
10. Марек — продолжение
Май был теплый, цвели форсиции и сирень, служба у Я.Ш. теперь была гражданская, в порту, наконец-то у тебя появилось свободное время, радовалась жена. В кино шло «Сказание о земле сибирской»[12]. Они купили билеты, жена надела летнее платье. Погас свет, и началась хроника.
Они увидели зал суда. Закадровый голос сообщил, что в Варшаве продолжается процесс генералов, показания дает свидетель, генерал…
Перед судейским столом стоял Марек. Худой, грустный, со страхом в глазах говорил о предательстве. Предатели, повторял…
Кто? — не поняла жена.
Тихо, шепнул Я.Ш.
В наших рядах имел место заговор… — продолжал Марек.
Что имело? — шепнула жена.
Тише, ну пожалуйста…
Свидетель подтвердил все пункты обвинительного акта, объявил диктор.
Господь милосердный, шептала жена.
Начался фильм. На экране появился актер, в которого были влюблены все сотрудницы Управления госбезопасности, — Владимир Дружников.
(Отказываешься ли ты?.. Как там было? — спросил Я.Ш.
Был вечер, они возвращались со «Сказания о земле сибирской».
Она не поняла.
С сатаной этим… Отказываешься…
Отрекаешься. Отрекаешься ли ты от злого духа. Почему ты спрашиваешь?
И… от чего еще?
И всех дел его… Зачем тебе это? Что тут смешного?
Он смеялся все громче.
Имело место предательство… Отрекаюсь.
Имел место заговор… Отрекаюсь.
Перестань, испугалась жена, но на улицах было пусто и темно.)
11. Марек — продолжение
Был создан штаб. С целью оперативной разработки «объекта М.», М. — тот самый генерал.
Возглавил штаб капитан из министерства общественной безопасности. В его распоряжении были два офицера, десять агентов в штатском, два водителя, женщина, помогавшая по хозяйству, и дворник. А также автомобиль, шестицилиндровый «ситроен».
Дворник наблюдал за квартирой генерала. Домработница готовила на семью генерала, подслушивала и записывала, о чем они говорят. Офицеры следили, чтобы объект М. не убежал за границу; при попытке бегства штаб должен был ему помешать, однако без применения огнестрельного оружия.
Генерал вернулся к своей профессии архитектора, работал в проектном бюро. Пришел на работу, в комнате ждал офицер. Они были знакомы, генерал протянул ему руку, офицер руку взял и уже не выпустил.
Объект М. просидел в тюрьме шесть лет. Допрашивали его каждый день. Обвиняли в том, что он участвовал в заговорах, шпионил, намеревался свергнуть существующий строй и захватить власть. Он охотно, немедленно сознавался. Враг проник, говорил, а я не сумел отмежеваться. Да, имели место диверсия и саботаж, а также халатность и потеря революционной бдительности…
Подруге по партизанским временам сказали, что он хотел ее убить. Она поверила. Да, негодяй, говорила, но почему? Потому что агент? А чей агент? Она должна была выступить свидетелем на суде над генералом, и один из руководителей органов безопасности учил ее, как себя вести. «Голову слишком высоко не поднимайте, это нескромно… Но и слишком низко не опускайте, члену партии не пристало. Говорите не слишком громко и не слишком гладко… Но и не слишком тихо, чтобы не создавалось впечатления, будто вы очень подавлены. А самое главное — никакого пафоса. На вопросы отвечайте ровным бесстрастным голосом…»
Генерал очень старался помочь следователям. Я все скажу, заверял их, клянусь, все, что только помню, а если чего-то не помню, подскажите, я признаюсь, я хочу еще послужить нашей партии… Страстно хотел отмежеваться от своих ошибок, однако до этого надо дорасти, а он еще не дорос, хотя знает, что ошибался, но на его ошибках партия вооружится и укрепит свои силы.
Камера была сырая и холодная, днем и ночью горела лампочка под потолком.
Утром давали ячменный кофе и кусок хлеба, в полдень — водянистый суп. Газет, книг, писем не давали. Он часто плакал. Пытался себя покалечить. Кричал во сне, постоянно зяб. Просил следователей, чтобы его убили. Зачем время на меня тратите, товарищи, повторял, уж лучше со мной кончайте.
12. М.Э.
Телефонный звонок из Мерана[13]: приглашают на литературные вечера. Стихи Зебальда, проза Герты Мюллер и мой «Червонный король»[14].
Меран? С удовольствием. Погляжу, куда Марек Эдельман[15] собирался везти Гражину Куронь[16].
Гражина умирала, Яцек[17] сидел в тюрьме, а М. Э. рассказывал сказку. (М. Э. не любил страха. Чужого — сам он страха не знал. Потому и проводил людей через смерть. С ним не было страшно, люди даже не понимали, что умирают.)
Когда ты выздоровеешь, говорил М. Э. Гражине, я куплю тебе платье из органди. И зонтик от солнца, шелковый, с оборками. И мы отправимся в Меран.
Я бы предпочла Святую землю, возражала Гражина. Увидела бы Крестный путь…
Хорошо, соглашался М. Э., зайдем и на Крестный путь, но ненадолго, мы будем спешить в Меран.
Мы собирались ехать в коляске, рассказывал мне М. Э.
В коляске? — возмущалась я. Муж в тюрьме, а вы…
Не волнуйся, успокаивал меня М. Э. Он бы поехал с нами, сел рядом с кучером.
Вы в коляске, а муж с кучером?!
М. Э. рассердился: на облучке дует, я старый, хочешь, чтобы я застудил почки? А Яцек молодой, пускай себе сидит.
Гражины нет.
Яцека нет.
В путеводителе написано: климат мягкий, средиземноморская растительность и культурное влияние Центральной Европы, незабываемая атмосфера для творческих людей. Франц Легар приезжал, и Бела Барток. И Кафка. И всегда много курортников, поскольку в тамошней водолечебнице (написано в путеводителе) принимали превосходные еврейские врачи.
Кафка останавливался в «Оттобурге», и М. Э. мог бы. Скромный уютный пансионат. Ящерицы и птицы приходят в комнату, а балкон захлестнут цветущими кустами, рассказывал Милене Франц Кафка.
Прогулки — обязательно по Променаду. Слева — река, справа — Курхаус (какой огромный, сказала бы с восхищением Гражина, а какой белый…). Это здесь те самые превосходные врачи… Помогли бы они Гражине с ее загадочной болезнью легких? Вряд ли, раз М. Э. не вылечил. Тоже ведь превосходный еврейский врач.
Нету дам с шелковыми зонтиками.
Туристы есть. В адидасах, джинсах и пропотевших футболках. Позируют для фото перед водолечебницей и среди цветущих олеандров. В пассаже под аркадами примеряют китайские кофточки. В ресторане битый час ждут официанта. По полу прогуливаются воробьи, синицы и голуби, со столиков им бросают остатки пиццы.
Дорогой М. Э., хотела я сказать. Вы с Гражиной не успели. Не жалей, того Мерана уже нет.
Хотела сказать, но не успела.
М. Э. нет.
13. Йохи
Судьба Франца Кафки напугала Милену, и этот страх застрял в ней на всю жизнь. Страшна была его болезнь и смерть. Его инакость. Это — особенно. А тут ей показалось, что дочка влюбилась. Она начала кричать: не хочу, чтобы влюблялась в чужого! А если влюбишься, не выходи за него! А если выйдешь, не рожай от него детей. Обещай мне, что у тебя не будет детей от чужого!
Это не была неприязнь к чужим. Это был страх перед их судьбой. Так считала Яна, дочь Милены. Страх. Хотя тот чужой не был евреем. Наоборот. Он был воплощением нееврейства. Ариец. Немец. Голубоглазый блондин. К тому же граф: Йоахим фон Ц.
У него был собственный замок, Neuschloss[18], где-то на севере, предки поселились в Чехии в тринадцатом веке. А еще у него был элегантный автомобиль «аэро»[19] — белый, с черной сдвигающейся крышей и коричневыми крыльями. В тридцать девятом он возил в нем евреев и социалистов. Помогал им перебраться в Польшу через зеленую границу[20]; в Польше их снабжали английскими визами. Была весна.
Собирались в Праге, в квартире Милены. По нескольку дней, а то и около двух недель ждали Йоахима. Граф приезжал и осматривал багаж. Говорил: это придется оставить. Люди приходили в отчаяние. Весной тридцать девятого нелегко было расстаться с чемоданом. Дочка Милены наблюдала за беглецами с жалостью. Об одном из них она после войны скажет: человечек. Человечек был евреем и дрожал от страха. Йохи? Йохи никогда не дрожал, он ничего не боялся, Яну восхищали его отвага и удаль. А тот человечек сломался и решил пойти в гестапо. Если я сам приду, говорил, это сочтут смягчающим обстоятельством. Он не знал, что гестапо должно смягчить, но рвался уйти. Йоахим и Милена уложили его в постель и дали снотворное, утром они с Йоахимом сели в «аэро». Автомобиль был двухместный, и Йоахим мог брать только одного пассажира. Он ездил много раз. После войны пассажиры писали ему письма. Эти письма сейчас в Мемориале Яд ва-Шем[21] в Иерусалиме, потому что Йоахим — Праведник народов мира[22]. Я счастлив, что вы живы, писали ему. Вы спасали, рискуя жизнью. Меня объявили в розыск, Господи, еще немного, и мне был бы конец. Мы убегали ночью, лесом, под проливным дождем, лес этот никак не кончался. Могу ли я что-нибудь для вас сделать? Пожалуйста, скажите мне, непременно. Бедная Милена. Необыкновенный человек. Мне стыдно, что я живу, что я спас свою жизнь, а она, такая замечательная…
В числе пассажиров «аэро» был Эвжен Клингер, последний мужчина Милены Есенской. Она пообещала, что приедет к нему в Лондон. Прошло лето. Первого сентября прекратилась переправка через границу. Милену арестовали в ноябре. Она умерла в Равенсбрюке[23].
14. Юлианна
Поезд набирал скорость, миновал шлагбаум, мальчик пытался вскочить, схватился за поручень, споткнулся… Лежал на рельсах, какой-то разбросанный. Учебники, тетради, белый шарфик, русые волосы, все разбросано, но что раздавленный — не было видно. Только когда она подбежала… Кровь текла, потому что сердце продолжало ее качать, потому что сердце не знало, что он уже не живой.
Она ходила к нему прямо из школы. Рассказывала, что на уроках, что дома, говорила, что никогда ни в какого мальчика не влюбится. Каждый день ходила, в сумерки, в стужу, всегда одна, и каждый день обгоняла женщину с велосипедом. Та на нем не сидела, не ехала — вела велосипед, как вьючное животное. На багажнике лежали цветы, на руле висели сумки и лейка, в сумках позвякивали бутылки с водой. Женщина возилась на соседней могиле. Потом присаживалась, доставала вязанье, спицы и вязала. Немолодая, неприметная, похоже, старая дева, в байковой кофте и гарусной жилетке, которую сама себе связала. К этому очки, платок на голове, осенью боты, летом полукеды и гольфы, сползающие до щиколоток. Странно: приходит на могилу к родителям, а по могиле видно, что родители графского рода, Эрик и Теодора фон Ц.
Они встречались каждый день, и только здрасьте — Grüss Gott — триста шестьдесят пять раз — Grüss Gott — здрасьте, а так — нет, разговоров не заводили.
Прошли годы. Она пришла, полила цветы, зажгла лампадку. Сказала: я выхожу замуж. Встретились у железной дороги, за шлагбаумом, где ты… где твой поезд… Опять был поезд, но этот сошел с рельсов и остановился. Приехал кран, поднимал вагоны. Люди стояли, смотрели, я тоже стояла. Поднялся ветер. У меня длинные светлые волосы, ты ведь помнишь, правда? Они рассыпались, ветер их трепал… Он стоял рядом, высокий, молча. Не смотрел на поезд, смотрел на волосы…
Она была мастером ремонтной бригады. Получила задание: крыша протекла, заливает мансарду. Осмотрела стены, сырость, грибок, несколько кошек, самая маленькая — на коленях у хозяйки. Хозяйка сгорбленная, седая, в очках, в гарусной жилетке. Женщина с кладбища, графская дочка, Гизела фон Ц. Вместе поднялись в мансарду, и она увидела море. Штормовое черное или синее и спокойное, как колыбельная, в рамах и неокантованное, на стенах, на полу, прислоненное к мебели и к печке, выкрашенной в коричневый цвет.
Она пообещала прислать рабочих.
Графиня хотела знать точно: когда, пани майстер?
Как протрезвеют, сказала она так же деловито и подошла к картинам. Это всё — ваш отец?
Всё, подтвердила графская дочка. Здесь рисовал, здесь и умер. Mutti лежала внизу, уже не вставала, я не сказала, что он умирает. Она услышала шум. Мы сносили его по лестнице, он был длинный, и нести было неудобно. Вообще-то не длинный, а высокий, но если несешь, то длинный. Что за шум, ворчала Mutti, спать из-за тебя не могу. Я объяснила: пришел печник, чинит печь. Коричневую? Другой нет, спи, уже починил. Что за идея — красить печь, вдобавок в коричневый цвет, я ведь ему говорила, где это видано, да еще масляной краской… Говорила, Mutti, говорила, но уже поздно, пора спать… Она умерла через месяц после него. Так бывает: один забирает с собой другого, — и он ее забрал. Вы только ремонтом занимаетесь, пани майстер? — допытывалась графиня. А углем нет? Жаль, потому что я получила угольную крошку. Просила уголь, а прислали крошку, целую тонну, мне уголь полагается, пани майстер, вы уж им там скажите.

где это видано — красить печь
15. Графиня
Она осталась одна, в окружении отцовских картин и фамильной мебели — большой и тяжелой.
В застекленном шкафу стояли первые издания Гёте и Шиллера. В комоде среди полотенец с монограммами, вышитыми тонюсенькой шелковой ниткой, лежали письма.
В двух пачках, перевязанных ленточками от бонбоньерок. Все на немецком, только в одной пачке письма без ошибок, а в другой — с ошибками. На тех, что без ошибок, — штемпели полевой почты Восточного фронта. Сверху лежало официальное письмо. В нем сообщалось о героической гибели на поле славы, выражалось сочувствие и пересылался Железный крест. Крест тоже лежал в комоде.
Письма с ошибками были отправлены из Советского Союза. Все они проходили через руки пани Алинки, которая работала на почте, но никогда — никогда! — не посмела бы спросить об отправителе. Это графиня сама однажды сказала: в Берлине, в сорок пятом… О Господи, в ужасе прошептала пани Алинка, но графиня поспешила объяснить: нет, это не то, о чем пани Алинка подумала. Он лежал, раненый, в развалинах. Она услышала стон, перевязала, отнесла, вернее, оттащила в полевой госпиталь…
Переписка с русским офицером продолжалась недолго. Вначале он не писал, потому что нельзя было, а когда стало можно, сразу замолчал. Графиня несколько раз заходила на почту, спрашивала, не завалялось ли где-нибудь письмо с такими большими марками, то на них Кремль, то Красная площадь либо бурлаки на Волге из художественной галереи. Да что вы, говорила пани Алинка. Было бы, она б сама, лично, принесла его пани Гизеле.
Пришла открытка. С сообщением о смерти и выражением благодарности. Графиня присоединила ее к письмам с ошибками, хотя написана открытка была кириллицей.
Ее вызывали, когда кто-нибудь умирал у себя дома. Только ее, потому что никто больше не готовил покойников к погребению так умело, едва ли не с нежностью. Никто так терпеливо не согревал теплым полотенцем застывшие пальцы. Так ловко не мыл, не причесывал и так красиво не складывал в гробу руки с образком.
Возможно, поэтому ей и приснилась Mutti. Раздосадованная, озябшая. Она пыталась отогреть Mutti теплым полотенцем, но без толку. Когда сон повторился и Mutti снова пожаловалась на холод, она пошла в управу.
Сон, объясняла.
Снова пошла. Моей Mutti холодно, надо ее укрыть.
Пошла снова…
Получила разрешение.
Выписала из Германии перинку из лебяжьего пуха.
Заказала гроб из толстого дерева.
Переложила останки, укутала перинкой, и присутствовавшие при эксгумации — священник, милиционеры и гости — увидели герб. Вышитый на белом шелке, серебряно-красно-черный герб Цедтвицев. Он представлял собой шлем в короне между двумя буйволиными рогами, а вокруг — венок из лент и листьев. Гости перешептывались, гадая: что это за листья? Не лавр, не дуб.
Акантус, сказала графиня. Растет на побережье Средиземного моря.
16. Ворота
Умерла графиня — Гизела Георгина Мария Теодора Эрика Зиглинда фон Ц.
В ее дом въехали новые жильцы.
Разобрали коричневую печь.
Пани майстер спросила, нужны ли им изразцы. Они сказали, что она может их взять.
Взяла, сложила в сарайчике. Навещает их. В коричневых изразцах — душа художника Эрика фон Ц. Начала рисовать.
Пишет стихи.
Дрожу от страха
перед чистилищем и адом
Богом и сатаной
никто ничего не говорит
очередей целых три
ворота закрываются
непонятно куда становиться
везде толчея
никто ни о чем не спрашивает
никого я не знаю.
Вернусь-ка пожалуй на землю
но как?
Ворота закрыты.
17. Сценарист
А ложное свидетельство у тебя есть?.. — спросил ты.
Было: стол, девочка, крестные родители и Господь Бог. Словом, еврейская история, хотя ты мне советовал с этим покончить. («Никаким масштабом трагедии нас не поразишь — других еврейских историй никто и не ждет», — терпеливо втолковывал ты мне.) Тем не менее вы, ты и твой Сценарист, сели, сварив себе кофе. Как всегда, на кухне, в панельной многоэтажке на Стегнах[24], ты тогда еще жил в многоэтажке. Вечером, потому что днем твой сценарист бегал по судам и защищал.
И стали думать.
Так вы, кажется, поступали всякий раз: сначала думали. Стоит ли?
Сценарист рассказал тебе про свою мать (старая история, много лет прошло). На рассвете ее разбудил шум моторов. Она осторожно приподняла занавеску и увидела сапоги. Подняла повыше и увидела эсэсовцев. Они вели нескольких человек к грузовику. Это были соседи из дома напротив, на углу Вавельской. За поляками шла еврейка. Она несла на руках ребенка. Эсэсовец вырвал у нее ребенка, схватил за ноги, ударил головой о стену дома и бросил в кузов. Еврейка взобралась последней. Эсэсовцы подняли борт.
Мама, сказал Сценарист, рассказывала про эту сцену всю жизнь.
Что Витек тоже проснулся и подошел к окну. Она не хотела, чтобы он видел, отстранила его…
Что утро было туманное, серое…
Что сначала сели поляки…
(Знаю, уже рассказывала, соглашалась она, ну и что с того.)
Что еврейка была высокая, красивая, волосы стянуты на затылке…
Что когда этот эсэсовец этого ребенка…
(Знаю, что рассказывала.)
Что когда он этого ребенка, она прижала к себе Витека и положила руку ему на голову…
Что высокая была, красивая, волосы стянуты…
Что всё как всегда: кто-то прятал, кто-то доносил…
В правоведении есть понятие, объяснил тебе Сценарист: подсознательная вина. Человека нельзя обвинить, нельзя наказать, а он не может избавиться от ощущения вины, иногда до конца жизни.
Мне бы хотелось, чтобы той женщине… той, которая не захотела стать крестной матерью, не давала покоя подсознательная вина, говорил Сценарист.
Вы написали сценарий. Кое-что добавили: человека, который привел девочку, чашки, АК…
И опять вы сидели на кухне.
На этот раз кухня была красивее, больше и ни в какой не в многоэтажке. В хорошем доме довоенной постройки.
И ни с какой не с пишущей машинкой. Перед компьютером.
Сценаристу пора было уходить, поздно уже, мать ждет, надо положить ей на тумбочку лекарства на следующий день. Он уже позвонил, что идет, но вы не могли прервать разговор. Говорили о важных вещах: нехорошо, чтобы у Вероники было всё, нельзя слишком многого хотеть… Или можно? Вы еще сомневались. Пришли к заключению, что смерть Вероники неизбежна, ну а что с Veronique? Она поймет что-то — вы пока еще не знали что, в общем, Veronique причитается жизнь…[25]
Наконец он попрощался. Сел в машину. Остановился перед домом матери, посмотрел на окна. Свет в квартире горел, но заходить он не стал.
Боялся разбудить? Свет ведь горел.
Вернулся в машину.
Утром он нашел мать в постели, прикрытую одеялом. Две петли — одна на шее, другая на щиколотках — соединялись идущей вдоль спины веревкой. Как у ксендза Попелушко[26], родных которого Сценарист-Адвокат представлял в суде над убийцами.
Возле входной двери лежал мачете, каким отрезают головы, с деревянной рукояткой и длинным стальным клинком, изогнутым на конце.
Он пришел к тебе на следующий день.
Сказал: наш фильм стал реальностью. «Короткий фильм об убийстве».
Ты молчал. Ходил взад-вперед по кухне. Вышел на минуту, принес сколько-то долларов, сказал: тебе предстоят большие расходы.
Снова принялся ходить взад-вперед.
Остановился. Может, уедешь? Кто-то здесь сильно тебя не любит…
Недавно он открыл коробку от обуви («Хелмек»[27], лодочки, цвет черный), мать в ней хранила памятные вещи. Увидел открытки с каникул, фотографии детей, вырезки из газет — о процессах, в которых он выступал защитником, и о фильмах, сценарии к которым писал, ленточки от шоколадныхнаборов и рассыпавшиеся бусы.
Увидел ежедневник: 1945. Там были сделанные матерью записи.
В январе:
«Мороз».
«Есть хочется».
«Мариан торгует валютой».
«Пришли русские».
В феврале:
«Я беременна».
«Пять раз спрыгнула со шкафа».
В октябре:
«Еду в больницу».
«Сын. Кшиштоф. Просто чудо».
У него, у этого твоего Сценариста, неприятности. Женщина (высокая, стройная, невротичка) и шантаж, банда, выкуп. Фотографии в желтой газетенке.
Я им постоянно преподношу сюрпризы, говорит он. Детям моим. Это слишком тяжело выносить и слишком страшно.
Рассказывает про журналиста из таблоида: бегающий взгляд, футболка с надписью Tommy Hilfiger; записывал в ноутбуке. Я его боялся, сейчас так выглядит дьявол: с ноутбуком, в синей супермодной футболке.
Потом спрашивает: адвоката Н. служить в еврейскую полицию в гетто направила подпольная организация или, может, он сам проявил рвение? Спрашивает, потому что адвокат Н. ему нравился. Хотя в юриспруденции был не силен и не знал того, что Сценарист понял уже на первом курсе, а именно: что логику надо сочетать с эмоциями, — все равно Сценаристу адвокат Н. нравился, ему больно было думать, что в эту полицию в этом гетто тот пошел по своей воле.
Потом излагает содержание сценария, который хотел бы написать.
Потом объявляет, что не имеет права писать, поскольку что ни выдумает, то в его жизни сбывается.
Потом говорит, что все-таки написал. Песню. Счастье с несчастьем бок о бок живут, это ясно как дважды два. Написал и спрашивает, что вообще-то ему с собой сделать.
Потом спрашивает: может, ему руки на себя наложить, детям так будет легче.
Потом, подумав, говорит, что детям будет тяжелее.
Потом говорит…
18. Я.Ш. — продолжение
Из дома он выходил в начале девятого, благо трамвайная остановка была недалеко. Садился на «четверку». Свободные места были: на работу и в школу ездят раньше, — но он предпочитал стоять. Десять минут — и улица Третьего мая. Он сходил, поворачивал направо — еще две минуты. Поворачивал налево — минута, и вот уже старые каштаны, а там и главный вход[28], красно-желтый кирпич. С французских кирпичных заводов — Франция расплачивалась кирпичом за проигранную войну[29]. Война закончилась в семьдесят первом. Ровно сто лет назад, любопытная деталь[30], хотя значения не имела, Я.Ш. не знал о контрибуциях и не обращал внимания на памятные даты. Как и на цвет кирпича. Как и на красные мраморные колонны в огромном вестибюле. Как и на перила из кованого железа. И даже на гранитные ступеньки, хотя они были высокие и крутые. Взгляд поднимал только на табличку: ЗАЛ 138. Прислонялся к стене коридора и доставал нитроглицерин.

взгляд поднимал только на табличку…

…прислонялся к стене коридора и доставал нитроглицерин
19. Я.Ш. — продолжение
Они сидели на двух скамейках напротив обитой коричневым дерматином двери. Двадцать один человек, все мужчины. Я.Ш. — самый старый, старше судьи лет на тридцать. Судье этому надо было все растолковывать, начиная с того, кто такой кларк[31]. Что кларк ездит в порт, поднимается на судно и спрашивает у капитана, какие будут пожелания. Пожеланий у капитанов много. Им нужны свежие продукты для команды, подарки для жен, хороший алкоголь и женщины для компании.
Следовало бы сказать, что в нашей стране проституции нет, смущенно говорил Я.Ш. Это с этической точки зрения. Ну а в интересах дела… я советовал, куда пойти, и даже подвозил их на своем SHL-175[32], потому что на автомобиль так и не заработал.
Словом, у кого есть валюта — тем всё. Нашим — ничего. А у Я.Ш. характер такой (объяснял он в суде): хочется делать людям добро. Во время войны я помогал евреям, рассказывал он, хотя судью это нисколько не интересовало, да и неудивительно: помощь евреям не входила в обязанности кларка. Судья не перебивал, не задавал вопросов, и Я.Ш. перешел к сути: как он делал добро работникам порта. Приписывал к счетам. Счет-фактура составлялся для судна, капитан подтверждал, что получил, но получал не всё, кое-что шло людям. Кладовщикам, таможенникам, женскому персоналу, водителям шли кофточки, чулки, губная помада, рубашки non-iron, кримплен, коньяк… Оставалось только печатью шлепнуть, печать, кстати, была поддельная, в деревянном корпусе, с резинкой, которая потом отклеилась, а тушь была зеленая, купленная лично Я.Ш. Резинка, тушь и корпус печати для дела значения не имели, но как же без конкретных деталей…
Человек ехал на свадьбу, хотел шикануть, привезти родственникам блок «Мальборо», так что, я должен был ему отказать? — риторически вопрошал Я.Ш.
А если именины? А если Международный женский день? А к Рождеству каждая женщина — каждая! — получала от Я.Ш. пару чулок.
Последовало перечисление, кто что чаще всего просил. Кто-то — «мартино», кто-то — «дюжарден». Кто-то не любил коньяк, предпочитал спирт или «экстра-житную». Кто-то сигаретам «Сесил» предпочитал «Принс», а из соков — цитрусовые. Нужно, правда, подчеркнуть, что брали не часто и не на продажу: ведь потом приходили на работу в этих самых рубашках non-iron, в кримпленовых платьях, накрашенные заграничной помадой.
Работники упаковывали товар, проводили через таможню и отвозили на корабли. Как римские рабы, которые мололи зерно в намордниках, сказал один из обвиняемых. Можно ли удивляться таможеннику, который, оформляя товар, вдруг взбеленился? Схватил бутылку «Джонни Уокера», откупорил, отпил глоток. Отставил. Отломил кусок кабаноса. Съел. Очистил апельсин. Закурил «Житан». Захотелось узнать, объяснил он, каковы на вкус вещи, которые я знаю только с виду.
Таможенника уволили.
А директора…
А партийные секретари…
А полковник Робота…
Я думал, говорил Я.Ш., имеют право. Машины их подъезжали прямо к складу. Запросто, у всех на глазах. Я думал: наверно, есть негласное распоряжение. Сам я негласных распоряжений не получал, но думал: раз требуют, значит, в высших целях. Будучи предан общему делу — мы ведь боролись за сегодняшнюю Польшу, — я не сомневался, что исполняю свой долг.
Первый секретарь повторял: не бойтесь, товарищ, у вас волос с головы не упадет, в случае чего я нажму нужную кнопку, и все уладится. Как я мог знать, что настанет время, когда ни секретаря этого не будет, ни кнопки…
Обвиняемый Я.Ш. плохо себя почувствовал, сообщил судья.
Обвиняемый Я.Ш. принял две таблетки нитроглицерина.
Объявляется перерыв до…
О чем стороны процесса поставлены в известность.
Процесс возобновился, и сразу стало ясно, что существуют две разные планеты. С одной прибывают иностранные капитаны. На другой живет польский кларк.
Прибывший капитан вынужден что-то отремонтировать на судне. Он заказывает балки, исключительно трехметровые. Кларк едет на склад пиломатериалов. Чтобы рабочие пилили ровно, их нужно стимулировать. С этой целью кларк везет с собой ящик пива. Но пилят все равно неаккуратно, капитан отказывается покупать балки, и кларк везет капитану ящик шампанского.
Капитан заказывает свежее масло, а получает прогорклое. Отдает на анализ, обнаружены бактерии. Капитан грозится, что больше никогда ничего в Польше покупать не станет, потому что в Кильском канале масло без бактерий. Кларк везет хрустальную вазу, добавляет зубровку, капитан поддается на уговоры, он будет покупать в Польше.
Капитан заказывает свежее мясо, получает мороженное, кларк везет…
Подсудимых обвиняли в том, что они подделывали, утаивали, присваивали и причиняли убытки.
Кто-то попросил иностранного капитана засвидетельствовать, как было дело. Получил из Мексики письмо и представил его суду.
Я.Ш. никого просить не стал.
Я работал с немецкими кораблями, говорил Я.Ш. Что же я, немца должен был просить? Я, партизан, польский офицер — немца? Чтобы он меня защищал перед польским судом?
Национальная гордость мне не позволила!
Прокурор потребовал тюремного заключения. Для всех, для двадцати одного.
Суд вынес обвинительный приговор двадцати (и отменил по случаю амнистии).
Один не был осужден.
Я.Ш.
Двадцать первый умер.
В промежутке между речью прокурора и объявлением приговора жена принесла свидетельство о смерти.
Вместе с заявлением. Она просила суд вернуть сберкнижку — в связи с расходами на похороны.
Сберкнижка была изъята судебным исполнителем как движимое имущество.
Суд освободил и остальное движимое имущество Я.Ш. Гэдээровский телевизор «Рекорд», холодильник «Тюлень», стиральную машину «Франя», пылесос «Чайка» и ковер узорчатый, два на три метра.
Среди документов дела завалялся листок из ежедневника. Кто-то записал телефон Я.Ш.: 37179. Что значения не имеет, но как же без конкретных деталей…
20. Подвалы
Дела двадцати одного находятся в тридцати трех папках, на каждой — номер и фамилия. Папки хранятся в архиве, в подвалах суда. Когда-то здесь были конюшни, стояли лошади и экипажи и жили судебные рассыльные. Сейчас стоят стеллажи с делами, тринадцать километров стеллажей, заполненных преступлениями, проступками и несправедливостью.
Первым (через три месяца после окончания войны) был санитар. Он забрал у кого-то десять килограммов сахара, десять килограммов свиного сала и литр водки. У немки забрал отрез (четыре метра) и швейную машинку, а от русского офицера получил три кило сала (добытого преступным путем).
Потом был сержант. Он забрал у столяра гробы и потребовал, чтобы тот их — собственные гробы — выкупил, незадорого, тридцать пять за штуку.
Потом был киноман — приземистый, крепкого сложения, с большущими руками, большой головой и деревянным протезом вместо ноги. Любил ходить в «Молодую Гвардию», напротив. Убил женщину, потому что та не хотела с ним жить. Труп расчленил. Ходили слухи и о других жертвах, которых он перерабатывал в пищевые продукты и продавал на базаре, но осудили его только за женщину. Приговорили к повешению.
Потом были профессионалы, Юдка и Шломо. Украли в магазине швейцарские часы. На сумму два миллиона злотых (бутылка плодового вина «Порто-Рико» местного производства стоила двадцать). Защитник Юдки уверял, что его клиента в магазине не было. «Был бы там, взял бы всю добычу, он всегда так делает, а тут пять пар часов оставил, наилучшее доказательство, что к этому непричастен».
Потом был студент. У него была чересчур заботливая мать. Говорила: не обожгись, не простудись, поздно не возвращайся, завязывала ему шнурки и в институт ходила, как в школу на родительские собрания. Он бросил институт и записался в техникум. Бросил техникум и записался на танцевальные курсы. Завуч послал к нему одного из учеников, чтоб уговорил вернуться, но тот тоже бросил техникум и записался на танцы. Мать узнала правду в сочельник. Они сидели за столом, ели грецкие орехи. Мать начала на него кричать, он убил ее щипцами для орехов. Тело расчленил и спустил в канализацию, голову растворил в каустической соде. Надевал парик и одежду матери и получал на почте ее пенсию. Кассирша вызвала полицию. Отсидев двенадцать лет, вышел. Женился, был примерным мужем и отцом, ходил в церковь.
Потом был пироман. Особенно любил поджигать железнодорожные вагоны и мотоциклы. С малых лет обожал огонь и не мог удержаться, чтобы чего-нибудь не подпалить. Его поместили в психиатрическую больницу и вылечили, потому что пиромания излечима.
Потом был пенсионер. Люди помнили его с войны. Он был полицаем в белорусской деревне и, как другие полицаи, получил от немцев черный мундир, пару сапог, пятизарядную винтовку, денежное довольствие и паек. Арестовал мужа Антонины Д., своей соседки. Соседка пришла спросить, что с мужем. Полицай спал, его жена чистила картошку, соседка села и сказала, что подождет. Полицай проснулся, сказал: лежит в канаве. Муж лежал с дыркой в голове. Спустя тридцать лет полицая нашли. Он жил в Польше. Прокурор хотел сразу его арестовать, но полицай попросил месяц отсрочки. Ему как раз дали путевку в санаторий, жаль было пропустить очередь. Прокурор дал согласие, он понимал, как трудно получить путевку. Суд состоялся, когда закончилась смена в санатории. Кто-то рассказал, как во время войны шел по этой белорусской деревне и его обогнала телега с евреями. Их сопровождал обвиняемый. Телега свернула в лес. Раздались выстрелы. Телега вернулась без евреев. Сосед Антонины Д. получил семь лет.
Потом был сельскохозяйственный рабочий. Он написал письмо властям — потребовал три миллиона и пригрозил, что подложит бомбу. Бомбу нашли, взорваться она не могла, так как взрыватель был муляжом. Автора письма схватили. Он был токарь, но не любил шума и работал в госхозе[33]. Снимал комнату. Хозяйка говорила, что у него один костюм, он никогда его не меняет. В тот день, когда обнаружили бомбу, он был у своей невесты, официантки в местной закусочной. От нее пошел на работу, обедал в столовой, по радио передавали что-то о партийном почине. Несмотря на алиби, он получил восемь лет.
Потом был пловец. Он проплыл от Капри до Неаполя, обогнул Манхэттен, почти доплыл до Швеции. Во время военного положения работал в подпольной «Солидарности», занимался полиграфией. Особенно преуспел в изготовлении документов: подделывал удостоверения личности и загранпаспорта. После смены строя продолжал подделывать, теперь уже документы для краденых автомобилей. Получил пять лет.
Потом был рецидивист. В камере он познакомился с мужчиной, у которого была невеста Красивая, даже очень. Отсидев свой срок, он попрощался и поехал домой. Узнал, что мать умерла, а отец заболел раком, вдобавок ослеп. Помыл отца, побрил и отвез в больницу. Потом купил три гвоздики и пошел к красавице невесте. Она заварила чай — такой, как он любил, четыре ложечки на стакан кипятка Плюс разбавленный спирт. За чаем спросил, не выйдет ли она за него замуж. Она отказалась, обозвала его фраером и еще как-то. Он обиделся. Изнасиловал ее, потом задушил, потом ополоснул руки и лицо и выкурил сигарету. Взял себе транзисторный приемник «Мариоля», пару джинсов и баночку растворимого кофе. Ей было не жить, сказал он на суде. Она меня оскорбила, выхода не оставалось. Перед повешением попросил стакан вина Это был последний смертный приговор, вынесенный в этом суде.
21. Женщина
В подвалах темнота, воздух сырой, затхлый. Среди папок с душегубами, поджигателем, матереубийцей и насильником крутится женщина. Что-то переставляет, что-то ищет или просто наводит порядок. Копирует материалы дела Я.Ш. Волосы у женщины черные как смоль, в ушах золотые кольца. На ней куцая розовая кофточка с блестками и обтягивающие джинсы, из которых вылезают кружевные стринги.
Когда-то она была блондинкой и весила сто килограммов. У нее был муж — интересный мужчина, владелец бюро недвижимости. Она ему варила его любимый бульон, чистила обувь и гладила рубашки. Летом он нырял на Корсике, зимой катался на лыжах в Кортина-д’Ампеццо. Женщина говорила: поезжай, милый, тебе нужно отдохнуть, — и укладывала в чемодан вещи. Он любил, чтобы все было собрано и аккуратно уложено.
Однажды муж поехал в Закопане, потому что в соревнованиях участвовал Адам Малыш[34]. Пригласил чемпиона поужинать, за соседним столиком сидели несколько гуралей[35]. Им этот муж не понравился. Может быть, водку пил не такую. Или не ту музыку заказывал. А может, просто очень уж был чужой.
Они поджидали его снаружи. Сломали ребра и нос. На следующий день ему предстояло ехать на другой конец Польши. По делам: кто-то продавал землю, кто-то собирался купить, он представлял покупателя. Или наоборот: продавца, неважно. Позвонил жене. Поехал, несмотря на ее просьбы. Через два часа звонок от тещи: по радио передавали, что на дороге затор — фура врезалась в «тойоту». И еще один звонок: сказали, что это «тойота ленд крузер». Потом уже позвонила полиция. Мобильник лежал на снегу, они набрали последний номер.
Водитель фуры не виноват: машина стояла поперек дороги. Как будто ждала. Чего может ждать мужчина в новенькой «тойоте», стоя поперек дороги?
Она осталась с сыном, дочкой и невыплаченным кредитом за квартиру.
Не бросилась искать работу, у нее были кое-какие дела в Закопане.
Отыскала гуралей.
Им дали условные сроки.
Самый высокий, двухметровый, который бил с особым остервенением, через пару месяцев повесился.
Она не хотела знать почему.
У нее была доставшаяся от дедушки с бабушкой столетняя львовская мебель: дубовый стол и резные стулья, обитые красным бархатом.
Она села: стокилограммовая женщина на столетний стул.
Налила себе токая.
Я за него отомстила, сообщила она пану Б.
Конечно, Ты знаешь, что обошелся со мной по-свински, продолжала она.
Помнишь, как мой сын вернулся из школы? Как увидел перед фотографией отца зажженную свечу?
Как крикнул: нет!
Как я сказала: да.
Как он завыл.
Завыл, понимаешь?
И я должна Тебя за этот вой простить? Хочешь — будь, великодушно добавила она. Только не для меня. И больше не мешай мне жить.
Начала она с волос: они стали черные, прямые, до плеч. Проколола уши и вдела золотые кольца.
Похудела на тридцать килограммов. Купила кофточку с блестками.
Подозрительное уплотнение в груди исчезло без операции.
Она почувствовала себя молодой и познакомилась с молодым мужчиной.
Мужчина сказал: ты помнишь, кто возвращает молодость? Не боишься?
Бояться Д.? Да я со все большей благодарностью о нем думаю.
22. Соседка
Папа приехал сразу после войны, организовывал польскую жизнь.
Весь наш подъезд после войны — милиционеры и убек[36]. На целый подъезд один убек, Я.Ш. Пригодился: у него был телефон, все ходили звонить. А уж коли придешь, можно и поплакаться. Что мамочка умерла. Что через две недели после похорон папа пришел с женщиной. Кашубкой[37]. Вот тебе мамочка, сказал, люби ее. На танцах они познакомились, в кабаке, где кино «Колизей». Так быстро? — удивлялся Я.Ш. Двух недель не прошло… Кашубку папа бросил, потому что поехал в деревню и встретил свою давнюю любовь, еще со времен АК, старую деву, она его ждала. Приходит с этой партизанкой: вот тебе мамочка, люби… Я.Ш. опять удивился: так быстро? да еще старая дева?
Они неплохие были люди — что Я.Ш., что его жена. В костел ходили — не Сердца Иисуса, куда весь подъезд, а к Царице Польской Короны[38], чтобы дальше от дома, чтоб знакомые не видели, — но ходить ходили, в воскресенье к утренней мессе. Святые образа у них дома были, хоть и небольшие, но какие надо, и хоронили их с ксендзом, я на обоих похоронах была, у него были красивше.
Говорили, он отравился.
В подъезде говорили, а правда ли?
Он офицер был, его судили, грозили тюрьмой, вот он и решил: лучше отравиться, но правда ли — кто знает.
23. Социальная работница
Меня прикрепили к вдове с тромбозом, пять раз в неделю по два часа, убраться и сходить за лекарствами в аптеку. Спокойная была, верующая. Любила хороший кофе. Пекла Kranzkuchen[39].
Меня не было, когда она упала. Споткнулась на ступеньках в туалет, крутые такие ступеньки, из красного кирпича, все там осталось, как было у немцев. Больше не варила кофе и не пекла пироги. Раз в месяц приходил ксендз, она исповедовалась и причащалась. Рассказывала. Как они приехали, как муж выселял немцев. Как она дала немке сала и хлеба. Пожалела немку, вот и дала в дорогу. Об оплате и не думала, немка сама отдала ей сервиз. Что, надо было отказаться? В те времена сало и хлеб немке нужнее были, чем фарфор, — это она мне объясняла. Не нужней? — спрашивала. Разве не нужней?

меня не было, когда она упала
Я один раз ее видела.
«Белую Марию».
Тарелки, большие, маленькие, соусники, блюда… Она сама достала, сама расставила на скатерти. Красота. Все белое и на белом. Очень красиво.
Она еще сидела, когда я вошла.
Не ждала, нет, к ней никто не приходил, кроме доктора и ксендза.
Просто сидела.
Потом пришли из антикварного. Позаворачивали, упаковали, увезли. Хватило на памятник обоим.
24. Мария
Своим названием он обязан Марии Франк, молодой и красивой. Она бросила мужа ради Филиппа Розенталя[40], производителя фарфора, старше ее на тридцать пять лет, и в том же 1916 году Розенталь спроектировал сервиз. Все предметы восьмиугольные, украшенные рельефным орнаментом. В орнаменте использован цветок гранатника, это такой средиземноморский кустарник с пурпурными цветами. Спустя двадцать лет вошел в силу указ о передаче еврейских фирм арийцам. Передача имущества называлась аризацией. Розенталь, чтобы избежать аризации, перевел акции на сына Марии от первого брака. Дочери Розенталя обратились к психиатру. Директор психиатрической лечебницы диагностировал опасный атеросклероз. Розенталя поместили в санаторий, через шесть недель он умер. Спустя год фирму аризовали — акции, коллекции произведений искусства и конезавод достались банку.
Мария поселилась на Лазурном берегу и вышла замуж за князя.
«Мария» стала одним из самых популярных в мире сервизов. Фарфор исключительной белизны, такого качества фарфор первым в Европе — случайно, пытаясь получить золото, — изготовил алхимик Августа II Сильного, польского короля и курфюрста Саксонии.
25. Четырнадцатая
По Липовой аллее до поворота.
Восьмой ряд, четырнадцатая могила (неподалеку от захоронения бездомных и от места, где лежат жертвы Декабря[41]).
Она — восемьдесят лет, он — семьдесят один. Никаких лампад.
Куст барбариса.
Белый мрамор. Называется «Белая Марианна».
Часть вторая
Двойная жизнь поручика В.
1. Дорога
В поезд они сели на Восточном[42]. Не протолкнуться, остались в коридоре. И хорошо, девочка могла смотреть в окно. Прижалась лбом к стеклу и стояла себе, все время спиной к людям. Тоже хорошо.
В Демблин приехали через два часа, дальше пригородным.
Дорогу спрашивать нельзя, надо идти уверенным шагом прямо вперед.
Не по дамбе: рыбы в прудах пугаются, и сторож гоняет.

не по дамбе: рыбы пугаются
Не по шоссе: там любит стоять фольксдойче[43] Эдек.
До войны у одного еврея была пролетка, и он возил людей со станции. У другого еврея была подвода, он тоже возил (когда не возил, играл на свадьбах на контрабасе). Поляки не возили, если не считать Пажышека, который к поезду ездил с почтой и почтальоном.
Евреев уже не было, ни того, что с пролеткой, ни того, что с подводой, но Пажышек был, можно бы с ним поехать…
Хотя… лучше нет: очень уж этот почтальон любопытный.
Значит, все-таки по дамбе, между прудами, только быстро.
2. Галантерея
Магазин был на главной улице. Большой магазин с шикарным галантерейным товаром. Мать очень старалась, чтобы каждый шейный платок, каждый галстук, даже носовой платочек — всё было элегантным. И чтобы местным клиентам галстуки и шарфики, которые она продавала, были к лицу.
За домом был садик. В садике играла девочка. В магазин вошел мужчина, на полки и не взглянул, галстук не попросил. Это что за девочка?
Мать удивилась, даже брови, кажется, подняла в знак искреннего удивления.
Спокойно переспросила: какая девочка? Черненькая, за домом, пояснил мужчина.
А, эта. Дочка моя. Чем могу служить?
Ничем, как оказалось, не может, даже носовые платки с мережкой, привезенные прямо из Люблина, мужчину не заинтересовали.
Он вышел.
Мать подождала. Когда он скрылся за углом, заперла магазин и взяла девочку за руку.
Они пошли прямо, по шоссе, на восток.
Свернули направо и поднялись на дамбу. Иди тихонько, шептала мать. Рыб напугаешь, и сторож услышит.
Спустя годы она (та, черненькая) спросит, кто это мог быть. Что за человек, как они думают?
Мог быть местный. Позавидовал из-за магазина, хотел подгадить.
Местный? Разве что Дрожинский, да, этот — да.
Дрожинский? Так его ж аковцы шлепнули, когда они с женой возвращались из костела. Но приговор был только ему, жену не тронули.
Из пришлых тоже мог быть. Гарстка, например. Ни разу никому не помог, а ведь его тесть немца в своей бричке возил. Хотя… кабы он чего плохое затеял, вернулся бы. Увидел, что заперто. А почему заперто? — спросил бы. Но не вернулся. Не спросил. Не Гарстка.

а почему заперто? — спросил бы
И верно, нехорошо прозвучало. «Кто эта черненькая». Ну нехорошо. Правильно сделала эта женщина, что ушла.
Через много лет в местной газете напишут, что она ушла не попрощавшись. Эмилия, пани Островская, женщина из магазина.
Не попрощалась, не сказала спасибо, ничего, ни слова. А ведь люди знали, кто они: она и эта ее дочка. Все знали — ну и что, донес кто-нибудь? Никто не донес. Не выдал. И пожалуйста, вот благодарность.
3. Ветер
Еврей с пролеткой, которого уже не было, — это Байныш. С подводой и контрабасом — Аба. Его тоже не было. Из торговцев мелким товаром не было Апфельбаума. Не было Айгера — скобяные изделия, Лихтенштайна — голенища, Боренштайна — сладости, Юденшнайдера — мука… А еще Дерфнера с газированными водами. Патермана с зерном, Зельмана с керосином. Готхельфа со стеклом и Баклера с крупами. Грушкевича с головными уборами, Гольдмана и Мерфиша (лаки и краски). И рыжей Фейги, торговавшей углем в развес, тоже не было, и ни одного из трех Вайнбергов: ни того, который продавал дрова (сам высокий, а жена маленькая и конопатая), ни второго, с бородой (продовольственные товары), ни третьего, без бороды, его сына, он торговал домашней утварью (мясорубки и выжималки от безбородого Вайнберга в этом городе будут безотказно молоть и выжимать следующие пятьдесят лет). Ну и Ханеле Экхайзер не было, акушерки, которая принимала роды у еврейских женщин. И приверженцев цадика[44] из Парысова, из-за чего-то рассорившихся с козеницкими хасидами. Как и приверженцев ребе из Козенице, которые недолюбливали парысовских хасидов. Как и сестер Бляйхман — Блюмки, Сони и Франи, которые и быть-то почти не были, не успели толком побыть на свете.
Седьмого мая им приказали явиться на рыночную площадь, построили по трое, и доктор Кестенбаум, который ермолки[45] не носил, только шляпу, стал собирать на выкуп. Ему в шляпу бросали часы, обручальные кольца, перстни, кое-кто деньги. Немцы шляпу забрали и велели идти к шоссе, на восток. И тут поднялся ветер. Утром было тихо, но едва три тысячи евреев вышли на шоссе, едва колонна тронулась — он как налетит, как зашумит, высоко, в кронах деревьев. У одного еврея сорвало шапку и отнесло в огород, в картошку. Еврей повернул обратно. Немец выстрелил. Еврей успел добежать, успел нагнуться, поднять шапку… Люди нашли его на следующий день, он лежал в канаве, в шапке и без ботинок. Шапка была никудышная, но ботинки приличные.
Многие взяли с собой постели. Немцы искали золото и вспарывали подушки и перины. Золота не было, посыпался пух, перья, их подхватил ветер. Собралась туча. Проплыла над людьми, потом закружилась и растеклась, разлилась по небу.
4. Осмолице
В живых осталось тридцать.
Они вернулись в город.
Вернулся Мотек, сын Лейбуся по прозвищу Длинный. Когда Лейбусь умер, Мотеку было десять лет. Матери, брату и двум сестрам он сказал: не волнуйтесь, — и занял в деревне мешок зерна. Смолол зерно на мельнице Скальского, муку продал пекарю, из вырученных денег отдал долг. Купил второй мешок. Третий. Корову купил. Взял в аренду сад и женился на Шеве. Сад был большой, красивый, в Осмолице, на самом берегу Вепша. Принадлежал Леснёвским. Мотек их лично не знал, к помещику с такими вещами не обращались, делами занимался управляющий, пан Недзельский. Его дом стоял у въездных ворот, дальше была конюшня для верховых лошадей, а в глубине, справа, барский дом.
Когда началась война, Мотек и Шева были в Осмолице. Дозревали абрикосы, пора было собирать сливы, пан Недзельский советовал фрукты продать, Шева настаивала на варенье. Люди захотят запастись на войну, доказывала она мужчинам, но пан Недзельский ее успокаивал: эта война, пани Шева, надолго не затянется…
В усадьбе проводила каникулы сноха помещика, Зофья, местные говорили: дочка Сикорского[46]. Через неделю приехал генерал, ее отец.
Над усадьбой начали летать немецкие бомбардировщики, целью у них был Демблин, авиабаза[47].
Генерал поглядывал на небо и советовался с офицерами.
Мотек советовался с Шевой.
Генеральская дочь и один из офицеров вырыли яму — под камнем, недалеко от крыльца — и спрятали Зофьину сумочку.
Через два дня генерал уехал. (Через две недели он добрался до Парижа, через три его назначили премьером правительства в изгнании.)
Зофья уехала на крестьянской телеге.
В середине сентября уехали Мотек с Шевой.
Из гетто они убежали. Спрятались в лесу. Стояли морозы, есть было нечего, и они вернулись в Осмолице. Пан Недзельский спрятал их у себя в доме.
В Осмолице вошла Красная армия. Управляющего арестовали. Мотек доказывал начальнику тюрьмы… Доказывал офицерам НКВД… Доказывал польским офицерам в Люблине…
Управляющего отпустили. Он уехал, исчез; больше его в Осмолице никто никогда не увидит.
Не будет дома управляющего.
Не будет барского дома.
Не будет сада.
Будет Вепш, неспокойная капризная река, сплошные водовороты.
Усадьбу купит американец, бизнесмен, женатый на польке. Окрестности он обойдет в сопровождении охранника. Охранник будет в черном костюме и темных очках, на местных это произведет сильное впечатление.
Американец построит новый дом. Больше прежнего, наряднее. Пустой.
Мужчина, который присматривает за усадьбой, навестит нового владельца в Америке. С собой он захватит надгробную лампаду, потому что у владельца сын погиб в автокатастрофе. Лампады производит его двоюродный брат; они выберут самую красивую, такие теперь делают, чтобы обскакать конкурентов. В Штатах выяснится, что у сына бизнесмена нет могилы, урна с прахом в стене, среди других урн, ее даже найти трудно, потому что длина стены двести метров. Вдобавок рядом не разрешается зажигать лампады. И вообще не надо грустить. Немного можно, но в меру. Будущим надо жить, будущим.
Другая культура, вздохнет смотритель новой усадьбы — не то с завистью, не то с укоризной.
Неподалеку от бывшего барского дома любители истории будут искать следы. Больше всего их интересуют следы войны — оружие и воинские знамена. Знамен они не найдут, зато найдут дамскую сумочку. В сумочке будут семейные документы и зачетная книжка. В зачетке Высшей школы политических наук будут оценки. По социальной политике и по коммерческой корреспонденции — тройки, по истории общественно-экономических формаций и статистике — четверки. Права наций Зофья Сикорская сдать не успела.

права наций сдать не успела
5. Доктор
Он был всегда. Его вызывали, когда больному уже ни один врач не мог помочь, он лечил поляков и евреев, сумел выбраться из гетто и спас маленького Ендрека Чеслю, когда тот умирал от менингита.
И он вернулся. Собирался остаться, но когда это случилось с теми евреями… Когда четверых евреев… Шестерых? Может, и шестерых, а еще поручика с мельницы, всего семеро… Словом, он уехал вместе со всеми, кто вернулся в город. Уехал в Лодзь, где поступил служить в органы. Работал тюремным врачом. Констатировал смерти. Сохранился протокол: приведен в исполнение приговор Сойчинскому Станиславу, сыну Михала[48].
Капеллан произнес слова религиозного утешения.
Прокурор зачитал приговор.
Командир расстрельного взвода привел приговор в исполнение.
Врач Кестенбаум Рафал констатировал смерть.
(Приговоренный до войны был учителем польского языка, во время войны — командиром батальона АК.)
Доктор недолго проработал в этой тюрьме. Он начал помогать заключенным — выносил малявы, связывался с родственниками («сообщил по телефону мужу осужденной Марты Зентара, что Зентара Марта шлет ему привет, а Зентара Марте устно сообщил, что муж добивается для нее адвоката» — значится в рапорте начальнику УБ).
Доктора выгнали и посадили под домашний арест.
После освобождения он уехал из Польши. Жил в Тель-Авиве.
Сын доктора Кестенбаума погибнет в одной из израильских войн. Тело найти не удастся, дочь будет искать его сорок лет.
6. Мать Стеца
Нехорошие стали твориться дела, ох, нехорошие.
Бык взбесился и затоптал насмерть дочку хозяина.
Здоровый мужчина поранился гвоздем, руку пришлось отрезать.
Подковы над дверью перестали защищать.
Лошадь разбила голову владельцу.
Люди думали: это из-за евреев.
А ведь они им помогали, мать Тадека Стеца для них суп варила.
Люди говорили: с того света мстят, за Шиму и Шляму. Шима и Шляма убежали из эшелона, вернулись в город, кто-то их схватил… Кто-то просил: да отпусти ты этих евреев, — но их отвели в полицию. Люди говорили: за Зельманувну мстят, дочку керосинщика Зельмана. Ее тот, что был при лошадях, вышвырнул на улицу, ранним утром, полицейский выстрелил, она лежала на улице вся в крови.
Но мать Тадека Стеца варила суп.
В помещичьих угодьях был лагерь, мать Стеца приносила ведро с супом. Ставила его перед воротами, на следующий день пустое ведро забирала и ставила полное. Забирала пустые и приносила полные…
Они потом к ней приходили.
Говорили, Най приходил — тот, что до войны продавал лотерейные билеты.
Говорили, Ная видели возле пруда, около дома Стецов.
И парикмахера Хандштока.
А Стецувна[49] носила платья портнихе. Заграничные платья, из еврейских посылок, в переделку.
А Тадек Стец посадил сад. Заболел, продал сад, ездил в больницу на «химию». И евреи опять приехали. Проститься.
В состав помещичьих угодий входили рыбные пруды, земля и бывшее имение Станислава Понятовского[50], отца короля. Садовником служил владелец углового дома — того, где был галантерейный магазин.
Когда угодья перейдут к госхозу, владелец углового дома станет директором.
Когда госхозов уже не будет, сын директора займется экологией, а конкретно — вишневыми косточками. Будет извлекать их из вишен, мыть и сушить. И высушенные косточки целыми фурами отправлять в Голландию. Для матрасов и наматрасников. Твердовато, конечно, но это не беда, зато ровненько и красиво, и пролежней не образуется. Будет подумывать о гречишной лузге, она полезна при ревматизме, но ставку сделает на косточки.
7. Приговоры
Зельманувну застрелил полицейский Чесек, а Чесека застрелили аковцы, когда он был у любовницы в Демблине, на Старомейской. Брат Чесека тогда был в Освенциме. Вернулся, умер, лежат они рядом. Над братом надпись: «Узник концлагерей», а над Чесеком: «Трагически погиб».
Еврея, у которого ветром сорвало шапку, застрелил жандарм Петерсон. Высоченный был, под два метра, ходил в длинном кожаном черном пальто, всегда с собакой, немецкой овчаркой, тоже черной. Пес разорвал не одного еврея, но того, который вернулся за шапкой, застрелил лично Петерсон. Аковцы пять раз пытались его убить, удалось только на шестой, на дороге около прудов. Они в бричке ехали, жандарм и пес; ликвидировали обоих.
А фольксдойче Эдек, который любил стоять на шоссе, глядеть вокруг и стрелять, пережил войну. Его поймали и показывали с балкона милицейского участка. Люди говорили: «Эдека показывают», — и ездили в Демблин смотреть. Сколько-то лет спустя его видели в трамвае. Возможно, сбежал. А может, пригодился новой власти, потому что много чего знал. В общем, после трамвая никто больше Эдека не видел и ничего о нем не известно.
8. Мельница
Первыми были Симха и его будущий зять, Янек Учитель. На обратном пути с ярмарки. Днем, из огнестрельного оружия.
После них Шауль, Герш, Поля из Демблина и ее подруга. На Луковской. Под вечер.
После них поручик Вислицкий. Ночью. На мосту.
После него — уже никто. Евреи ушли. Все, сколько их там осталось из тех тридцати.
По шоссе, на восток. Перед железнодорожными путями свернули на дамбу.
Мельницу Скальского и помещичьи угодья забрала новая власть. Землю доверили садовнику, на мельницу прислали поручика.
Большая была мельница, поставлена еще до Первой мировой. Машины — самых лучших фирм: с фабрик Хартвига (Варшава-Прага, Широкая улица) и Прокопа в Пардубице. Мотор на весь город было слышно, размеренное такое пуфф-пуфф, и все знали: мельница Скальского работает.
Немцы стреляли по мельнице из пушки, но промазывали. Орудие стояло в Козенице, а за мельницей, в ольшанике, сидел фольксдойче и наводил по радио. Один снаряд попал в пруд, второй — на луг, третий… третий он навести не успел: люди его нашли и прикончили.
Поручик появился на мельнице после войны, из Люблина[51] приехал, из ПКНО[52]. В мундире Первой армии[53], в конфедератке[54], естественно, но с орлом без короны.
Он не высокий был. Не сказать, что худой. Не очень молодой. И не мельник, но очень был добросовестный: слушая объяснения пана Скальского, как прилежный ученик, все записывал в тетрадку.
Зерно взвешивается и засыпается в насыпы, говорил пан Скальский.
…насыпы, записывал поручик.
Насыпов три, один для муки и два для дерти.
…для чего? — не понимал поручик.
Для дерти. Дерть — дробленое зерно, с отрубями, скотине в корм. Зерно в ведерках едет наверх…
Пан Скальский и поручик поднимались наверх и осматривали решёта, которые просеивают, обрушку, которая обдирает, и очиститель, который очищает, пока не останутся ядра с бороздкой.
Пан Скальский показывал ядро и бороздку, а поручик зарисовывал в тетрадке.
Потом зерно падает на вальцы, и получается мука, которая отправляется в путь — видите? Сверху вниз и снизу вверх, и снова вниз, и усредняется, поскольку первая — самая лучшая, последняя — самая худшая, так что нужно смешать и усреднить.
Недолго поручик пользовался тетрадкой. Месяца два, от силы три.
Восемнадцатого марта он возвращался домой — жил рядом, у работника с мельницы…
Стреляли, стреляли.
Убеки в аковцев. Аковцы в убеков и предателей. Один застрелил девушку из АК, потому что она пошла работать в милицию. Во ржи, в поле. Другой (как оказалось, по ошибке) — столяра, прямо за верстаком. Третий — поручика. На мосту через Залесянку. А потом начали вешаться. Тот, который девушку. Тот, который поручика. Тот, что по ошибке.
В основном на чердаках.
Совесть их мучила, что ли[55].
9. Ветеран
Вис… как?
Вислицкий, Вислицкий… Понятия не имею. Мельница?
Мельница — э, нет, мелковато. Фольксдойче — да, убек — да, но мельница… мелковато для нас[56].

мельница — э, нет, мелковато
Если б он гнобил кого, тогда конечно, а так — нет. Не слыхать было, чтобы гнобил.
Вис… — как?
Нет, не слыхать было.
В правлении выдали ордер. Откуда мне знать, никто не объявился, вон они все, эти дома.
Есть у меня на фото евреечки. К примеру, Поврозник. Тридцать седьмой год, седьмой класс.
Красивая была.
Поврозник.
Один выжил, приходил даже, но не мой, у них на Канавной был дом.
А Поврозник не выжила, нет.
10. Дочь
Мельница останется. И хата мельника, где жил поручик. Хата будет стоять пустая, а мельницу продадут. Ее купит местный предприниматель и устроит лофты — ресторан и гостиницу.
Рядом вырастет трехэтажный дом — дочери мельника. Который вообще-то ей не отец. Сын мельника сказал: отец — я, и с тех пор уже было не разобраться. Мать позвала ее перед смертью, хотела что-то сказать, но не успела, а дочку будто током прошибло, ледяным током. На самом деле она была ей не мать. Настоящая мать у нее на двух фотографиях. На одной — молоденькая прислуга мельника в белом платочке. На второй ее не видно, она в гробу. Они оба, мельничиха и мельник, хорошие были люди, но теперь уже все равно не разберешься.
Дом построит муж. Двенадцать комнат, один только ливинг рум — шестьдесят метров. Такой не обогреешь, на зиму нужно не меньше пяти тонн, а тонна угля — восемьсот злотых.
Она будет жить одна, одна-одинешенька. В двенадцати комнатах плюс ливинг рум. Муж и дочка останутся в Америке. Приедут, конечно. Первую неделю будут акклиматизироваться. На второй скажут, что им скучно, на третьей начнут собираться обратно.
Зять будет с Филиппин. Пожарный. Одиннадцатого сентября его сдуло под машину. Из всей команды только его, поэтому он остался жив, только он.
Конечно, они позвонят. Спросят, что в городе, ответ слушать не станут — какое им дело, что в городе. Что в Америке? — спросит она у них.
Дочка скажет, что у мужа нервы совсем никуда. Сны ему снятся. Снится воздушная волна, которая швыряет его под машину.
11. Поручик
Первое письмо из леспромхоза «Красная звезда» он написал в газету — в Москве выходила газета на польском языке. Писал, что нужно создать польскую армию, потому что от Великих Лук до родины ближе, чем от Тобрука[57]. Армию создали[58], поэтому следующее письмо он отправил Ванде Василевской[59]. Вначале написав начерно, на обороте плаката. Плакат призывал советских граждан и гражданок, патриотов и патриоток овладевать военным ремеслом. В письме он рассказывал о себе. Закончил Варшавский политехнический, участвовал в обороне Варшавы, подхорунжий запаса. Об отце, Вацлаве Вислицком, депутате сейма всех пяти довоенных созывов, не упоминал. Просил Ванду Василевскую взять его в армию.
Его взяли.
Ну вот, я еду, написал он матери в поселок Красный строитель.
На дорогу ему выдали полторы буханки хлеба, благодаря чему он смог послать ей буханку, которую получил по карточкам[60], плюс карточки на сахар. Не забудь, добавил, переделать себе мои зимние вещи.
Он писал отовсюду. Десятки писем, все — матери. Все сложенные треугольником или в прямоугольном конверте размером с визитную карточку. С почтовым штемпелем «просмотрено военной цензурой»[61].
Через несколько часов в путь, движемся на запад.
Отправил тебе посылочку с сахаром.
Пишу неразборчиво, потому что лежу. У меня выскочил чирей, очень неприятная штука.
(Его повысили; теперь, как офицер по политико-воспитательной работе, он должен был воспитывать солдат в духе «любви к родине, ненависти к извечному врагу Германии и искренней дружбы с Советским Союзом и Красной армией».)
Посылаю тебе сало, немножко сахару, баночку консервов и кусок мыла.
Пишу в деревенской хате, за окном палисадник, артиллерии не слышно, мы теперь немного дальше от фронта. Передо мной лежит большая красная книга «Deutsche Post Osten» — варшавский телефонный справочник. Я его нашел в глубоком блиндаже, несколько дней назад тут еще были немцы. Есть знакомые фамилии: Вислицкий Феликс, Langiewiczastr., 5 — значит, у него в Варшаве в 1942 году был телефон? Черняков Израиль Адам, Eisgrubenstr., 20…
Я подумываю уйти из политического аппарата и стать обыкновенным офицером. Эта работа приобретает какой-то специфический характер — не так я ее себе представлял. Малярия никак не отвязывается. Короткий приступ — и потеря сил на целые сутки.
Пишу ночью, с Волги. Мне понравилась одна девушка. Сам не знаю, как сказать: девочка, женщина или офицер. Очень понравилась. Такой маленький младший лейтенант — двадцатилетняя варшавская девочка, раненная на фронте.
Я все еще в Политуправлении. Хочу перейти в полк — и не хочу.
Можешь себе представить, люди сейчас говорят: какое счастье, что меня сослали в Сибирь или в Коми[62], наша семья хоть жива осталась.
Весна. Холодная, но бывают и теплые, солнечные дни. Уже есть почки на деревьях. Только разбитые танки и разбросанные снаряды чернеют на полях.
Аисты и вереницы диких гусей. Одна беда. Пропала салфеточка с Буддой от Оли — не могу понять как. Ужасно жалко.
Я в госпитале. Густой лес, птицы, торфяное болотце. Несколько палаток между деревьями. Хоть бы сказали, что со мной, и чтоб эти приступы не повторялись.
С сержантом, который поехал за печатными машинами, послал тебе ¾ банки с нетопленым маслом, немного сахару и два куска мыла.
Коротко: идем вперед. Пишу уже с нашей земли. Уже везде поляки, уже нет этих огромных русских печей…
(Указания для политработников в связи с вступлением на родную землю.
Одному из офицеров поручить звонить в колокола, другому — поднимать национальный флаг.
Встречу с приветствующим населением превратить в совместный митинг, на митинге должен выступить боевой офицер, хорошо владеющий польским языком. Закончить «Присягой»[63].
Не следует:
устраивать пьянки
заводить знакомства с женщинами легкого поведения
совершать оптовые закупки
шляться по ночным заведениям
Рекомендуется: на заборах, домах и автомобилях делать надписи; пример: «Враг на Западе — друг на Востоке!»)
В лесах видимо-невидимо солдат. На полях видимо-невидимо васильков и маков. Рядом с лошадьми бегают жеребята, такие веселые, счастливые.
Война разрушила дома, выбила стекла, снесла крыши, но платья и прически у девушек — 39-й год. Я видел одно платье из такого же материала, как последнее Олино, коричневое в горошек, только это было розовое.
Видел Майданек — этот лагерь смерти. И печи, где сжигали людей, и газовые камеры. Печи еще полны горячих и дымящихся испепеленных останков, черепов… В люблинском Замке[64] камеры, в которых лежат убитые — в пять слоев, один на другом.
Вопрос от населения: правда ли, что вы не будете хоронить поляков вместе с евреями? — и удивление, что хоронить будем вместе.
А лето жаркое и прекрасное…
12. Родственники
У поручика была тетя Стефания, родная сестра матери, и дядя Юзеф, ее муж.
Дядя был революционером. В царской России его сослали в Сибирь, в большевистской назначили заместителем Дзержинского. Во время войны с большевиками он входил в состав Комитета, объявившего себя правительством Польши. Красная армия приближалась к Варшаве, а Комитет неподалеку в Вышкове[65] ждал ее победы. Члены Комитета жили в плебании[66], ездили в хорошем автомобиле, хорошо питались и при первых же отголосках стрельбы за Бугом сбежали. «Нет уже этим людям на польской земле места — ни столько, чтобы две стопы поставить, ни столько, сколько займет могила», — писал о Революционном комитете Стефан Жеромский.
Пророчество сбылось.
У дяди Юзефа Уншлихта[67] (которого в Вышкове не было, он тогда лечился) нет могилы ни в польской, ни в какой иной земле. Он пропал без вести в России, в тридцать седьмом.
У дяди с тетей было двое детей. Дочка умерла в детстве во время операции (аппендицит), сын утонул в российской реке. Урна с его прахом — с надписью «Казимир Уншлихт» — стояла в московском крематории. После ареста отца ее повернули надписью к стене.
Тетю Стефанию объявили женой изменника родины. Вместе с другими женами изменников она сидела в Бутырской тюрьме и в Акмолинске, в лагере. Арестовали ее в черном шелковом платье, «она выглядела как заключенная маркиза времен французской революции», годы спустя писала одна из жен.
Она болела, не могла работать и получала только полпайки хлеба. Товарки по несчастью давали ей кусочек за починку лагерного тряпья. Шила она иголкой, сделанной из рыбьей кости, а нитки вытягивала из лохмотьев.
Мать поручика послала в лагерь немного продуктов, посылку обернула белым полотном. На полотне был адрес отправителя. Тетя Стефания узнала, что ее сестра пережила войну.
Тетю освободили. Был мороз, сорок градусов. Она ехала два месяца, кормили ее железнодорожники и люди на вокзалах. Спрашивали: вы кто? Она отвечала: я — тридцать седьмой, — и получала хлеб и горячий чай. Уже не французская маркиза. Седая беззубая старушка с клюкой.
Она осталась в Москве.
Ждала.
Писала письма.
Худо мне на свете. Старая я. Жду с тревогой известий о Юзеке…
О Юзеке никаких известий, никакой надежды. Я знаю, что ни подспорьем для него, ни радостью не буду, но хочется еще много ему рассказать, обо всем, что передумала, чему научила меня жизнь с момента нашей разлуки.
Посылаю тебе летние туфли — знаю, ты любишь полотняные, вот я и сделала из того, что смогла найти, — не очень красивые, зато сшиты с душой.
Дорогие мои, добровольно я отсюда уже никогда не уеду. Почему? — спросите вы. 19 июля 1937 года я снова дала брачный обет, еще более прекрасный и священный, — знак мученичества и великой любви. Уехать отсюда без ведома моего возлюбленного было бы изменой Ему и Его святому делу. Я не знаю, где Он, не знаю, жив ли, но Он живет во мне, Он со мной, и я хочу до конца своих дней оставаться здесь.
Она была художницей, жила в доме художников в Москве на Масловке, там и умерла. Прах поместили в урну сына. Урну опять повернули, на этот раз — надписью к публике.
13. Рояль
Ордер на арест Юзефа Уншлихта подписал один из руководителей НКВД. Польско-советский коммунист Станислав Реденс[68].
Спустя несколько месяцев Реденса арестовали. Потом и его жену отправили в лагерь. В большой пустой квартире на берегу Москвы-реки остались двое сыновей. Им было нечего есть. У них был рояль. Они дали объявление в газету: продается рояль, в хорошем состоянии, известной фирмы, цена по договоренности.
Явился покупатель. Тронул клавиши, похвалил звук. А где папа? — спросил.
Мы не знаем, признались мальчики, наверно, в тюрьме.
А мама где?
Наверно, в лагере, мы точно не знаем.
Покупатель захлопнул крышку рояля, вскочил и бегом бросился к двери.
Пришел следующий. Похвалил звук, а папа где?
Пришел следующий…
Реденса расстреляли. После смерти Сталина вернулась из лагеря его жена[69] (одна из сестер Аллилуевых; вторая сестра, жена Сталина, покончила с собой). Вернулась с шизофренией. Сыновей не узнала. Сидела в кресле, ко всему безразличная, не спуская взгляда с окна. Ждала мужа. Как и жена Уншлихта. Как все эти жены палачей и жертв.
14. К. К.
Да, я помню. Ты показал мне treatment[70], а может, рассказ, достаточно длинный, чтобы понять, о чем речь, в чем суть.
Да, знаю, я именно так и сказала. Что такое не могло случиться. Две девушки, две жизни… Точнее, одна жизнь — двойная — и одна смерть. Очень уж надуманно, сказала я. Не верится.
Да, знаю, что еще. Я добавила: если из этого получится фильм, значит, я совершенно не разбираюсь в кино, и, пожалуйста, ничего больше мне читать не давай.
Ты пригласил меня на премьеру. После показа подошел. С вином, если не ошибаюсь, во всяком случае, с рюмкой в руке. Ну что? — спросил. Получился из этого фильм? Да, получился, призналась я. Ты улыбнулся, сверкнул очками и спросил, почему я не пью.
Да, понимаю.
Ты подбросил мне историю двух поручиков. Странноватую, но Тебе-то что. Были две Вероники, могли быть и два Вислицких. Оба — поручики Первой армии[71], оба воевали на фронте, а потом служили новой власти на экспроприированных предприятиях: на фабрике, например, или на мельнице…
Они не встретились (иначе автор писем написал бы об этом матери). Возможно, даже ничего друг о друге не знали. Как не знали и твои Вероники — неправдивые, надуманные… не могло такое случиться.
А двойная жизнь поручика В. — такое случилось…
Очень любезно с Твоей стороны. Великодушно.
Его нашли на следующий день. Люди шли за покупками, кто-то вбежал в магазин «Земледелец»: поручика убили, этого, с мельницы, на мосту лежит!
Неподалеку место захоронения солдат Первой армии. У него могилы нет. Ничего удивительного: не для того убивают, чтоб могила была, да еще на кладбище. Подошел, наверно, человек, принес лопату, поглядел на сапоги, вырыл яму… Может, и лежит еще поручик В. у моста через Залесянку.
Он должен был что-то почувствовать.
Тот, второй поручик, двойник.
В воскресенье, ночью, восемнадцатого.

в воскресенье, ночью, восемнадцатого
Его мог бы прошибить ток, ледяной ток, как дочку мельника.
Сон мог бы ему присниться.
Что-то он бы мог понять, неизвестно почему…
Да-а, сон. Как зомовцу[72], которого (помнишь?) мы видели в суде во время военного положения. После каждой акции ему снились сны, в последний раз приснилось, что он применил огнестрельное оружие — согласно уставу, поспешил он добавить. После выстрела кто-то упал на мостовую, ничком. Я подбежал, рассказывал он в суде, но судья его прервал, поблагодарил, свидетель-зомовец ушел, и мы не узнали, что было дальше.
Так и поручик в своем сне мог подбежать.
Перевернул бы лежащего… Посмотрел в лицо. Подумал: я его уже когда-то видел.
15. Экспонаты
Он знал (невесть почему). Знал, что делать.
Делал тщательно, с той же обстоятельностью, с какой поручал одному из офицеров звонить в колокола, а другому — поднимать флаг.
Перебрал вещи.
Уложил.
Закрыл чемодан.
Пошел в музей.
Попросил позвать хранителя.
Спросил, интересует ли того экипировка офицера Первой армии.
(Хранитель, похоже, опешил: никто еще с подобными экспонатами к нему не приходил.)
Достал из чемодана:
мундир суконный
куртку (ватник)
юфтевые сапоги
офицерский ремень с портупеей
пилотку
полевую конфедератку
ППШ[73] с барабанным магазином…
Пошел в Политехнический.
Спросил декана.
Я хотел бы поступить в аспирантуру, сказал, меня интересует строительная техника.
16. Экспонаты, продолжение
Альфред Вислицкий, бывший поручик, станет профессором, выдающимся знатоком истории техники.
Экипировка будет выставлена в постоянной экспозиции музея Войска Польского. В витрине Первой армии. В неплохом месте — рядом с маршальским жезлом Жимерского, по соседству с принадлежавшими генералу Берлингу[74] биноклем и пистолетом.
Под надежной опекой. Специалистки по консервации текстиля будут сыпать средства от моли, а сотрудник специальной фирмы распылит газ против грибков и пылевых клещей.
Петр Вислицкий, сын поручика, будет строить.
Начнет он с алтаря на площади Победы. Того самого, где Иоанн Павел II попросит Святого Духа обновить облик земли[75].
Последний по счету проект — Музей истории польских евреев[76].
Сын поручика объяснит зарубежным евреям, почему они должны помочь с этим строительством, и евреи помогут, даже охотно, потому что, во-первых, цель благородная; во-вторых, Петр В. — предприниматель и человек успешный, а такой человек у других успешных людей вызывает понятное доверие; в-третьих, родившийся после войны Петр В. — представитель будущего, а каждый, надо полагать, предпочитает будущее прошлому (в особенности столь несовместимому с понятием успеха, как прошлое польских евреев).
Экспонаты пока полежат в шкафу, в аккуратно составленных серых коробках, каждая с номером и описью. Как и положено в музее.
Это будут:
субботний складной нож, сталь, перламутр, 14x2, в открытом виде 25x2
чемодан, клееная фанера, краска масляная, 32,5x15,5; для прочности использована доска, выломанная из синагоги
вешалка для одежды с надписью «Мужская и дамская одежда, школьная форма, меха, Н. Фишман, Люблин, ул. Крак. Предм., 10, угол Бернардинской», дерево, металл, 43x25,3
книга Менахема Менделя, цадика из Витебска, год 1878
вывеска двусторонняя «Фрукты, идишес гешефт»[77], крашеная жесть, 55x95
альбом с рекламными фотографиями киностудии «Лео-Фильм», на снимке владелица Мария Хиршбейн с собакой по кличке Чвартек
учебник геометрии Н. Рыбкина на идише, 1922
сифон для воды фирмы М. Рубинштайн, стекло, 28,5x9
стихотворение А. Мицкевича, переписанное от руки («Меж двух седых пучин жизнь пролегла тропой/Для нас, в теснине дней блуждающих толпой:/В пучину мрачную несемся из пучины./Одни — летят стремглав, торопят час кончины…»)[78], фирменный бланк Склада бакалеи и бобовых М. Вайнфельда в Новы-Тарге, 28x21,5
ноты фокстрота «Мориц»
удостоверение Еврейского физкультурно-спортивного общества Толи Гурфинкель, бумага, 14,4x9,7
ученики в Коломые в школьной форме, фотография, 88x13 (на обороте: c.i.к[79] придворный фотограф А. Кублер, Коломыя, ул. Франца Иосифа, 15)
письмо Таме от Мали, Горлице, бумага 28,8x22,3 (О прогулке «по дороге размокшей средь зрелых нив», о шуме колосьев, «так странно тревожащем душу» и о роще, где она встретила Ривку Фессель)
письмо Таме от Хаи, Новы-Тарг, бумага 33x20 (О том, что у них с Моше что-то не так, как надо, и сказаны разные слова, она даже всерьез подумывала о разводе, хотя искренне его любит и всей душой к нему привязана)
аттестат Тонки Вейнфельд, иудейского вероисповедания, женская окружная школа в Горлице, бумага 34x21,7
(Поведение примерное, к учебе выказывала похвальное прилежание, рекомендуется к переводу в третий класс)
черепки из развалин гетто, фарфор и фаянс

фарфор и фаянс

табличка с надписью «Врач-дантист Б. Каценеленбоген», эмалированная жесть, 49,5x25
(Найдена в развалинах в Варшаве; нашедший отдал ее своей тетке, у который был дырявый курятник; тетка решила, что негоже этой жестянкой латать дыры, и племянник принес табличку в музей)
дверная табличка «М. Мандельмильх», металл, 7x17,5

металл, 7x17,5
нарукавная повязка со звездой Давида, полотно, тушь, повязка 9,5, звезда 8,6x7,8
(Знак вопроса, поскольку жертвователь был статистом в «Пианисте»[80])
очки детские солнечные, металл и стекло, 13x16
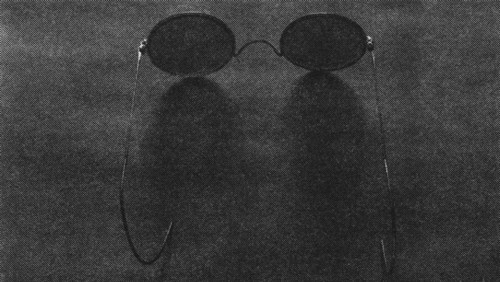
металл и стекло, 13x16
стелька для ботинка, сделана из фрагмента Торы, пергамент, 10,3x9,1
(Слова из Книги Бытия:
…ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего
…и услышал Бог Лию
…и родила Иакову пятого сына
…мужу моему. И нарекла ему имя: Иссахар
…и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия…
Стелька была вшита на сапожной машине в ботинок с правой ноги — предположительно дамский)

пергамент, 10,3x9,1
Семейная фотография, в первом ряду Рейзл, Лия и Йидл, посередине бабушка Ита и дедушка Пинхас, справа от бабушки Иты…
И так далее.
Как и положено в музее.
Посвященном древней цивилизации. Исчезнувшей в двадцатом веке (первая половина).
Часть третья
Дом престарелых
Неплохое мороженое,
Кароль говорил, итальянское,
молодец, что пришел,
соседи со Сталёвой передают мне привет, весь подъезд,
он над Казиком жил, и вот, нет уже Казика,
ну и что, говорит Кароль, и Матери Божией нет, и работы тоже нет, к сожалению, нам придется расстаться, сказал ему начальник, и Кароль теперь на пособии по безработице.
Казик покупал ветчину, мог себе позволить, инвалид войны, пенсия у него из всего подъезда самая большая, я делала лимонную настойку, вот вам и пир.
Мы были как одна семья.
Дополз до шкафа, до тайника. Всё достал, разложил на кровати и лег. Кароль глядит: Казик на сотенных умирает, а над ним молится ксендз с Господом нашим Иисусом.
Матерь Божия Кормящая была у нас в часовенке с довоенных времен. Жена Кароля стирала занавесочку, я меняла воду в цветах.
Украли! Матерь Божию! Кароль другую вставил, но эта уже не такая. Обычная, безымянная.
Может, оно и итальянское, даже похоже на… на… по Сенной надо было идти, в сторону Маршалковской… продавали из окошечка, первое во всей Варшаве итальянское мороженое.
Неплохое было и у Ларделли, ну да, но под крепостью…
…по пустыне в машине едешь, а на гору — канатная дорога. Не люблю я эти фуникулеры, осталась внизу, и пан Сарнер со мной остался.
Вот у кого доброе сердце, хоть сам он и не из Польши вообще. Праведников[81] пригласил за свой счет, возил нас к Гробу Господню и в Вифлеем. Но завтракали мы в Хилтоне, каждый Божий день.
Мы с ним сидели на террасе, смотрели на древнюю крепость — ужас, о Господи, все сами себя поубивали[82] — и ели мороженое. Вкуснее я в жизни не ела, лучше даже, чем в джелатерии… о, вот и вспомнила, gelateria было написано, italiana, на углу Маршалковской. Ванильное и киви. В джелатерии киви не было, но доктор Кальтман приносила от Ларделли.
Недалеко от Ларделли был Зингер, магазин, где швейные машины. На витрине верблюд и бедуин, а у верблюда между горбов — машинка. Я о такой мечтала с тех пор, как закончила швейные курсы.
Обед разносят.
Говядина?
Не умеют здесь готовить говядину, сколько надо повторять, чтоб на слабом огне и с зеленью.
Фасоль будет.
Вот пани магистр обрадуется, она обожает спаржевую фасоль, очень уж хорошо эта фасоль делится.
Пани магистр любит делить и считать, это у нее от работы в аптеке осталось.
Первым делом разложит стручки на краю тарелки и сосчитает. И радуется, что так красиво лежат, ровнехонько: один стручок, второй, третий… сосчитает все и довольна…
Капуста — нет, ее не поделишь, а клюски[83] — эти да, вот (показывает), вот так — и готово.
Приятнее есть, когда поделишь, вы так не считаете? — каждый день спрашивает у меня пани магистр. Сама природа разрешает нам делить, хотя, признаться, некоторые вещи делить неинтересно, взять хотя бы сосиски. Легко, но неинтересно. Другое дело морковка. Поделим и сами себе удивляемся: как это нам удалось…
Хорошо, что пани магистр обыкновенно говорит, не очень понятно, зато хоть не в рифму. Потому что бухгалтерша — стихами. Я, в немецком концлагере хефтлинг[84] босой, в снегу замерзаю, на солнце сгораю..
А нормально вы не можете? — спрашиваю. Просто: дескать, голод, работа тяжелая… Не может. Работа мне спину согнула дугой, голод денно и нощно нутро терзает…
Советует, чтоб и я стихами. Это не трудно, вас ведь эти евреи призывали на помощь, вот и красивое начало: пойду, когда позовут, по лесам, по полю… Теперь только найти рифму к полю — ну, хотя бы поле-доля, что такая уж будет ваша доля…
Я? По полю? Да никогда.
Кончилась моя смелость.
Сама иной раз удивляюсь… Как это говорит пани магистр? Сама себе удивляюсь, что была такая смелая.
Домой пойду.
На Сенную.
Туфли уже есть…
Теплая кофта…
Шляпу я не взяла. А думала ведь взять, темно-синюю.
Ну ничего, пойду в платочке.
Одна туфля…
Может кто-нибудь застегнуть мне вторую туфлю?
Дворник прибежал, п-по… п-по… полицейский… з-з-за… за вами… никак дух перевести не мог, через три ступеньки, что ли, перескакивал, за вами, ну чего на меня смотрите…
И сразу пораскрывались двери.
Портной выглянул, его дверь напротив. За портным две сестры, они по обеим сторонам от него жили, а за сестрами Гинальская. С самого конца коридора, там, где уборная.
Сейчас…
Нет, первой выглянула Гинальская. Портной не мог, его на четвертом этаже тогда уже не было, он вселился в квартиру евреев, а Гинальская — к портному. Ну а кто же был около уборной?
Подождите, сказала я, стала одеваться и стала думать.
Кто-то донес? Соседки — нет, хотя муж той, слева… Не нравился мне этот муж. На кого он мог донести? На Ядю? На доктора Кальтман? Доктор прибежала из больницы, с Умшлагплац[85]… Халат набросила на пальто, кто-нибудь мог удивиться: почему поверх пальто, почему не как у людей…
Теперь целый день буду мучиться: кто выглянул с конца коридора?
Если евреев в гетто…
Портной — в их квартиру…
Гинальская — к портному…
Возьму шляпу, подумала — и надела темно-синюю, с небольшими полями, с бантом. Рано было, никто еще не ушел на работу, все стояли в дверях и на меня смотрели. Ты, Марыня, живой к нам уже не вернешься, сказал кто-то.
Это было отделение железнодорожной полиции, на Аллеях, около детской больницы. Мы шли по Сенной, потом по Желязной, полицейский помалкивал, ну и я молчу, только думаю: Рута? Ядя? Доктор Кальтман?
Молилась.
Как всегда, Брониславе[86]. Уже сто лет блаженная, должна себя показать.
Помоги, просила. Мне помоги и тому, кого там держат в участке, опять небось шмальцовник[87] привел. Бронислава, Ты целый город от заразы спасла, что для Тебя эти несколько человек.
Я спокойно шла, невинным шагом. Я им всегда вдалбливала: помните, ходить надо невинно.
Омега она называлась.
Больница эта.
Нет ее уже, полицейского участка тоже нет, я недавно проверяла, нету, в метро перенесли.
Двое их было, небритые, помятые, какие-то расхристанные. Один стоял, другой сидел за письменным столом и набивал гильзу. Одну папиросную бумажку порвал, вторую, отодвинул табак и спросил аусвайс[88].
Островская… Мария, дочь Миколая… А Эмилия? Вы знаете Эмилию Островскую?
Что я, сестру свою не знаю? — удивилась я, но начала немного волноваться.
У вас сестра — еврейка? — ухмыльнулся тот, что стоял.
Что-что? — сказала я с ужасным возмущением в голосе. У меня еврейская сестра?!
Женщины мне потом говорили, что я кричала, они в камере услышали мой крик.
Я? Кричала?
Я голос не повышаю.
Я им сказала: да вы что.
Только три слова.
И посмотрела на них.
И добавила, что со мной такие номера не проходят.
Позвала: Миля! Ты здесь?
Они были там, обе.
Навещают, а как же.
Очень участливые.
Ну что, Марыня, как себя чувствуешь?
Заботливо так, приветливыми своими голосами… Обе. Ядина дочка и дочка доктора Кальтман.
Я возвращаюсь, говорю им.
Куда? — спрашивают и делают вид, что удивились.
Как куда? На Сенную.
Нет уже, Марыня, Сенной. Во время восстания разрушили, не помнишь?
Я злюсь: ведь я знаю, что на Сталёвую, я же знаю. А они говорят: Мария, здесь тебе хорошо, ты не можешь быть дома одна.
Этими своими приветливыми, заботливыми голосами.
Ну правда не можешь, Марыня, пойми…
Не могу? Я?!
Нет уж, милые мои, никто мне не будет указывать, чего я не могу.
Завтра.
Или еще сегодня.
Туфли, где мои туфли…
Слава Богу, что Ядина дочка умела молиться. Им экзамен устроили, Ангел Господень[89] велели прочитать. А Ядя… Боже милостивый, неужели не могла выучить такую простую молитву? Эмилия Островская — и не знает, что такое Ангел Господень? Дочка знала, но эти ее глаза, волосы… Тот, что стоял, сказал: одна из вас еврейка, а вторая — нет. Мы не знаем, кто именно, это вы нам скажете, вы сами.
Им дали ночь на размышления.
Утром они должны были сказать.
Кто именно.
Полька уйдет, еврейка останется у нас, сказал тот, что стоял.
Вроде бы они советовались. Ядя говорила: ты уйдешь, я уже свое отжила. Девочка говорила: нет, ты уйдешь.
Вроде бы решили, что сделают: останутся обе.
Вроде бы услышали мой голос, и Ядя шепнула: Мария пришла, все будет хорошо.
Интересно, почему их выпустили.
Бронислава помогла?
Ангел Господень услышал?
Полицейские мне поверили?
Который за столом сидел аж вздохнул: будь у меня ребенок с такими глазами, я бы с ним по улицам не расхаживал.
Ему удалось набить подряд две гильзы и не порвать бумажек. Может, настроение улучшилось и не захотелось в тот день никого отправлять в гестапо?
Он был прав. Ну зачем им было вдвоем шататься по улицам?
Они сюда вернулись откуда-то из-под Люблина. Пришлось вернуться, потому что какой-то мужчина расспрашивал, кто эта черненькая.
А под Люблин-то вы зачем поехали?
Там не потребовали метрики этой черненькой.
Ядя говорит, что к участку подъехала пролетка.
Ты что, не было никакой пролетки, мы пошли пешком.
Она: на пролетке.
Я: пешком.
На пролетке.
Пешком.
Так ли, сяк ли — ко мне мы пошли, на Сенную, девяносто.
Она ничего не знала. Эмилия, моя родная сестра.
А что, должна была знать?
Миля, дай свою метрику, она мне для кого-то нужна… так, что ли, я должна была сказать сестре?
Она бы сразу поняла. Все понимали, кому нужна арийская метрика.
Она бы испугалась: еврейке хочешь дать? Погубить меня хочешь? И мужа? И шестерых детей? Восемь человек? Посчитай. Восемь! Ради одной еврейки!
Ради двух, у этой еврейки еще дочка есть, — только это я и смогла бы ей ответить.
Да, так оно и было, я могла погубить восемь человек.
Больше, еще и братову дочку.
Если б я начала думать, чего не должна делать…
Просто сказала: дайте мне метрики, попробую раздобыть дополнительные карточки.
Дали, конечно.
Я купила им на черном рынке то ли подсолнечное масло, то ли соль, а может, керосину для лампы.
Вот так дочка доктора Кальтман стала моей племянницей (дочкой брата). А Ядя — сестрой.
Я им до войны платья шила.
Спрашиваете, согласилась бы?
Сестра моя добрая была… но нет, так и не узнала. До конца жизни.
Нет-нет, я ей не говорила.
И детям ее не говорила.
А зачем им знать. У них другие заботы, всё чего-то подсчитывают, ссорятся.
Из-за одной шестой.
Тетя, говорят, каждому причитается одна шестая. Каждому. Ну сама посуди. По одной шестой выходит. Посчитай. Сколько получается? Одна шестая.
А я знаю, от кого?
От матери, наверно. От бабушки. От Эмилии.
Кто-нибудь однажды им скажет.
Ядина дочка, кто ж еще.
После моей смерти, когда ж еще.
Ядина дочка — дочке Эмилии.
Лучше сразу, прямо на похоронах. На Бродно[90], в этом деревянном костеле. Или по дороге к могиле.
А вы знаете? — скажет Ядина дочка дочке Эмилии.
Чудесная будет сцена, мне б самой хотелось увидеть.
Ядя, она бы за мной пришла.
Рута — нет, потому что я опоздала. Вы опоздали на пятнадцать минут, сказал шмальцовник.
Они четыре хотели. Рута прислала их ко мне, у меня была только тысяча. Я попросила знакомую одолжить кольцо, она велела отнести его в ломбард и взять квитанцию, а после войны отдать.
Я побежала с кольцом, Руты уже не было.
Хорошо, что к Яде не опоздала.
Ядя за мной пришла бы.
Или Рута.
Она сидела в пальто. Это была ошибка, было тепло, а она вышла из гетто в зимнем пальто. Вся дрожала, хоть и в пальто. Панна Марыня, раздобудьте где-нибудь, возьмите взаймы, они хотят четыре тысячи.
У меня была тысяча.
Я одолжила кольцо.
Я правда спешила…
Потому что на этих дочек нельзя рассчитывать.
Ни на Ядину дочку, ни на эту Кальтман.
И зачем я их спасала?
Стоило их спасть?
Стоило?
Ядя… могла бы подождать эти несколько дней.
Первого пришел бы почтальон, принес пенсию, венок был бы красивее.
В среду мы пирог собирались испечь, коврижку.
Я и сама могу, не хуже нее, ну, может, иногда суховат выходит. Ядя чего-то подливает, может, какао. Или шоколаду. Или ром.
Еще бы два дня, и я б узнала.
До первого числа не умирают, Ядя должна бы такие вещи знать.
Женщина с гитарой идет. Петь будет, у кроватей, кто что попросит.
Уланы, уланы… это для пана Стася. Он в Вестфалии работал, на шахте. Нет, с ним не довелось встретиться, я ведь около голландской границы была.
Генек сам меня отыскал, специально так устроил, чтоб отправили на принудительные работы.
Я и женатый мужчина? Ну, знаете…
Генек. Высокий такой.
Приезжай ко мне, любимый,
жизни для тебя не жаль…
Слезы лью плакучей ивой,
их река уносит вдаль…
Это вы для меня? Мне, пожалуйста, «Аве Мария»…
Артистка не хочет слушать песни, грустит, потому что не помнит, кем была. То ей кажется, драматической актрисой, то, наоборот, что пела в опере. Вчера учила нас, что петь надо с открытым горлом: а-а-а-а-о-о-о-о. Может, и вправду певица.
В один день потеряла и память, и голос, считает — в наказание, но за что, скажите на милость, за что?
Есть у нас одна, психолог, у нее внуки поумирали от конфликта крови.
Она говорит, что завтра умрет.
Вчера то же самое: мне, говорит, один день остался. Сегодня: это уже точно, я с вами последний день…
Ну значит, ее заберут. Быстренько, чтобы мы не видели. Потому что мы расстроимся и у нас понизится сопротивляемость.
Венфлон[91] у нее из вены вынут, трубку вытащат, вставят челюсть и прилепят пластырь с фамилией.
Положат в мешок. Мешки белые и черные, блестящие, пластиковые, с молнией или на липучках. Я бы предпочла белый.
И белый автомобиль.
Они думают, никто этого не видит.
Чудаки…
Мы можем поехать по Сенной?
По Сенной, если можно, пожалуйста.
Я должна попрощаться…
Я должна попросить прощения.
Я к ней евреев посылала.
Ко мне клиентки приходили на примерку, у нее было безопаснее.
Гинальская, дверь напротив.
Она еврейские писи в ведре выносила в уборную, через весь коридор… Суп из благотворительной кухни…
Прости меня, Дануся, очень тебя прошу.
Ядя? Ты уже тут?
Я знала, что ты не опоздаешь.
Пролетка ждет. Мы обе уйдем, я уже свое отжила.

Праведник народов мира
Часть четвертая[92]
«Тайна — это…»
1
Автор письма была бы признательна за ответ: что я знала о Станиславе Сойчинском[93]? Я написала (см. «Белая Мария», часть вторая, глава «Доктор»), что до войны он был учителем польского языка, во время войны партизанил, после войны его расстреляли. То есть отозвалась положительно. А знала ли я…
(К письму была приложена вырезанная из газеты статья двадцатилетней давности.)
А если знала, почему об этом не написала?
Может быть, я не знала. В таком случае должна узнать.
Потому что, если я все-таки знала…
2
Получила ваше письмо, большое спасибо.
Вас интересует Станислав Сойчинский…
А почему?
Отец?
Ваш отец?
Тот, который Сойчинского… он — ваш отец?!
3
Наша квартира была с парадного входа, над нами жил де Голль, он тогда был военным атташе в Варшаве, во флигеле — Ханка Ордонувна[94]. Отец распространял австрийские презервативы olla-gum. Хороший дом, приличные жильцы, никаких коммунистов.
Я поступил на юридический. На втором курсе евреям выделили отдельные места. В Auditorium Maximum — слева, если смотреть от кафедры.
На всех лекциях мы стояли. С нами стояли несколько поляков — трое, может, четверо. Все — левые.
Ну и кем я должен был стать?
В июне я получил степень магистра права, в сентябре был в Ровно.
Семнадцатого увидел советских солдат[95]. У меня болел живот, я отошел в сторону, меня заслоняли кусты.
Я увидел, что русские окружают лес.
Увидел, что их офицер подходит к нашему командиру.
Увидел, как наш командир достает пистолет и стреляет себе в висок.
Я ждал.
Моих товарищей вывели из леса.
Я вышел из-за кустов, вернулся в город и переоделся в гражданскую одежду.
Война: стройбат, тиф, Актюбинск, Первая армия.
В сорок пятом мне сказали: будете прокурором.
В сорок шестом: будете обвинять Сойчинского.
Я обвинял двенадцать человек. Для десяти потребовал высшую меру.
Для Сойчинского — четырехкратную.
Суд удовлетворил мое требование.
Не дело это — что одному можно убивать, а другому нельзя.
Сегодня я потребовал бы то же самое.
4
Он командовал лесными отрядами. Партизаны устраивали засады на немцев, отбивали заключенных, выносили приговоры осведомителям… Он был уже не Сойчинский, а Варшиц.
Среди партизан был поэт[96]. Варшиц вызвал его. Тетрадка есть? Это хорошо. Карандаш? Существует, понимаете ли, такая вещь, как слово… — начал он объяснять, и звучало это скорее как наставление учителя, нежели приказ командира. — Только словом удастся слепить этих людей в единое целое…
Поэт получил увольнительную.
Попросил разрешения идти.
Вернулся со стихами. Их размножили на стеклографе, читали в лесу и окрестных деревнях. У мужика, который привез в лес продукты, был для поэта подарок: брусок масла. Это был первый гонорар, который двадцатидвухлетний поэт получил за свое творчество.
…тебе царапающему ногтями землю
в чьих глазах уже померкло солнце
исказились черты лица
тебе ни наяву ни во сне не угадавшему
такого конца
эти строки — глоток воды
согревшейся в долгом походе
ладонь матери дарящая утешенье
занесенноеснегом родное село…
5
Завтра мне исполняется девяносто лет.
В тот день, когда мне исполнилось восемьдесят девять, умер мой сын. Спустя месяц умер мой младший брат.
Я уже только прощаюсь.
С Кафкой попрощался.
С Достоевским.
С которым сам не знаю зачем сдружился, вероятно, зря, но что теперь поделаешь, уже попрощался.
С Раскольниковым без сожаления, а с Толстым с сожалением, и тем не менее.
И с Ницше.
Он был у меня с собой в лесу… «я и сам еще не своевременен», читал я в лесу, «некоторые рождаются посмертно»…[97] Ну да, и с Ницше.
Хуже всего были вши.
Их несколько видов, есть вши обыкновенные, на голове и под мышками, эти еще не такие злобные.
На яйцах — вот самые худшие. В лесу только они и были.
О нем?
О нем — нет…
Не скажу. Ничего. Нет.
Эта его смерть. Страшная.
Нет.
Только не о нем.
И довольно уже, выйдем из этой тьмы. Туда, где ясно, светло. Остаток жизни надо прожить на свету.
6
Когда пришла Красная армия, исчезли его люди. Он написал письмо: легализуется, когда эти люди найдутся. Они не нашлись, и он остался в лесу. Выйти намеревался, как только к власти придет правительство, избранное народом. Народ имеет право на свободное волеизъявление путем свободных выборов, скажет он на суде.
В инкриминируемых ему действиях признается частично, признавать себя виновным откажется. Скорее, у меня есть заслуги перед народом… скажет он на суде.
Что касается нападения на немецкую тюрьму — они освободили пятьдесят семь заключенных… что касается налетов на отделения милиции… что касается нападений на пункты общественной безопасности и на комендатуру милиции…
а что касается убийства Салеты Яна, так были получены донесения, что Салета Ян совершает насилия и произвол, украл велосипед, застрелил владелицу, подговорил советских солдат изнасиловать ее дочку и, несмотря на это, ходил себе преспокойно, так как был членом ППР…[98]
а что касается следователя Цукермана Якуба, убитого на улице…
а что касается нападения и наказания посредством порки братьев Каразинских, членов ППР…
а что касается убийства милиционера Кенцкого…
а что касается курьера из Управления безопасности — нет, такого приказа он не отдавал…
как и приказа убить семерых советских солдат плюс офицера, старшего лейтенанта службы связи НКВД. Не отдавал он такого приказа, категорически нет, и расстреливать взятых в плен не приказывал, считает это произволом и актом беззакония.
Что же касается Шушкевичувны, то Суд по защите общественной морали постановил остричь ее наголо. («Кем была Шушкевичувна для немцев, абсолютно всем известно, и тем не менее Управление безопасности взяло ее в осведомители под псевдонимом „Дуб“».)
А что касается нападения на милиционера Душигроха, который помогал органам преследовать бойцов АК…
а что касается убитого курьера УБ, то ему вовсе не пятнадцать лет было, как утверждали коммунисты, а девятнадцать…
а что касается похищения тринадцати осведомителей УБ и наказания посредством порки…
а что касается убийства Репты Мечислава…
а что касается убийства Бральщика Мариана…
а что касается убийства Брои Яна…
а что касается убийства…
а что касается…
а что касается…
7
Кто-то поставил деревянный крест. Выглядит так, будто здесь произошла авария и кто-то погиб, но ксендз говорит, крест — Варшицу. А сын портного, что ничего подобного, что взаправдашний крест и взаправдашний дом разобрал новый владелец.
Во взаправдашнем доме жил портной Влодарчик. За домом был сад, за садом — кладбище, в саду — летний домик, вроде беседки. В беседке жили Халина и Варшиц. Она красивая была, и фигура хорошая, со знанием дела заметил портной, только слишком много ходила по улицам. Нужно было, понятно, как-никак связная, но если бы через кладбище, вечерами, еще туда-сюда. Их ничего не стоило выследить.
Был вечер, июньский, жаркий. Хозяева распахнули окна и двери, Халина попросила теплой воды. Налила в таз, Варшиц снял запыленные сапоги, так их и застали убеки. Варшица с ногами в тазу и Халину с полотенцем. Не понадобилось ни стрелять, ни вламываться, нормально вошли, через открытую настежь дверь.
Боялись, наверно, потому что стали орать, размахивать револьверами, Варшицу даже пришлось их успокаивать. Послушайте, говорил он, к чему этот крик, ноги-то я должен вытереть.
Он отлично собой владел. Говорил мало, редко улыбался, водки не пил, со всеми был сдержан. Кроме связной Халины. С ней и смеялся, и разговаривал, а она его боготворила, вспоминал портной Влодарчик, ну буквально.

выглядит так, будто здесь произошла авария и кто-то погиб
8
Батя — называет портного Влодарчика его сын.
Батиной специальностью была дамская одежда: пальто, костюмы и платья-костюмы. А из пальто — реглан. Не было лучше мастера по реглану, чем мой батя. Мерку ему не требовалось снимать: поглядит и знает.
Батя считал, что им уже было все равно. Потому и вели себя неосторожно. Все погибло, Польша продана, какой смысл осторожничать.
Увозили их в бронемашинах. Сперва Халину, потом батю и Варшица, скованных наручниками, сверху накрытых шинелью.
Батю бросили в камеру. На следующий день был допрос, следователь: врагам помогали, да? А батя: если помочь — я всегда с радостью. Еврейкам в войну помог, как же было не помочь своим?
Откуда еврейки-то взялись? — поинтересовался следователь. Да из сада, сказал батя. Дверь была открыта. Они вошли, как ваши вчера, мать с девочкой, кучерявые, черненькие, вид — хуже некуда, вошли и стоят. И ничего. Стоят. Так что же я…
Проходит несколько дней, снова батю вызывают. Есть хотите? — спрашивает следователь. Приносят обед. Курите? — спрашивает следователь и подсовывает бате целую пачку. А потом бумагу. Вроде как признание. Мол, батя мой понятия не имел, кто они, просто незнакомые муж с женой хотели снять комнату, а батя ничего и никого не знает. Ну что смотрите? — спрашивает следователь. Вы разве знали? Не знали. Вот и подпишите. Здесь.
Что же оказалось?
Следователь этот был еврей. Отыскал спасенную еврейку, расспросил, и батя был спасен.
Жизнь за жизнь, сказал следователь.
Варшиц получил высшую меру, Халина десять лет, а батя год, и не сказать, что в тюрьме ему было плохо. Надзирателей обшивал, а когда мама приехала на свидание, начальник оставил их в своей комнате одних. И через девять месяцев родилась моя сестра, самая младшая. У нее фирма, производство уплотнителей. У средней — портновские манекены. А наша старшая выбросилась с четвертого этажа на мостовую, вот так-то, по-разному жизнь складывается.
9
Портной Влодарчик учился ремеслу у портного-еврея. Портной-еврей объяснял ученикам, как шить одежду и как жить. Портные-мудрецы в те времена были не редкость.
Кажется, это был лучший портной в городе, но и лучших тогда было немало. Портной Айнхорн считал себя художником и так и представился в письме Марку Шагалу. Он тоже художник, писал, хоть и в другой области, тоже любит живопись и просит картину. Заплатит, ясное дело, по совести и в придачу сошьет элегантный костюм. Шагал за костюм поблагодарил и прислал рисунок. Через несколько дней после занятия немцами города в портняжную мастерскую пришел офицер СС. Ходил по дому, за ним шли полицейские и снимали со стен картины. Начали с Шагала…
У портного Влодарчика был внук. Дед рассказывал ему о Боге, людях и звездах, а внук, когда вырос, закончил философский факультет и написал книгу о еврейском мудреце Левинасе[99]. Повторил за кем-то: он не знал Талмуда, ну и что? Талмуд его знал…
Разве это не про портного Влодарчика сказано?
В дверь к которому вошли Другие — мать с дочкой, безнадежно черненькие, встали и стоят…
Так что же должен был сделать портной Влодарчик, будущий дед будущего автора книги о Левинасе?
10
Археологи ищут останки Станислава Сойчинского. Вроде бы его похоронили на Брусе[100], на армейском полигоне.
Ищут тремя способами: копают лопатами, пускают в ход земляные буры, используют тяжелые землеройные механизмы.
Преступлению приглянулся полигон Брус. Археологи находят останки — то четырех человек, то двадцати, то сорока. Убивали немцы во время оккупации или поляки в сталинские времена, или еще кто-то — когда и кто неизвестно.
Одни в этих рвах безымянны, у других есть фамилии. Были найдены проездные билеты с надписью «Квартальный билет, действителен до 30 сентября 1939. Право проезда принадлежит только указанному лицу, билет предъявляется по первому требованию поездной бригады и контролеров». Благодаря этому установлено, что во рву лежат журналист из «Эха Лодзи» и директор текстильных фабрик Шайблера и Грохмана и что их застрелили во время войны.
Одни были высокие и, судя по зубам, пользовались услугами дантиста, то есть принадлежали к категории людей состоятельных, а у других зубы не залечены и роста они были среднего.
У некоторых связаны руки и ноги.
Одни уложены аккуратно, а других бросали беспорядочно, как попало.
У некоторых были кляпы во рту.
На одних обувь была изношенная, чиненая-перечиненая, а на других — элегантные туфли фирмы «Джентльмен».
Одни были одеты тепло, а другие — легко, то есть убивали и зимой, и летом.
На одних была гражданская одежда, а на других — высокие сапоги, так что это могли быть военные.
У большинства были входные отверстия в затылке. В одних рвах пули обнаружены, а в других нет — это означает, что применялось кинетическое оружие и обладающие большой скоростью пули прошли навылет.
Как правило, стреляли из пистолета девятимиллиметрового калибра.
Никакие из найденных останков и никакие предметы Станиславу Сойчинскому не принадлежали.
Археологи планируют продолжить поиски. К ним присоединятся члены Историко-исследовательской группы. Они будут оказывать археологам помощь и предоставят металлоискатели.
11
Дед верхом на лошади, лошади без деда, всадники на лошадях, вообще много лошадей.
Дед в плену, офлаг Мурнау[101].
У Андерса[102].
В Риме, фонтан Треви.
Бабушка Дзюба в шезлонге. А также у водопада в горах, на курорте у водолечебницы и с дочкой Халинкой. Халинка в краковском национальном наряде, со скрипкой. Она мечтает стать скрипачкой. Или ездить верхом и участвовать в скачках, окончательно она еще не решила.
А тут уже Тадек, сын Халины. У Дзюбы на руках. Или у деда. Только нет его на руках у Халины, потому что Халина сидит в тюрьме.
Когда был суд, она была на восьмом месяце. Отец ребенка, которого я ношу под сердцем, Варшиц, говорила она на следствии.
Интересно, успела ли ему сказать, что у них сын.
Сын никогда ее об этом не спрашивал. Зачали его в мае, значит, в беседке у этого портного. Они должны были обрадоваться. Все идет к концу, все рушится, а тут ребенок, жизнь, будущее, — конечно, должны были, несмотря ни на что.
Мальчик родился в тюрьме, так что целый месяц сидели все трое. Через месяц Варшица расстреляли, а ребенка хотели отправить в детский дом; к счастью, дед вернулся с Запада, подкупил надзирателей и забрал его. Впоследствии говорил, что выкрал, и даже, что похитил, но, похоже, преувеличивал.
Потом мальчик поехал на свидание, вместе с дедушкой и бабушкой Дзюбой. Они сидели перед стеной, в стене было зарешеченное окно. Окно открылось, он увидел бледную истощенную печальную женщину. Это мама, шепнул дедушка, поздоровайся.
Дед написал письмо президенту Беруту, просил помиловать его несчастную дочку, потому что с пути она сбилась из-за любви. Утратила политическую бдительность, писал дед, и не сумела занять правильную позицию. Более опытные не сумели, чего уж говорить о женщине, доказывал дед, а еще напомнил президенту Беруту, что истории известны случаи, когда ослепленные любовью женщины готовы были пойти на все ради любимого мужчины. Троны из-за этого рушились, писал дедушка и приводил в пример Марию Стюарт, Изабеллу Кастильскую, а также императрицу Елизавету и казака Разумовского.
На президента Берута доводы деда не произвели впечатления, Халина отсидела полный срок.
12
Актрисе, которая играла в фильме «Допрос»[103], она рассказывала, что такое одиночная камера. Она там просидела два года. Когда человек один, рассказывала Халина, то в конце концов перестает понимать, думает он или говорит вслух. И боится: вдруг ему только кажется, что думает, а на самом деле говорит и выдает тайны. Или наоборот: ты знаешь, что думаешь, но боишься, что они твои мысли услышат. И на всякий случай все подряд называешь. В основном то, что видишь вокруг себя. Говоришь: пол — решетка — лампочка — шконка — параша… Шконка — параша — лампочка… Решетка — лампочка — пол… И успокаиваешься: ведь даже если что-нибудь и скажешь вслух, то что ты скажешь? Пол — лампочка — параша — параша — решетка — пол…
13
Это Варшиц, незадолго до смерти.
А это он, в том же возрасте. Нос, глаза, лоб, достаточно взглянуть. А теперь он старше… в два раза старше собственного отца.
Это венчание. У Халины в руках белые розы, одну она приколола к волосам… и ее муж — конечно, в профиль. Всегда в профиль, повернувшись к объективу единственным глазом. Интересно, что случилось со вторым. А впрочем: какое ему дело до второго глаза этого человека.
Он разбирал развалины в Варшаве и вывозил кирпичи. Мезальянс, вздыхала бабушка Дзюба, это же мезальянс.
Вероятно, главным для нее было: спрятаться, раствориться, стать невидимой. Она уже не играла на скрипке, не ездила верхом. Никому не говори, что я играла и что знаю языки, наставляла она сына. Он никому не говорил, но они и так знали. Его не допрашивали, никуда не вызывали, но он чувствовал, что они знают, такие вещи всегда чувствуешь.
Он не хотел с ними жить — с матерью и этим ее мужем — и вернулся к дедушке с бабушкой. Она его навещала, пыталась воспитывать. Ты ЭТО читаешь? — спросила однажды с ужасом. Вместо… и осеклась. Он подумал, что сейчас скажет: вместо «Камней на шанец»[104], — но она замолчала, и он так и не узнал, что должен прочитать.
Кричала она один раз, когда он вернулся потрепанный со студенческой демонстрации. Нет! — дергала его за отвороты плаща. Не смей! Я не могу еще раз, у меня нет сил!
Об отце они не говорили. Как и о тюрьме. Как и о лесном отряде. Как и о человеке, за которого она вышла замуж.
Она работала в магазине санитарно-гигиенических товаров. Приходили люди и спрашивали зубную пасту, а она требовала тюбик. Принесите пустой тюбик, без тюбика не продам.
Потом она продавала кофе в торговом центре.
Потом заболела раком.
14
Попадись ему он (прокурор, который потребовал для Варшица высшей меры), схватил бы за шиворот и швырнул на землю. Пусть молит, пусть выпрашивает прощение…
За шиворот? Скрюченной рукой?..
Зато другая вон какая сильная. Этой бы его за шкирку и об землю.
Ходит он все лучше, говорит все лучше, вот только рука… Якобы помогает ботокс. Одна инъекция — полторы тысячи, а Фонд ни гроша не возвращает. Мышцы после одного укола расслаблены три месяца. Хочешь, чтобы целый год, выкладывай шесть тысяч. Ну, люди…
15
В тюрьме она попросила о встрече с адвокатом. Она его знала, «он — мой частный адвокат», — писала в суд.
Розенберг. Имени она не назвала. Хотела срочно с ним встретиться и надеялась, что суд в просьбе ей не откажет.
Суд в просьбе отказал, адвоката Розенберга на заседании не было.
Что за адвокат?
Откуда его знала Халина Пикульская, связная Варшица?
С родителями она жила в Радомско. Там никакого адвоката Розенберга не было.
С Варшицем она жила в Ченстохове…
Был! Его помнят бывшие аппликанты[105]. Он уцелел в войну, защищал военных преступников (адвокат по назначению). Один немец попросил его перед смертью о встрече.
Потрясающий был человек, восхищаются аппликанты.
Только это был не тот Розенберг, которого знала связная. Он вообще был не Розенберг! Аппликанты ошиблись, они имели в виду другого… Розенберг, Хасенфельд, ну, ошиблись. Аппликанты очень сожалели, они даже — искренне сокрушаясь — удивлялись, что могли так ошибиться.
16
Эрнст Й.: рост высокий, крепкого телосложения, усы подстрижены, цвет лица здоровый, нос толстый, губы толстые, недостает пяти зубов, ладонь широкая, говорит по-немецки.
Эрнста Й., жандарма, палача, задержал сотрудник Управления общественной безопасности, возраст сорок шесть лет, образование — три класса русской школы.
У задержанного имелись при себе: туфли из обрезанных сапог, четыре бритвенных лезвия, нитки, брезентовый ремень и мешок с камнем. (Около камня кто-то поставил знак вопроса. Кто-то другой пояснил: милиционеры ему подложили, чтобы тяжело было нести.)
Был назначен день судебного разбирательства и защитник: Мариан Хасенфельд.
Адвокатская контора отказалась принять вызов в суд защитника по назначению.
Адвокатская контора повторно отказалась принять вызов в суд.
Рассмотрение дела началось в 10 часов 30 минут.
Адвокат по назначению просил освободить его от защиты обвиняемого по патриотическим и общечеловеческим мотивам, а также потому, что немцы убили четырнадцать его ближайших родственников.
Прокурор возражал.
Суд не освободил.
Обвиняемый представил объяснения. Он конвоировал поляков на место экзекуции, но лично не вешал, только следил, чтобы партизаны не помешали вешать. Не бил. Ну, возможно, пнул одну. Застрелить не хотел, да и все равно ей был капут. Штыком не колол, выполнял приказы и однажды помог польским пленным.
Защитник по назначению ходатайствовал о допросе свидетелей.
Прокурор возражал.
Суд отклонил.
Присяжный переводчик просил уплатить ему триста злотых.
Прокурор поддержал обвинение.
Защитник просил смягчить меру наказания, нельзя обвинять весь немецкий народ.
Суд удалился на совещание.
В пятнадцать часов суд вернулся. Был зачитан приговор: двукратная высшая мера.
Защитник подал председателю Крайовой рады народовой[106] ходатайство о замене высшей меры лишением свободы.
Председатель правом помилования не воспользовался.
17
Эрнст Й. попросил о встрече с защитником по назначению.
Неизвестно, где они встретились. В камере? В комнате свиданий? Ничего не известно. Кроме того, что немец хотел поговорить с защитником. Что защитник согласился. Что он, вероятно, был последним человеком, с которым Эрнст Й. хотел поговорить перед смертью.
С чего они могли начать?
С сигарет?
Адвокат протянул пачку, охранник проверил содержимое, Эрнст Й. взял несколько штук — четыре, может быть, пять. Отсчитывал сосредоточенно, остальные отодвинул. Этих мне уже не выкурить, сказал, и адвокат отдал пачку охраннику.
Затем Эрнст Й. поблагодарил (мог поблагодарить) защитника по назначению.
Вы меня по-настоящему защищали, сказал он с удивлением. Или с уважением. Или даже с благодарностью.
В ответ адвокат сообщил Эрнсту Й., что к своей профессии относится ответственно независимо от обстоятельств.
Потом они могли помолчать.
Потом Эрнст Й., который в ходе процесса узнал, что его защитник — еврей, мог спросить, где тот был во время войны.
В гетто, ответил адвокат. Откуда мне удалось вовремя выбраться.
К гетто я не имел никакого отношения, мог поспешно заверить его Эрнст Й.
Вот и хорошо, мог подумать адвокат.
Тут охранник мог сказать, что время закончилось, и оба, адвокат и Эрнст Й., поднялись со стульев. И Эрнст Й. мог попросить у своего еврейского адвоката прощения. Возможно — как знать, — попросил бы его простить.
Адвокат мог задуматься.
Простить?
Он мог так сказать.
Прощения просите у Него. Только у Него. Уже лично.
18
Прокурор Особого уголовного суда[107] в письменной форме известил начальника тюрьмы, что казнь через повешение заключенного Эрнста Й. назначена на пять часов утра 4 декабря 1945 года, и поручил отдать соответствующие распоряжения.
Начальник тюрьмы в письменной форме любезно попросил органы социального обеспечения забрать останки Эрнста Й.
19
У Иегуды Хасенфельда, крестьянина из деревни Рендзины, было восемь сыновей, и все в детстве умерли от загадочной болезни. Когда заболел девятый, соседи-поляки сказали Иегуде, что нужно сделать. Нужно положить ребенка на простыню и отнести к чудотворному образу Божией Матери. Иегуда пойти не мог, поскольку был евреем, так что соседи-поляки положили его сына на простыню и сами понесли в костел. Внутрь с еврейским ребенком заходить не стали, но Богородица и без того их услышала. Они качали ребенка на простыне, качали, пока болезнь не начала отступать. Тогда они вернулись в Рендзины и отдали Иегуде сына и простыню.
Исцеленный сын спустя годы стал мельником и молол гречиху в крупу.
Сын мельника стал адвокатом.
20
Он был высокий, худощавый, соблюдал диету, каждый день выходил на прогулку — в одно и то же время и в одном и том же пальто, довоенном, сшитом по мерке в Вене.
Жил в доме довоенной постройки и хорошо разбирался в довоенном законодательстве. Благодаря этому мог обучать адвокатов торговому праву, давал им читать довоенный учебник Львовского профессора Мауриция Аллерханда.
Тщательно следил за внешним видом. Адвокат, говаривал, должен одеждой подчеркивать значимость своей профессии. Должен носить костюм, лучше всего темный, а рубашку — лучше всего белую и с запонками. Отчитывал стажеров, осмеливавшихся прийти в пуловере и без галстука.
Собирал картины, особенно любил Коссака и Мальчевского[108].
Был футбольным судьей.
Преподавал.
Много читал.
В Управлении безопасности лежало его досье и анкета со множеством пунктов. В графе «Специфика дела» было написано: сионизм. В пункте «Уточнение специфики»: поддерживал Израиль, критиковал Египет, политика Советского Союза его удивляла.
У него была жена, тоже адвокат, и племянница. Детей не было. Он хотел эту племянницу удочерить, но она не согласилась. Ждала отца и дядьев. Отец не вернулся с Варшавского восстания, его братья — из Катыни и из тюрьмы на улице Монтелюпих[109]. А когда она поняла, что они не вернутся, и перестала ждать, удочерять было уже поздно.
21
У племянницы был молодой человек — брюнет с голубыми глазами, симпатичный, ездил на мотороллере (первом в городе). Не ей одной этот парень нравился, девушки ему проходу не давали, в особенности одна, из Бляховни. Он получил заграничный паспорт и уехал, на вокзал его провожали они обе. Племянница попрощалась на перроне, а девушка из Бляховни села в поезд и попрощалась с ним на границе.
Племянница сесть в поезд не могла, потому что дома ее ждали — тетя с дядей и их верная, уже стареющая домработница. (Вскоре потом девушка из Бляховни тоже получила загранпаспорт и поехала к парню. Родила ребенка. Они поженились. Живут долго и счастливо и ко всем праздникам присылают племяннице поздравительные открытки.)
Тетя, дядя и домработница стали хворать. У тети было воспаление гортани, у дяди — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, а у домработницы — больное сердце.
Хорошо, что племянница окончила медицинский.
Она лечила их, ставила капельницы, меняла повязки, делала уколы, а мочу и кровь носила в лабораторию — самую лучшую в городе.
Никого не отдала в больницу.
Они умирали так, как им хотелось, каждый в своей постели, а она каждого держала за руку до самого конца. Сперва тетю. Потом дядю. Потом домработницу, которая умерла сразу после дяди. Говорили, он забрал ее к себе, потому что и там она была ему очень нужна.
Уже похоронив всех, племянница пошла к психиатру.
Не эгоистично ли это было с их стороны? — призадумался недавно психиатр.
Мне это не важно, сказала племянница. Главное, что с моей стороны все было в порядке.
Верно, согласился психиатр и выписал племяннице новую порцию лекарств.
22
Самая лучшая в городе лаборатория — очередной объект гордости в семье. После лесопилки Давида Герша, прадеда, и хирургических инструментов Пинхуса, деда. Только у отца ничего такого не было. Кроме любви — возможно, как знать, и самой лучшей.
Давида Герша сосватали с Доброй Ентл, когда ему было двадцать лет. В семейной книге памяти написано, что супруги были гостеприимными, щедрыми и принадлежали к приверженцам раввина Александра. Все в этой книге гостеприимные, расторопные, охотно совершают добрые дела и два раза в год ездят к раввину. Откуда возвращаются, проникнувшись возвышенными чувствами и еще лучше прежнего. При том что никакого раввина Александра не было, авторы книги ошибаются. Был город Александров — местопребывание известной на всю Польшу династии цадиков. Авторы книги живут за тысячи километров от тех краев, где была лесопилка и хирургические инструменты. Откуда им знать разницу между Александром и Александровом? И откуда знать про Ханоха, основателя династии, который любил вспоминать слова своего учителя: тайна — это то, о чем говорится так, что слышат все, но никто из тех, кто понимать не должен, не понимает.
23
У Пинхуса, сына Давида и Добры, были четыре дочери. Три красивые, а четвертая — не очень высокая, не очень худая, зато с большими глазами, длинными ресницами, длинной косой вокруг головы, — эта четвертая была просто красавица.
Самым сметливым работником на фабрике Пинхуса был Янек, превосходный шлифовщик. Вдобавок он был высокий, сильный, и Пинхус попросил его провожать Эстер, эту четвертую, в школу.
Однажды самый лучший работник проводил Эстер в школу, потом за ней пошел, а потом исчез. Оба исчезли, дочь фабриканта Пинхуса и его работник.
Полиция не могла их найти. Родители не могли. Родственники не могли. Они нашлись, когда Эстер была уже Эльжбетой, окрещенной и обвенчанной в Ясной Гуре[110] с самым лучшим работником Пинхуса Ландау.
Пинхус поехал к цадику.
Сядьте и плачьте, сказал цадик. У вас нет дочери, плачьте по ней, как по покойнице.
Позвали плакальщиц. Заслонили окна. Порвали одежду. Семь дней оплакивали Эстер, как оплакивают покойников.
24
Они были бедные. Пинхус выгнал зятя с фабрики и постарался, чтобы того не хотели никуда брать на работу. Они были такие бедные, что, когда началась война, их даже не шантажировали. Не имело смысла. И убивать нас не имело смысла, скажет после войны их сын, никто бы на этом не нажился.
Жили они за городом, в деревянном домишке крестной Эстер-Эльжбеты. Родители и сестры были в гетто. Перед ликвидацией гетто Эстер-Эльжбета получила весточку: пускай ждет в условленном месте. Придет человек, принесет мешочек. Пинхус Ландау шлет своей покойной дочери семейные драгоценности.
Она колебалась…
Продаст кольцо. Купит белого хлеба, новые свитера детям, может, даже новые ботинки. Люди увидят. Будут завидовать. Это нехорошее чувство, объясняла она мужу.
И никуда не пошла.
Не получила мешочка.
Убивать их не имело смысла.
Они пережили войну.
25
Домик крестной стоял неподалеку от границы с рейхом и от немецких казарм. Сын Эстер-Эльжбеты подрался с товарищем, и тот, когда они поравнялись с казармами, крикнул: «Jude![111] Пан немец, он — Jude!» Часовой остановился, поглядел и пошел в другую сторону. Может, решил, что это шутка. Может быть, убивать в тот день не хотелось.
Сын Эстер-Эльжбеты больше с этим мальчиком не играл, но здоровался, говорил: привет! Всегда первым. Эстер-Эльжбета учила: ты должен быть вежливым, помни. Ну и сын: привет, тот: привет, — и никогда ни слова больше. Война окончилась. Город невелик, иногда они встречаются на улице — от раза к разу все более сгорбленные, все более седые. Привет, говорит сын Эстер-Эльжбеты, по-прежнему — сам не зная почему — первым. Привет, отвечает тот. И никогда больше ни слова.
То же самое с женщиной из соседнего дома.
Она знала, где живет еврейка, и сказала немцам, что знает. Что ж, неудивительно. Ее сына схватили, когда он возвращался из рейха с контрабандным товаром, и ему грозил концлагерь. Соседка предложила сделку: немцы отпустят ее сына, а она им даст адрес еврейки.
Сына отпустили, еврейку не искали, война окончилась. Они иногда встречали ее, эту соседку. Здравствуйте, говорили первыми, потому что Эстер-Эльжбета была вежливая, и дети у нее были вежливые, а соседка отвечала тоже вежливо.
26
Они ходили в Ясну Гуру — всегда в один и тот же день, всегда вдвоем, пятьдесят лет. Однажды Эстер-Эльжбета остановилась на полпути. Она озябла и вернулась домой за шерстяной кофтой, муж ждал на лавочке. Когда она пришла с кофтой, мужа не было. В костеле не было, дома не было, искали неделю. На восьмой день позвонили из полиции: нужно опознать труп. Он лежал в пойме, недалеко от берега реки Варты.

он лежал в пойме, недалеко от берега реки Варты
Эстер-Эльжбета перестала есть.
Дочка — владелица самой лучшей лаборатории — подключала ее к самым лучшим капельницам и давала самые лучшие укрепляющие препараты…
Эстер-Эльжбета умирала.
За день до смерти она начала молиться, не так, как обычно.
Вполголоса, странными, не польскими словами.
Это не была католическая молитва, говорит дочка Эстер-Эльжбеты.
Это могло быть что-то еврейское.
Еврейское?
Нет, вряд ли.
Хотя… пожалуй, да.
Возможно.
Не знаю.
27
Когда она лежала под этой капельницей, ей разное вспоминалось.
Сначала вспомнился дядя Йешаягу, все его звали Шая, который не отдал своего ребенка польке.
Неизвестно, кто она была такая, известно только, что блондинка (понятное дело, полька), что бездетная и что хотела взять себе Шаину дочурку.
Дядя спросил у матери, у отца, у сестер и братьев — у всей семьи: что делать?!
Вся семья села за стол. Посовещались. Решили: ребенка не отдавать, нет, они должны быть вместе, все, до самого конца.
И еще под этой капельницей ей вспомнилась Рузя, младшая из сестер, которую называли Рузютка. Она выкралась из дома, пошла на вокзал — хотела убежать. Мать догадалась и тоже пошла на вокзал. Поезд еще стоял. Мать бежала от вагона к вагону, в последнем нашла Рузютку. Мы должны быть вместе, объяснила она, и дочка вышла из вагона. И они погибли вместе: родители, Рузютка, сестры и дочурка дяди Шаи, двух лет от роду, имени которой Эстер-Эльжбета под этой капельницей не могла вспомнить.
28
Ну а Розенберг…
Что насчет Розенберга?
Пятеро их пережили войну — пять адвокатов по фамилии Розенберг.
У одного значился лодзинский адрес — а связную судили в Лодзи.
Последний след лодзинского Розенберга отыскался в Воломине. Он защищал в суде спортсменов «Маккаби»[112], когда боевики разгромили помещение клуба. (Давние времена. В Воломине еще были евреи. У них еще были спортивные клубы.)
Потом он исчез. Ни в одном архиве его нет, ни в одной адвокатской палате его не помнят. А ведь он записался в список уцелевших: Александр, сын Исаака и Флорентины, Лодзь, Поморская улица.
Был на Поморской один адвокат: второй этаж, слева, по соседству с паном Сикстом.
В военной форме ходил, потом в штатском и всегда с револьвером. Чуть разозлится — сразу начинает стрелять. Чаще всего в домработницу. Не то чтоб убить хотел, просто очень был вспыльчивый. Неженатый, жил с любовницей, защищал воров, сутенеров и проституток. Если клиент не платил вовремя, посылал к нему пана Сикста, а это далеко не всегда было безопасно.
Да вот только вспыльчивый адвокат не был Розенбергом.
К сожалению.
Приезжал на Поморскую кто-то из Варшавы. Тоже адвокат, тоже еврей, и останавливался у вспыльчивого. Мог это быть Розенберг?
Да, пожалуй, он и был Розенберг.
Хотя нет, вряд ли.
А может, был.
Неизвестно.

notes
Примечания
1
Кшиштоф Кеслёвский (1941–1996) — режиссер и кинодраматург, автор фильмов «Двойная жизнь Вероники», циклов «Декалог» и «Три цвета» и др. Здесь идет речь об одной из частей «Декалога» («Восьмая заповедь»), сюжет которой подсказан режиссеру Ханной Кралль. Полный текст заповеди: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16); в православной традиции эта заповедь — девятая. (Здесь и далее — примеч. перев. См. также примечания в конце книги.)
2
Кшиштоф Песевич (р. 1945) — адвокат, политик (много лет был сенатором), сценарист, соавтор сценариев ко многим фильмам К. Кеслёвского (в частности, к «Декалогу»).
3
Армия Крайова (АК) — военная подпольная организация; Кедив — Управление диверсиями АК.
Армия Крайова (АК) — военная подпольная организация, действовавшая в 1942–1945 гг. в оккупированной Польше; подчинялась лондонскому польскому правительству в изгнании. Управление диверсиями (Кедив) было создано при главном штабе АК в январе 1943 г. с целью координирования саботажно-диверсионной деятельности; в подчинении у Кедива были собственные оперативные отряды.
4
Вопрос священника при крещении: Quid petis ab Ecclesia Dei? (Чего ты просишь от Церкви Божией?) Ответ крестного отца/матери: Fidem. (Веры.)
5
Мариан Спыхальский (1906–1980) — военный, государственный и партийный деятель.
Мариан Спыхальский (подпольные псевдонимы Марек, Орка; 1906–1980) — военный, государственный и коммунистический деятель. В годы оккупации — активный участник Сопротивления в составе коммунистического крыла, командующий штабом Гвардии Людовой (военная организация Польской рабочей партии) (1942) и Войска Польского (1944), с 1945 г. — член ЦК и Политбюро ЦК Польской рабочей партии, а затем созданной в 1948 г. Польской объединенной рабочей партии (ПОРП). В мае 1950 г. арестован, в заключении подвергался пыткам, признал себя виновным во многих преступлениях (шпионаж в пользу Англии, национализм, правый уклон); в марте 1956 г. освобожден, полностью реабилитирован и немедленно введен в состав ЦК и Политбюро ЦК ПОРП, а в ноябре назначен министром обороны. Во время политического кризиса 1968 г. снят с поста министра и назначен председателем Государственного совета Польши (высшая исполнительная должность); после отстранения от власти первого секретаря ЦК ПОРП Владислава Гомулки (декабрь 1970 г.) Спыхальский освобожден со своего поста, выведен из состава Политбюро, а в 1971 г. и из ЦК ПОРП.
6
Кшиштоф Варликовский (р. 1962) — театральный режиссер; в Москве были показаны его спектакли «Крум» (2006; по пьесе Ханоха Левина) и «(А)полония» (2011; награда фестиваля «Золотая маска»).
7
Возвращенные (Западные) земли — условное название бывших территорий Третьего рейха, большая часть которых была передана Польше по условиям Ялтинской и Потсдамской международных конференций в 1945 г. и в результате двусторонних договоров с СССР в 1945–1956 гг. Немецкое население с этих территорий было принудительно депортировано.
8
См. примеч. 54.
9
Михал Жимерский (псевдоним Роля; 1890–1989) — с 1918 до 1926 г. служил в Польской армии, не поддержал военный переворот Ю. Пилсудского, был разжалован, тайно вступил в коммунистическую партию; во время Второй мировой войны — участник Сопротивления; главнокомандующий Войска Польского и министр обороны Польши (1945–1949), маршал Польши.
10
Болеслав Берут (1892–1956) — партийный и государственный деятель, с 1918 г. член коммунистической партии, в 1943 г. возглавил Польскую рабочую партию, созданную вместо распущенной Сталиным Коммунистической партии Польши (1918–1938); первый президент ПНР (1947–1952), премьер-министр (1952–1954), с марта 1954 г. до смерти — первый секретарь ЦК ПОРП; умер при загадочных обстоятельствах в Москве 12 марта 1956 г., вскоре после посещения XX съезда КПСС.
11
Милена Есенская (1896–1944) — чешская журналистка, писательница, редактор и переводчица, возлюбленная Кафки. После аннексии Третьим рейхом Судетской области участвовала в движении сопротивления, помогала еврейским семьям эмигрировать; в ноябре 1939 г. была арестована и отправлена в Равенсбрюк, где умерла в 1944 г.
12
«Сказание о земле Сибирской» — советский цветной музыкальный фильм (1947), режиссер Иван Пырьев, в главных ролях Владимир Дружников и Марина Ладынина.
13
Меран (Мерано) — город в автономной провинции Больцано (Южный Тироль) в северной Италии.
14
Ханна Кралль «Королю червонному — дорога дальняя». М.: Астрель, Corpus, 2013 (перевод Ирины Адельгейм).
15
Марек Эдельман (1919–2009) — политический и общественный деятель, кардиолог, один из руководителей восстания в Варшавском гетто (1943), участник Варшавского восстания (1944), один из основателей Комитета защиты рабочих (1976), активист «Солидарности», в 1989 г. участник переговоров «круглого стола»; кавалер ордена Белого орла (высшая польская награда). История Эдельмана описана Ханной Кралль в книге «Опередить Господа Бога» (1977; перевод К. Старосельской, «ИЛ» 1989; М.: Текст, 2011).
16
Эльжбета Гражина Боруцкая-Куронь (1940–1982) — активный деятель оппозиции, жена Яцека Куроня.
17
Яцек Ян Куронь (1934–2004) — политик и государственный деятель, один из руководителей антикоммунистической оппозиции; министр труда и социальной политики (1989–1990,1992—1993), депутат Сейма (1989–2001).
18
Новый замок (нем.); на севере Чехии есть деревня с таким названием.
19
«Aero» — чешская фирма (1929–1947), производившая самолеты и автомобили.
20
Зеленая граница — популярное название слабо охраняемого участка государственной границы; обычно ассоциируется с нелегальным переходом границы или переброской контрабандного товара.
21
Яд ва-Шем — Национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и героизма; основан в 1953 г. с целью увековечения памяти о евреях —жертвах нацизма в 1933–1945 гг.
22
Праведники народов мира (Праведники мира) — неевреи, спасавшие евреев в годы нацистской оккупации Европы; их имена увековечены на Горе Памяти в Иерусалиме. На 1 января 2013 г. праведниками мира признаны 24 811 человек — выходцы из 44 стран.
23
Равенсбрюк — крупнейший женский концентрационный лагерь Третьего рейха на северо-востоке Германии (май 1939—конец апреля 1945).
24
Стегны — район Варшавы, строительство которого началось в 1971 г. на площади 75 га; в центральной части района располагались 11- и 16-тиэтажные крупнопанельные дома.
25
Речь идет о фильме «Двойная жизнь Вероники» (1991) с двумя героинями — полькой Вероникой и француженкой Вероник, чьи судьбы странным образом связаны между собой; обеих героинь сыграла Ирен Жакоб (премия Каннского фестиваля за лучшую женскую роль).
26
Ежи Попелушко (1947–1984) — священник, активный сторонник профсоюза «Солидарность», находившегося в оппозиции коммунистическому режиму. Был убит сотрудниками службы безопасности.
Осенью 1981 г. обострился конфликт между коммунистическими властями и профсоюзом «Солидарность»; в ночь с 12 на 13 декабря Государственным советом ПНР было введено военное положение (отменено 22 июля 1983 г.), и власть перешла к Военному совету национального спасения во главе с генералом Войцехом Ярузельским; «Солидарность» ушла в подполье.
27
«Хелмек» — первый комбинат по промышленному производству обуви в Польше, созданный в г. Хелмеке под Краковом (1932) как предприятие чешской фирмы «Батя»; существовал до 2003 г.
28
Речь идет о здании суда на улице Третьего мая в Гданьске.
29
Имеется в виду франко-прусская война (1870–1871).
30
После массовых антиправительственных выступлений рабочих (в декабре 1970 г.) в ПНР произошла смена партийного и государственного руководства (см. примеч. 41.).
31
Кларк (морской жарг.) — чиновник, ведающий погрузкой и разгрузкой судов.
32
Марка мотоцикла.
33
Государственное земледельческое хозяйство — форма социалистической собственности в ПНР с 1949 по 1993 г.
34
Адам Малыш (р. 1977) — знаменитый польский прыгун с трамплина, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира и четырехкратный призер Олимпийских игр.
35
Гурали — этнокультурные группы поляков, живущие в горных областях на юге Польши, северо-западе Словакии и северо-востоке Чехии.
36
Убек — бытовое название сотрудника службы безопасности (от Управления безопасности, УБ).
37
Кашубы — западнославянская этническая группа, проживающая на севере Польши.
38
В Польше, где культ Богородицы носит всеобщий характер, титул «Пресвятая Дева Мария, Царица Польской Короны» впервые появился во второй половине XVI века; в 1909 г. декретом папы Пия X разрешено было в мае отмечать ее праздник; в 1923 г. Священная конгрегация обрядов назначила датой праздника 3 мая (День Конституции) и официально включила в текст литании формулу «Царица Польской Короны», после Второй мировой войны замененную на «Царица Польши».
39
Пирог в форме венка; крендель (нем.).
40
Филипп Розенталь (1855–1937) — немецкий промышленник и проектант, основатель знаменитой фарфоровой мануфактуры «Розенталь» (1889).
41
«Жертвы Декабря» — речь идет о событиях 14–22 декабря 1970 г., когда массовые антиправительственные выступления рабочих на Балтийском побережье ПНР были подавлены милицией и войсками; по официальным данным 45 человек были убиты и более тысячи ранены. После «декабрьских событий» в Польше произошла смена партийного и государственного руководства; на декабрьском пленуме ЦК Польской объединенной рабочей партии Владислав Гомулка (1905–1982) был смещен и первым секретарем ЦК ПОРП избран Эдвард Герек (1913–2001).
42
Речь идет о варшавском Восточном вокзале, расположенном в районе Прага на правом берегу Вислы.
43
Фольксдойче — в годы фашистской оккупации восточноевропейских стран лицо, внесенное в специальный список граждан немецкого происхождения и обладавшее значительными привилегиями по сравнению с автохтонным населением.
44
Цадик — праведник (ивр.); у хасидов цадик, или ребе, — титул духовного вождя общины, наставника.
45
Ермолка, кипа или кипа — традиционный головной убор религиозного еврея: маленькая круглая шапочка, прилегающая к голове; может носиться отдельно или под шляпой.
46
Владислав Эугениуш Сикорский (1881–1943) — военный и политический деятель, во время Второй мировой войны главнокомандующий Польскими вооруженными силами и премьер-министр лондонского правительства в изгнании. Зофья Сикорская-Леснёвская (1912–1943) — дочь В. Сикорского, с января 1940 г. постоянно сопутствовала отцу в качестве секретаря, переводчика и советника; погибла вместе с ним в авиакатастрофе над Гибралтаром.
47
В Демблине с 1929 г. находился Центр подготовки офицеров авиации (сейчас — Высшее военное авиационное училище).
48
Станислав Сойчинский (1910–1947) — создатель и руководитель одной из самых активных организаций послевоенного антикоммунистического подполья (см. примеч. 93).
49
В Польше традиционно существуют особые женские формы фамилий; для незамужней дочери фамилия образуется путем прибавления к фамилии отца окончания -увна (-ювна) или -анка (-янка).
50
Станислав Понятовский (1676–1762) — государственный и военный деятель Речи Посполитой; Станислав Август Понятовский (1732–1798) — последний король польский и великий князь литовский (1764–1795), сын Станислава.
51
В июле 1944 г., когда Красная армия, преследуя отступающие немецкие войска, вступила на территорию Польши, в Люблине был создан просоветский Польский комитет национального освобождения (ПКНО), 31 декабря 1944 г. преобразованный во Временное правительство Польской республики.
52
См. примеч. 51.
53
В 1943 г. в СССР активистами Союза польских патриотов из польских граждан и граждан СССР — поляков по происхождению была сформирована 1-я Варшавская польская пехотная дивизия им. Тадеуша Костюшко; в марте 1944 г. 1-я дивизия вместе с другими польскими частями на территории СССР вошла в состав 1-й армии Войска Польского; в июле 1944 г. 1-я армия была объединена с партизанской Армией Людовой (АЛ — военная организация Польской рабочей партии, действовавшая в 1944–1945 гг. на оккупированных Третьим рейхом польских территориях) в единое Войско Польское, участвовавшее в освобождении Польши (в частности, Варшавы), штурме Поморского вала и в боях на территории Германии.
54
Конфедератка — традиционный национальный головной убор: фуражка с четырехугольным верхом; после обретения Польшей независимости (1918 г.) введена в армии как всеобщий головной убор с кокардой (одноглавый орел в короне; в 1945 г. заменен на орла без короны) на тулье; отменена в 1950 г. и вновь введена в 1990 г.
55
На территории Польши (главным образом в восточных районах) по окончании войны и до начала 50-х гг. действовали подпольные вооруженные формирования, целью которых была борьба с польскими коммунистическими силами и предотвращение их прихода к власти. Партизанские («лесные») отряды нападали на коммунистов, на работников органов безопасности и милиции, ликвидировали сотрудничавших с властями активистов; некоторые отряды расстреливали евреев.
56
Речь идет об акциях антикоммунистического подполья в послевоенной Польше.
57
Карпатская стрелковая бригада, по инициативе польского правительства в изгнании сформированная в апреле 1940 г. в Сирии из польских солдат и офицеров, принимала участие в обороне осажденного немцами ливийского городка Тобрук (апрель — ноябрь 1941).
58
См. примеч. 53.
59
Ванда Василевская (1905–1964) — писательница, общественный деятель, польская коммунистка, с 1939 г. советская гражданка; с 1943 по 1945 г. — председатель Союза польских патриотов, в 1944 г. — заместитель председателя ПКНО; с 1945 г. жила в Киеве.
60
В ряде государств-участников Второй мировой войны было введено нормированное карточное распределение основных продовольственных товаров; в СССР карточная система существовала с июля 1941 г. по декабрь 1947 г.
61
В тексте по-русски; здесь и далее русский текст выделен курсивом.
62
После раздела Польши между Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 г. органами НКВД были проведены массовые депортации населения из западноукраинских и западнобелорусских земель в Сибирь, на Алтай и в степные районы Казахстана.
63
Патриотическая песня на слова стихотворения Марии Конопницкой «Присяга» (1908).
64
Королевский замок в Люблине (начало строительства — XII в.). В 1831–1915 гг. — царская тюрьма, преимущественно для участников борьбы за независимость; в межвоенный период (1918–1939), наряду с уголовными преступниками, там содержались деятели коммунистической партии; во время немецкой оккупации — тюрьма, через которую прошло ок. 40 000 человек, в основном участников Сопротивления; 22 июля 1944 г., перед отступлением из города, фашисты совершили массовое убийство 300 заключенных Замка.
65
Вышков — город в 55 км к востоку от Варшавы; в 1920 г. там располагался Временный революционный комитет Польши (Польревком, возглавляемый Юлианом Мархлевским), сформированный во время польско-большевистской войны (1919–1921). Польревком должен был осуществлять функции правительства в подконтрольной большевикам части Польши и принять на себя всю полноту власти после взятия Варшавы и свержения Пилсудского, однако в конце августа в битве под Варшавой войска Красной Армии потерпели поражение и понесли тяжелые потери.
66
Дом приходского священника.
67
Юзеф Уншлихт (Иосиф Станиславович Уншлихт; 1879–1938) — деятель польской социал-демократической партии (СДКПиЛ) и ВКП(б), один из создателей органов государственной безопасности ВЧК — ГПУ; в 1937 г. арестован; расстрелян.
68
Станислав Францевич Реденс (1892–1940) — деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД, комиссар государственной безопасности 1-го ранга; руководил развертыванием массового террора в Москве и Подмосковье; один из организаторов сфабрикованного процесса над Зиновьевым и Каменевым, процесса по делу Рютина, репрессий в РККА в 1937–1938 гг.; в 1938 г. арестован; расстрелян.
69
Анна Сергеевна Реденс (Аллилуева) (1896–1964) — сестра Надежды Аллилуевой, второй жены Сталина. В 1948 г. была арестована и осуждена «за шпионаж»; в 1954 г. реабилитирована.
70
Тритмент — последовательное изложение истории, которая рассказывается в будущем сценарии.
71
См. примеч. 53.
72
ЗОМО — моторизованные резервные части гражданской милиции. Созданы в 1956 г. для наведения порядка в исключительных ситуациях (напр., при массовых нарушениях общественного порядка), а также для помощи населению во время стихийных бедствий и охраны массовых мероприятий; в 80-е гг. применялись в основном для разгона оппозиционных манифестаций; распущены в сентябре 1989 г.
73
ППШ — 7,62-мм пистолет-пулемет образца 1941 г. системы Шпагина; был основным пистолетом-пулеметом советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне.
74
Зигмунт Хенрик Берлинг (1896–1980) — генерал, командующий 1-й польской пехотной дивизией им. Тадеуша Костюшко, а с июля 1944-го — командующий 1-й армией Войска Польского.
75
В июне 1979 г. папа римский Иоанн Павел II впервые после избрания совершил девятидневную поездку на родину. В Варшаве на площади Победы, рядом с могилой Неизвестного солдата, состоялась торжественная месса, специально для которой был воздвигнут огромный алтарь с крестом.
76
Музей истории польских евреев в Варшаве был частично открыт 19 апреля 2013 г., в семидесятую годовщину восстания в Варшавском гетто.
77
Еврейская лавка (идиш).
78
А. Мицкевич. «Путники» (пер. О. Колычева).
79
В Австро-Венгерской империи сокращение от императорско-королевский: c.i.k (c.k) — cesarsko-krolewski (польск.); k.u.k — kaiserlich und koniglich (нем.).
80
«Пианист» — фильм Романа Поланского (2002), где рассказана реальная история выдающегося польского пианиста еврейского происхождения Владислава Шпильмана, чудом выжившего в гетто, а затем среди развалин Варшавы.
81
См. примеч. 22.
82
Масада — древняя крепость на вершине горы у юго-западного побережья Мертвого моря, ставшая последним оплотом зелотов во время антиримского восстания 66–73 гг. н. э.: не желая сдаваться римлянам, защитники крепости покончили жизнь самоубийством. Зелоты — общее название радикальных течений в освободительном движении последнего столетия эпохи Второго храма.
83
Картофельные клецки (польск.).
84
Заключенный, арестант (нем.).
85
Умшлагплац (нем.) — перевалочный пункт; в гетто обычно площадь или другое открытое место, где решалось, кого отправить на смерть, а кто еще годен для работы. В Варшавском гетто в здании школы рядом с Умшлагплац с 1942 г. находилась детская больница.
86
Бронислава (1200–1259) — монахиня ордена норбертанок; в 1839 г. причислена к лику блаженных.
87
Шмальцовниками во время оккупации называли вымогателей, под угрозой доноса требовавших деньги у скрывающихся евреев и помогающих им поляков (от польск. разг. szmalec — выкуп; нем. разг. Schmalz — взятка).
88
Удостоверение личности, документ (от нем. Ausweis).
89
Католическая молитва («Ангел Господень возвестил Марии, и она зачала от Духа Святого. Радуйся, Мария…»); читается трижды в день.
90
Старинное варшавское кладбище (основано в 1884 г.), одно из самых больших в Европе.
91
Внутривенный катетер.
92
Эта часть была написана после выхода в свет первого издания «Белой Марии». (Примеч. автора.)
93
Станислав Сойчинский (псевдоним Варшиц; 1910–1947) — по профессии учитель, с 1934 г. преподавал польский язык в сельской школе, в чине подпоручика принимал участие в сентябрьской кампании 1939 г., во время нацистской оккупации сражался в рядах Армии Крайовой (округ Радомско), организовал первый в округе партизанский отряд, затем командовал батальоном, в январе 1945 г. получил звание капитана. После вступления на территорию Польши Красной Армии не сложил оружия, создал подпольную организацию («Подпольное Войско Польское», ок. 4000 членов), целью которой была «борьба с преступной деятельностью коммунистических властей и защита общества и бойцов независимого подполья от террора органов безопасности» (первой жертвой организации стал Якуб Цукерман, следователь УБ). Арестован 27 июня 1946 г. вместе со связной Халиной Пикульской (псевдоним «Эва»), расстрелян (вместе с пятью подчиненными) 19 февраля 1947 г. в Лодзи, за три дня до объявления амнистии.
94
Ханка Ордонувна (псевд. Ордонка; 1902–1950) — популярная певица и автор песен, танцовщица, актриса.
95
Вскоре после начала Второй мировой войны (17 сентября 1939 г.) войска Красной Армии перешли советско-польскую границу, «чтобы взять под свою защиту жизни и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии», а также «вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут его неразумными руководителями». За вторжением последовал раздел территории Польши между Германией и Советским Союзом.
96
Тадеуш Ружевич (р. 1921–2014) — выдающийся поэт, драматург, прозаик (см. также примеч. в конце книги).
Тадеуш Ружевич, о котором идет речь в 4-й и 5-й главах, начал печататься с семнадцати лет. В годы Второй мировой войны вместе со старшим братом Янушем участвовал в партизанском движении в составе Армии Крайовой; в 1944 г. Януш был схвачен и казнен гестапо. Т. Ружевич в своей книге «Наш старший брат» так пишет о процитированном на с. 113 стихотворении: «В бумагах, оставшихся от моего брата Януша, я нашел стихотворение, в котором кое-что изменил. Получилось наше общее произведение, а поскольку оригинал потерялся, сейчас я уже не могу определить, где Его, а где мои строки. Подписал стихи я инициалами наших подпольных псевдонимов: Збышек и Сатир».
97
Фридрих Ницше «Ессе Homo. Как становятся сами собою».
98
Польская рабочая партия.
99
Эмманюэль Левинас (1906–1995) — французский философ, комментатор Талмуда; в частности, автор книги «Время и Другой. Гуманизм другого человека».
100
На полигоне в районе Брус на окраине Лодзи находятся массовые захоронения поляков, убитых немцами во время Второй мировой войны, а также, предположительно, могилы жертв политических репрессий 40-50-х гг.
101
Немецкий лагерь для военнопленных польских офицеров близ города Мурнау (Бавария).
102
Владислав Андерс (1892–1970) — военный и политический деятель, генерал (см. также примеч. в конце книги).
Во время Второй мировой войны советским правительством и польским военным и политическим деятелем генералом Владиславом Андерсом (1892–1970) по соглашению с польским правительством в изгнании было создано (1941–1942) воинское формирование, куда вошли польские граждане, находившиеся на территории СССР (в том числе, беженцы, интернированные военнослужащие польской армии и амнистированные заключенные). В период с марта по сентябрь 1942 г. части армии Андерса были эвакуированы из Советского Союза в Иран, а июле 1943 г. переформированы во 2-й Польский корпус в составе британской армии и до окончания войны воевали в Италии, в частности, героически сражались в битве при Монте-Кассино.
103
Героиня фильма «Допрос» (1982; автор сценария и режиссер Рышард Бугайский; в главной роли Кристина Янда) — молодая женщина, которую в эпоху сталинизма арестовали только для того, чтобы получить от нее показания против бывшего офицера АК; фильм был запрещен цензурой и пролежал на полке до 1989 г.
104
«Камни на шанец» — основанная на реальных событиях повесть Александра Каминского (1903–1978; педагог, историк, деятель харцерского движения [харцеры — польские скауты], во время войны участник Сопротивления); герои повести — члены подпольной харцерской организации, которые в знаменитой «Акции у Арсенала» (26 марта 1943) отбили у гестаповцев одного из своих руководителей и еще 25 политзаключенных. Название «Камни на шанец» (дословный перевод) заимствовано из стихотворения Юлиуша Словацкого «Мое завещание»; в переводе Б. Пастернака соответствующая строфа звучит так: «В заключенье — живите, служите народу, /Не теряйте надежды, чтоб ночь побороть./ А придется, каменьями падайте в воду/ В светлой вере: те камни кидает господь».
105
Аппликант — выпускник юридического учебного заведения, проходящий стажировку по какой-либо из юридических специальностей.
106
Крайова рада народова (Государственный национальный совет, ГНС) — политическая организация, созданная Польской рабочей партией во время Второй мировой войны (1 января 1944 г.) в качестве представительного органа национально-патриотических и антифашистских сил с перспективой преобразования в парламент; прекратила свою деятельность 4 февраля 1947 г. после избрания Сейма (однопалатного парламента) Польской народной республики (1947–1989); первым и единственным председателем ГНС был Болеслав Берут (см. прим. 10).
107
Особые уголовные суды по делам нацистских преступников действовали в Польше с сентября 1944-го по октябрь 1946 г.
108
Войцех Коссак (1857–1942) — художник-баталист; Яцек Мальчевский (1854–1929) — художник, представитель модернизма и символизма в живописи.
109
Тюрьма на улице Монтелюпих в Кракове — бывшая казарма, в помещении которой австрийские власти в 1905 г. разместили военный суд и затем тюрьму; во время Второй мировой войны — тюрьма гестапо, через которую с 1940-го по 1944 г. прошло около 50 тыс. заключенных, преимущественно поляков и евреев; после 1945 г. — тюрьма Министерства безопасности Польши и НКВД, где содержались политические заключенные и противники коммунистического режима; сейчас в этом здании находится следственное управление.
110
Ясна Гура (Ясная Гора) — католический монастырь в городе Ченстохова, главный объект религиозного паломничества в Польше; в монастыре хранится древний чудотворный образ Божией Матери Ченстоховской, которая почитается как величайшая реликвия.
111
Еврей (нем.).
112
Всемирное спортивное общество «Маккаби» — международная еврейская спортивная организация, названная в честь исторического героя еврейского народа Иегуды Маккавея. В Польше спортивные клубы «Маккаби» начали создаваться в самом начале XX в.
Последние комментарии
10 часов 59 минут назад
15 часов 7 минут назад
15 часов 24 минут назад
15 часов 44 минут назад
18 часов 26 минут назад
1 день 1 час назад